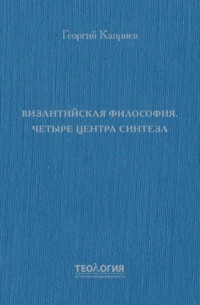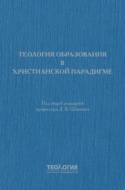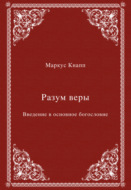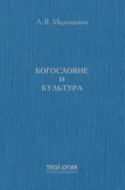Loe raamatut: «Византийская философия. Четыре центра синтеза», lehekülg 3
Евагрий Понтийский
Евагрий Понтийский (345–399) был поставлен в чтеца св. Василием Великим и рукоположен в диакона св. Григорием Богословом, которого он сопровождал в Константинополь в 381 г. и считал своим учителем. Пережив в Константинополе любовную историю, Евагрий оставил столицу и в 383 г. объявился в качестве кающегося грешника в Египте, где вел отшельническую жизнь в пустыне. В последнее десятилетие жизни он прославился как великий учитель духовных жизненных практик. Вопреки его близости к каппадокийцам, взгляды Евагрия сформировались под влиянием характерных для александрийской школы учений, прежде всего, учения Оригена, сыгравшего важную роль в выстраивании общего стиля мышления монахов-пустынников. Евагрий систематизировал и одновременно радикализировал это наследие55.
Метафизика и теология Евагрия имеют откровенно оригенистский характер. Первоначально имелась одна Генада, близ нее пребывали в неподвижности разумные и мыслящие сущие (чистые умы), созданные по образу и подобию Божию. Они были способны познавать Бога-Троицу, Который по Своей сущности есть Единица, или Монада. Однако по небрежению, «пресытившись» созерцанием Монады, они пришли в движение и уничтожили единение между собой, равно как и сущностное богопознание, впав в различные степени невежества относительно Бога. Духи стали душами. Душа – это деформация ума. Бог по милосердию Своему создал для умов тела и мир; они постигаются как собственно творение – второе творение, отличное от творения самих разумных сущих. Тело и мир суть зло, но также и орудия спасения умов. Здесь умы должны прилагать усилия к восстановлению своей боговидности, от которой отпали: образ Божий – не то, что состоит из четырех элементов, а то, что способно познавать Св. Троицу. В состоянии телесности, однако, умы не могут обрести сущностного знания; им доступно одно лишь созерцание, соответствующее такому состоянию. Сам Христос есть чистый ум, пребывающий близ Генады и несущий бремя решающей роли в спасении. Цель аскета – совершенствование «в подражании Христу», Который рассматривается как образец устоявшего в своем первоначальном состоянии ума. В эсхатологической перспективе умы полностью совлекутся тел и материи и восстановят свое равенство со Христом в причастности к сущностному богопознанию, т. е. в единении с Монадой56.
Непременным предварительным условием начала восхождения душ к умам и освобождения их от телесности и материи должно быть бегство от мира и жизнь в затворничестве – ἡσυχία. В Евагрии видели первого учителя исихазма, а его учение об умной молитве, связанной с борьбой против страстей, считалось основой исихастской духовности и мистического богословия в Византии. Восхождение душ совершается через три вида христианской жизни, установленные Оригеном. Их можно понимать также как стадии или уровни, если не забывать о том, что здесь речь идет не об элементарном восхождении со ступени на ступень, при котором высший уровень «снимает» низший, а о процессах, существующих даже при наличии всех трех уровней и сопровождающих всю жизнь христианина.
Первый – уровень практики (τὰ πρακτικά) вкупе с сосредоточенностью на заповедях Божиих. Это уровень очищения и восхождения по лествице добродетелей, внизу которой находится вера, а вверху – бесстрастие и любовь. Бесстрастие (ἀπάθεια) означает достижение независимости от человеческой природы и полную невозмутимость перед миром. Бесстрастие – не пассивное состояние. В области духовной жизни, где оно осуществляется, больше нет противопоставления пассивного и активного. Восстановивший свою целостность ум не «подлежит» ничему, но и не является активным в обыденном смысле слова. Он бдителен. Уму в его цельности свойственны трезвение (νῆψις), сердечное внимание (καρδιακὴ προσοχή) и способность различения и суждения (διάκρισις). Это врата познания, или созерцания (γνῶσις, τὰ γνωστικά).
Со своей стороны, созерцание делится на две стадии. Первую стадию и второй уровень жизни образует естественное созерцание (φυσικὴ θεορία). В нем созерцаются логосы телесных и духовных вещей, их природные основания. В таком созерцании преобразуются как душа, так и тело.
Третий уровень жизни и вторая стадия созерцания – это теология (θεολογία), или созерцание Бога в Логосе со стороны пневматичного, духовного человека. Здесь Бог созерцается в экстазе и даже в отчуждении (ἐκδημία) от себя, безо́бразно и безмысленно (Евагрий отвергает любые видимые теофании как дьявольские иллюзии): сам чистый (голый) ум становится местом Божиим. При этом, в отличие от Оригена, который говорил, что в этом состоянии созерцается божественная природа, Евагрий хотя и упоминает созерцание Св. Троицы, однако не склонен настаивать на достижении познания божественной сущности. Скорее он описывает созерцание некоего бесформенного света, который есть свет Св. Троицы. Это верно, что он нигде не проводит различения между природой Бога и сущностным светом. Однако верно и то, что выражение «Бог сам по Себе непознаваем» принадлежит именно Евагрию.
Теологический уровень созерцания Евагрий называл также «чистой молитвой» (προσευχή); благодаря своим размышлениям он стал первым крупным кодификатором монашеского учения об индивидуальной молитве, составляющей важный позитивный элемент христианской духовности и абсолютно необходимый компонент всей аскетической практики. В чистой молитве, благодатно подаваемой свыше, необходимо отстранение от всего, что формировало ум до сих пор. На данном уровне все это начинает мешать. Молитва есть высшее познание, где чистый ум в этом своем совершенном состоянии беседует с Богом. Евагрий категорически отвергал материалистический мистицизм (принятый у осужденных в 383 г. мессалиан) и практиковал мистицизм чисто интеллектуальный, который вскоре и сам будет подвергнут исправлению со стороны монашеских духовных вождей57.
Последователи и критики Евагрия
Видимо, еще св. Макарий Египетский, наставник Евагрия в скиту, утверждал, что в общение с Богом вступает весь человек, а не только его интеллект; так что освобождение ума от тела начинает выглядеть сомнительным и, во всяком случае, ненужным. Если Евагрий склонен помещать созерцание вне материи и вне истории, то св. Макарий настаивал на том, что лучи Царствия Божия пронизывают весь видимый мир. Для него приходивший в мир исторический Христос, присутствующий в таинствах Церкви, – единственное средоточие духовной жизни монаха, а центральная часть человека для св. Макария – не ум, но сердце, а именно сердце, исполненное божественной благодати. Даже у Дидима Слепца (ок. 310 – ок. 398) заметно одно ограничение оригеновского интеллектуализма. Дидим сохраняет тенденцию к интеллектуализации духовных чувств и полное исключение библейского антропоморфизма в речах о Боге. Но вершиной интеллектуального созерцания у него является не божественная сущность; он имеет в виду уже сверхсущностную сущность, и в этом смысле природа Троицы остается непознаваемой тварным познанием, включая познание ангелов58.
Действительное исправление учения Евагрия связано, однако, с двумя другими именами. Св. Диадох, епископ Фотикийский в Эпире († до 486), акцентировал личный характер молитвы, а вместе с тем и сакраментальную жизнь, и включил учение об исихии в библейскую перспективу истории, с ее основными элементами: падением, спасением, будущей причастностью к славе Божией. При нем интеллектуальная молитва Евагрия трансформировалась в «Иисусову молитву», где Христос был не просто образцом для подражания, а прямым объектом молитвенной устремленности. Речь шла уже не о совлечение материи, а о единении с воплотившимся Богом в духе и в теле. Единство души и тела преобразуется и просветляется нетварным божественным светом, Божией благодатью.
Как у Диадоха, так и у св. Иоанна Лествичника (ок. 575 – ок. 650), названного так по его самому известному сочинению «Лествица в рай», «умная молитва» Евагрия преобразилась в «сердечную молитву», личную молитву, обращенную к воплотившемуся Слову.
Св. Иоанн пишет только для монахов и выстраивает детальную систему монашеского образа жизни и монашеской духовности. При описании тридцати ступеней лестницы, ведущей к совершенству, он использует интеллектуалистский словарь Евагрия, но центр у него размещается в другом направлении. Подчеркивается значение тела в молитве, причем Иисусова молитва составляет средоточие всей исихастской духовности. Сосредоточенность на имени Иисуса связана с отвержением любых чувственных образов. Иисус пребывает в сердце монаха и формирует его существование. Световое видение на вершине духовного постижения – не эффект воображения и не символ, а истинная теофания, подобная теофании на горе Фавор, где явилось в своей реальности само обо́женное тело Христа. На первой ступени совершенства исходным пунктом служит послушание, преображение воли, преодоление страстности в самой воле. Далее путь пролегает через покаяние, памятование о смерти, смирение. Цель внутреннего подвига – бесстрастие, а его предел – священнобезмолвие, исихия, предполагающая полную сосредоточенность на монологе, на призывании Христа. Весь ум собирается в предстоянии пред Богом, так что молитва в своем совершенстве есть духовный дар, вид нисхождения Духа: сам Дух есть Тот, Кто молится. В душе звучит глас Самого Бога, и она несет в себе Слово – ее тайноводителя, наставника и просветителя. На этом уровне человеческая природа отбрасывается не из-за некой ее злотворности, а ради постижения внеприродных благ. Естественное уходит ради сверхъестественного.
Св. Иоанн Лествичник оказал огромное влияние как на общежительных монахов, так и на отшельников. Синайская духовность приобрела общезначимость; через нее свою определенную форму принял исихазм. К VI в. налицо оказались все предпосылки для перехода к синтезу монашеской духовности и интеллектуальной систематики христианства59.
Св. Кирилл Александрийский
Будучи эпохой описанных до сих пор процессов, V и VI вв. остаются в истории христианского учения также временем ожесточенных догматических споров в сфере христологии, явивших всем небесспорность целого ряда основных христологических понятий. Аналитическая мысль принялась за их разработку и уточнение.
Пожалуй, самым крупным предхалкидонским авторитетом здесь был св. Кирилл, патриарх Александрийский (375/380–444). Занявший патриарший престол в 412 г. Кирилл был самым активным оппонентом Константинопольского патриарха Нестория (с 428) и своими многочисленными произведениями в большой мере подготовил то понимание, которое получило статус догмата в 451 г. на Четвертом Вселенском Соборе.
Триадология св. Кирилла выдержана всецело в духе отцов IV в. «Несамостоятельность» его троичного исповедания ясно свидетельствует о том, что богословская борьба по этому вопросу завершилась. Внимание «последних великих александрийцев» сосредоточено исключительно на проблемах христологии и сотериологии. Св. Кирилл утверждал, что в едином Лице, или ипостаси, Христа Слово есть нечто одно со своей плотью: Христос – не «один и другой», а «единый из двух», и к нему относится все сказанное в Евангелии об Иисусе. Две природы в нем не сливаются и не смешиваются, а пребывают неслитно и неизменно. Здесь приводится также сравнение с душой и телом в человеке; признание или отвержение этого сравнения прочерчивает контуры дальнейшей долгой истории. Христос – человек не только по видимости, хотя и не просто (ψιλός) человек. Он есть человек истинный и природный, обладающий всем, что свойственно человеку, кроме греха. Однако человеческая природа в Нем присутствует не от себя и не сама по себе, а в субъектном единстве Христа, категорически не допускающем возможности разделить Иисуса на два лица – божественное и человеческое.
До конца не установившаяся или, скорее, специфическая христологическая терминология св. Кирилла создала проблемы немалому числу его непосредственных продолжателей. Дело в том, что св. Кирилл часто употреблял выражение «одна воплощенная природа Бога Слова», соблазнявшее к подвижкам в направлении монофизитства. Однако в действительности св. Кирилл отождествлял «природу» и «сущность» только по отношению к Троице, тогда как в христологии понятия «природа», «ипостась» и «лицо» использовались как синонимы «самодостаточной индивидуальности». В письме к епискому Мелитинскому Акакию св. Кирилл высказывает свои сомнения при употреблении «природы» относительно человечества Христа, предпочитая говорить о «двух природах» в Нем только в порядке мышления: ведь если понятие «природа» брать в собственном смысле, оно означает нечто существующее в себе и от себя. Отсюда ясно, что в спорной формуле, говоря об «одной природе», св. Кирилл защищал не наличие некой единой сущности Христа, а только единство Лица.
Сотериология св. Кирилла основана всецело на факте и характере боговоплощения, где обожение рассматривается как цель всего сотворенного и где «быть обоженным» означает быть пронизанным божественностью, как железо бывает пронизано огнем. Человек обоживается Сыном в Духе Святом, который делает его подобным Сыну – совершенному образу Отца. Человек становится сыном Божиим по причастности и благодати. Обожение представляет собой не одномоментный акт, а процесс, сопровождаемый все более совершенным богопознанием. Самое полное выражение этот процесс находит в таинстве Евхаристии, где взаимопроникновение божества и человечества во Христе, обоживающее человеческую природу, преобразует людей через их внутреннее единение со Христом. Тело Христово, утверждал св. Кирилл, животворит не само по себе, а благодаря единению со Словом. Есть различие между единением человечества и божества во Христе и единением человека и Бога в Евхаристии: первое – природно, второе – относительно, поскольку сохраняется самостоятельность обеих ипостасей. И в обоих случаях речь идет не о субстанциальном изменении, а об обмене сущностными энергиями60.
Послехалкидонские споры
Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне (451 г.) принял догмат о двух естествах в едином Лице Иисуса Христа. Догмат указывал на то, что единый и сущий Христос совершенен по божеству и по человечеству, единосущен Отцу по божеству, а нам – по человечеству, Бог истинный и человек истинный, состоящий из разумной души и тела. Христос пребывает в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, причем сохраняет свойства каждого из двух, соединенных в одном Лице и одной ипостаси. Но как Никейский Собор лишь положил начало тринитарным спорам, так и теперь Халкидонский Собор лишь открыл, а не закрыл христологический период в богословии61.
Халкидонский Собор ввел в христологию тринитарную терминологию «природы» и «ипостаси»; при этом две терминологические системы употреблялись параллельно, но не совместно, вплоть до конца V в. Затруднения испытывали как сторонники, так и противники соборного определения. Например, Халкидонский Собор не декларировал особо, что ипостась Христа есть тринитарная ипостась Сына (это положение было закреплено лишь на Пятом Вселенском Соборе 553 г.). Реальную проблему, однако, составляла неполная содержательная определенность самого понятия «ипостась». Стала явной необходимость сочетания двух систем в дефинициях и нужда в более точной и более формальной артикуляции при введении тринитарных и христологических догматов62. Эта работа была завершена в VI в.
Каппадокийское понятие «ипостась», закрепленное св. Василием Великим или, скорее, св. Григорием Нисским63, в его приложении к христологии оставило открытым один вопрос. Определение ипостаси через ипостасные свойства создает затруднение при осмыслении человечества Христа в ипостасном соединении. У человеческой природы Христа нет собственной ипостаси. Но так как «ипостась» понимается как термин, связанный с конкретными характерными признаками, этой природе в таком случае вообще не следовало бы иметь величину, цвет и т. д.; а это ведет к деконкретизации человечества Христа за счет Его божественных свойств64. Действительно, православное учение самим исповеданием «безыпостасности» человечества признает определенную асимметрию в богочеловеческом единстве. Христос не есть просто человек, Он не «воспринял» человека, а стал человеком. Однако из автоматического приложения каппадокийского толкования «ипостаси» следовала чрезмерная асимметричность между двумя природами.
Быть может, именно поэтому Иоанн Грамматик, по прозванию Филопон († после 570), монофизитствующий тритеист и автор учения о воскресении, осужденного в 680–681 гг., в своей написанной между 514 и 518 гг. апологии Халкидона акцентировал при толковании ипостаси не характеризующие ее свойства, а «бытие согласно самому себе» (καθ' ἑαυτὸ εἶναι). Филопон представил момент самостоятельности в качестве конститутивного для ипостаси и таковым вовлек его в христологическую рефлексию. Здесь речь идет не о двух абсолютно разных дефинициях ипостаси, а о двух разных, но не исключающих друг друга аспектах обозначения через «ипостась»65.
Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский
Действительно продуктивное утверждение расширенной дефиниции «ипостаси» и следствий этого расширения стало делом Леонтия Византийского (до 500–543) и его кодификатора и продолжателя Леонтия Иерусалимского. До недавнего времени Леонтия Византийского считали тем человеком, который ввел аристотелизм в греческое мышление о Боге и по причине своего силлогистического метода заслужил титул «первого схоласта в греческом богословии», положив в нем начало новой умозрительной фазе66. Сегодня такая оценка требует нюансировки и релятивизации. Тем не менее остается бесспорным, что его работа с понятиями, в существенной мере основанная на диалектике Аристотеля, оказала решающее влияние на первый период византийской философии. Именно Леонтий преодолевает первоначальное напряжение между определением ипостаси через характерные признаки и через ее самостоятельность, достигнув формальной конвергенции καθ' ἕκαστον (согласно каждому) и καθ' ἑαυτόν (согласно самому себе).
При синтезировании двух аспектов ипостаси стало возможным непротиворечиво обозначить уже не только некоторое сущее отдельно от некоторой природы, но и такое сущее, которое состоит из разных природ. Расширение понятия высветило этот уровень в конституции ипостаси: уровень, находящийся выше отдельных природ. Отсюда стало возможным и умозрительное выведение того факта, что Слово приняло в Себя человеческую природу, причем в ее собственной бытийности: в том статусе, каким обладает природа как таковая, ее логос не оказывает влияния на ее ипостасную актуализацию.
Отсюда уже можно прийти к тому уточнению, что воспринятая Логосом человеческая природа усвоена не как вид, или видовая природа, не как природа, к которой причастны все человеческие индивиды. Нет, она усвоена как «индивидуальная», или «отдельная и неделимая природа», ибо у Слова нет другой ипостаси. Воспринят был не общий человек, а целый человек. Что касается вопроса об индивидуации, здесь Леонтий провел весьма тонкое различение: общее понятие и видовая природа (φύσις ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένη – природа, созерцаемая в общем понятии) конкретно существует, однако только как природа некоторого определенного сущего (φύσις ἐν τῷ ἀτόμῳ θεωρουμένη – природа, созерцаемая в индивиде). Специфическое понятие для самостоятельной индивидуальности, или субсистентности, есть ипостась. У Леонтия Византийского, как и у св. Григория Нисского, самостоятельное сущее выражается как понятием ὑπόστασις, так и понятием ἄτομον, которое не следует путать с φύσις ἐν ἀτόμῳ – неделимой отдельной природой. Различие между общей и индивидуальной природами не нужно понимать так, словно природа была где-то предварительно индивидуализирована и лишь потом воспринята ипостасью Слова. Здесь речь идет о двух разных логических аспектах одной и той же бытийной реальности. Неделимая отдельная природа тоже обладает бытийной действительностью не в какой-то предсуществующей самостоятельности, а только в качестве субсистирующей в некоторой ипостаси. Воспринятая Словом неделимая отдельная человеческая природа обретает свою индивидуальность лишь от ипостасного единения с Лицом Логоса, однако Логос не рассматривается при этом как возможный индивид какого-то вида, общего для множества индивидов. Ипостасная самостоятельность Слова в составленности Христа есть предельный принцип как единения, так и индивидуальности. При таком понимании становится вполне естественным говорить о собственных свойствах человеческой природы во Христе, не прибегая к несторианской второй ипостаси67.
В связи с этим Леонтий Византийский вводит понятие, чаще всего соотносимое с его именем: «воипостасное» (ἐνυπόστατον). Обозначаемое им не совпадает ни с «ипостасью», ни с «сущностью», хотя в ипостаси и удостоверяется наличие определенных природ. Понятие «воипостасное» создано как коррелирующее с «безыпостасным», т. е. «не имеющим собственной ипостаси»: именно таким утверждается присутствие человеческой природы во Христе. «Безыпостасное» (ἀνυπόστατον) имеет два смысла: первый – нечто вообще не сущее, второй – имеющее бытие в чем-то ином, как, например, акциденции в субстанции. Второй смысл – единственный, который Леонтий Византийский влагает в термин «воипостасное». Тот допускает только два возможных способа множественного существования в связке «природа – ипостась»: единство различных ипостасей в одном эйдосе / виде или единство различных видовых природ в одной ипостаси. «Воипостасное» выражает состояние действительного бытия в ином: наличие одной сущности в ипостаси, в которой субсистирует другая сущность. Именно так ипостась Христа воипостазировала в себе неделимую отдельную человеческую природу, с которой божественная природа вступила в ипостасное соединение, не искажая этим природного логоса, сущностных свойств, сил или энергий обеих природ. Не подвергаясь изменениям, две природы взаимно проникают друг в друга (перихореза), так что через единение с Логосом плоть сама становится источником вливающейся во всецелую человечность божественной жизни.
У Леонтия Иерусалимского появляется еще одно понятие, не встречающееся в текстах Леонтия Византийского: «составная ипостась» (ὑπόστασις σύνθετος). В нем получает достаточно сильное выражение тот тезис, что единение природ во Христе свершилось на ипостасном, а не на природном уровне. Это понятие послехалкидонской теологии сделало возможной смысловую доступность догмата о неслитном и нераздельном единстве природ во Христе. Оба Леонтия утверждают, что Христос, всецело Бог и всецело человек, имеет Своими непосредственными частями Божество и человечество. Пока душа и тело остаются «частями частей», нет нужды упоминать их порознь. В то же время оба Леонтия настаивают на точной аналогии между ипостасным единством во Христе и единством души и тела в человеке. Это утверждение не только заключает в себе онтологическую неясность, но и свидетельствует о завышенной оценке ипостаси в отношении к природе. Уравновешивание этого отношения – проблема, решать которую будет следующее столетие68.