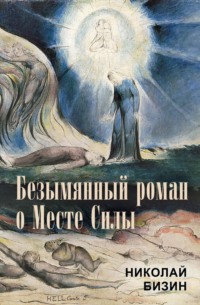Loe raamatut: «Безымянный роман о Месте Силы», lehekülg 2
Меня(!) – не услышали.
Выглядело это так, будто я промолчал; и правильно (бы) сделал! Я не бог (именно с прописной – в подчёркнуто языческом понимании).
Но(!) – негаданно пожилой выступант продолжил совсем иначе:
– Можно было выбрать, какой из смертей (или всеми сразу) он погиб, но – его семья долго ещё верила, что его карма выведет одну из его прижизненных реинкарнаций в нынешний Санкт-Ленинград вполне овеществлённо.
Странные слова. Заумные, не для штампованных суждений.
Безумием было бы предположить, что за их произнесением стоит некое Предопределение не только дальнейших со-Быти’й, но и самого обсуждаемого сейчас прошлого моей родины…
Странные слова… Разумеется, всё это (внешне) прозвучало не так.
Это я (то есть – всего лишь одно из моих «я») позволил себе приблизить видимое происходящее – к его метафизической сути; разумеется, у меня (одного из моих «меня – возо-мня о себе») получился настоящий миф с героями, равными (предположим) царю Гильгамешу или той же Орлеанской Деве.
– Вы скажете, Верховный спас нашу родину, и этим всё оправдано: бес-счётные смерти, бес-счётное горе…
Так прозвучало, и я продолжил:
– А так же бес-счётное счастье…
Наша Победа стала не просто эпосом (мифом) – она стала всеми миром сразу (без неё мира бы не было); и здесь я восхитился этой простой мысли:
Миф, который реален – ибо он был.
И я продолжил (о мифах):
– «Я не скажу за царя Гильгамеша», – скажете. – а вот Жанна из Домреми – вполне реальный, а не мифический персонаж.
Но это как посмотреть.
Внешне и тот, и другая – это настоящие Герои, как и 300 спартанцев или 28 панфиловцев.
Ведь кто есть Герой?
Это никакой не бог (в понимании – языческий божик), но – именно Человек Последней Правды, своей жизнью выразивший её до конца. И эта Последняя Правда никогда не выглядит идеальной.
Последняя Правда – это как долг перед Родиной или Страх Божий (страх потерять Бога); большего – никому не дано: ни человекам, ни богам, ни героям.
Ничего не дано, кроме долга; и будь что будет.
Не бывать ни Царём, ни демиургом; ты просто человек долга, и на тебе тоже сошлись линии многомерия… И всё-таки я слишком «заострился» на этом масштабировании (это от учителя черчения Бенуа); но – что же такое на самом деле я сейчас слышу в разговоре этих весьма пожилых людей о давних репрессиях?
А вот что: долгое эхо долга.
Оно раздаётся в пространстве мечущихся человеческих корпускул.
Оно пробивается сквозь корпоративные (всегда мафиозно-фашистские по своей сути) интересы местного чиновничества. Сквозь благородство и подлость (и просто быт) человеческого неустроенного общежития.
Оно – раздаётся; но – не как подаяние.
Как со-звучие. Со-озвуча’ние имён. Таких, как Жанна из Домреми и «моя» Жанна: я и не заметил, как произнесённое имя (словно бы) – стало уплотняться и даже приготовилось вступить в раз-говор.
Может, я бы заметил и удивился два-говору или три-говору.
А ещё меня продолжает удивлять, как наш нынешний Верховный меняет парадигму движения моей родины – без подобной (помянутым в раз-говоре в новоделе Грибоедова) зачистки «отживших» кадров.
Все эти партийные чистки, все эти взаимные людоедства т. н. «правящего класса», все эти погибели «старых большевиков» (и тогдашних, и нынешних), доросших до уровня местных или столичных феодалов… Это и есть смена парадигм – «как она есть».
Так или иначе – она подразумевает смену мышления у людей (иногда – как тогда: вместе с людьми).
Любой класс «власть имущих» – существует только (для-ради) воспроизводства самоё себя. В этом нет «настоящего будущего» – существуют лишь версификации «прошлых будущих»; в случае с Россией это чревато окончательной погибелью.
Я смотрел на пожилых людей, собранных в новоделе и (даже не) мыслящих новоделами (прошлых штампов).
Одному – тому самому сухому педанту (лучезарно-серого спектра аура), было около (или чуть более) семидесяти. Двум другим былинкам-мужчинам – за восемьдесят; все(!) – ангельским обликом простовато-лучезарны, любяще-загробны (более чем очевидно: вот-вот)…
Очень хорошая компания.
Для-ради обсуждения невыразимого (и неподсудного).
Повторю оче-видное: именно за этим овеществлением мифа и важна мне Орлеанская Дева (названная так вовсе не за снятие осады с Орлеана), эта некая Жанна из Домреми (воспитанная в этой деревне), сожжённая на рыночной площади города Руана «ведьма» и «еретичка» д’Арк.
В предыдущей фразе всё верно (почти), кроме написания глагола «сожжённая» – его сразу надо было брать в скобки.
Потому я, слушая страшную сказку о сталинских репрессиях, вспомнил именно о Жанне… А не о том, что среди реабилитированных и выпущенных при Хрущёве были не только генетические изуверы-бандеровцы, изначально предавшие душу (вместе со всей своей греко-каталической ересью) лукавому, но и (к примеру) конкретная администрация детского дома, на протяжении долгих лет грабившая своих подопечных.
Толстый папик-директор (оттуда же) – принуждавший к сожительству несовершеннолетнюю… И бездны подобного.
Кто пожалеет троцкиста-нечаевца, выковывателя нового человека из человеческого материала посредством ссылки на Соловки – отзовись первым; но (все же) – давайте-ка обсудим этот глагол «сожжённая»
– Стоп! – сказал я себе. – Параллели и меридианы этого глобуса оче-видны: сейчас ты углубишься в мистическое Средневековье, вскроешь корни волшебной сказки о Жанне д’Арк, восхитишься прови’дением манипуляторов той ситуации (а так же намекнёшь на сложности внутрипартийной борьбы в ВКПБ в двадцатые-тридцатые годы) и отвлечёшься от конкретных судеб конкретных «маленьких» людей.
Стало – ослепительно тихо.
Тишина – ждала и дождалась.
– Да, – сказал другой «я». – Непременно отвлекусь от внешности происходящего.
– Не надо. Не делай этого, – сказало мне моё настоящее «я».
Ослепительная тишина – не прервалась…
Даже тогда, когда…
– Вы о чём-то своём думаете? – поинтересовался кто-то из моих со-беседником.
Я улыбнулся, молча извинившись. Не только перед ними.
Но – тишине не были слышны мои извинения.
Каждое горе очевидных тех репрессий (как вершина стеклянной горы из сказки) – персонифицировано, словно бы овеществлено.
Какое кому дело, что какой-нибудь Со-лженицын – со-лжёт, умножая число репрессированных в десятки раз. Тогда как количество заключённых в США в то же время было гораздо (или не гораздо – не тем меримся) больше, чем у нас.
Какое мне дело до того, где ныне душа Со-лженицына? Я извинился лишь перед персонифицированным страданием.
Я, не страдавший, извинился.
Но личной вины я не признал, а зря: персонификация (во мне – тех событий) и мне не помешала бы.
Меж тем разговор плавно перетёк с темы на тему.
Одной плоскостью своего (ещё более плоского) со-Бытия – я бодро соучаствовал (иначе бы прошёл мимо моей со-вести). Другую плоскость своего всё более плоского со-бытия – я попробовал чуть-чуть провернуть вокруг тонкой оси (всех этих моих всё более плоских плоскостей).
Третью плоскость моего со-Бытия – я не трогал.
Иначе мне пришлось бы назвать происходящее всего лишь трёхмерной сказкой.
Нас (в этой комнате рас-суждения о репрессиях) – было всего-то четыре человека (я не считал себя: здесь я сказочник). А за нами ещё были все люди, живые и мёртвые (которых, как известно, у Бога нет).
Я (в этой компании и сам в себе – не будь со мной многомерия) мог показаться самым молодым.
В этой компании раз-говор – за-шёл о реальном, а я (сам в себе сказку рас-сказывая) – убегал в сакральное (и кто решит, что более насущно, пусть первый бросит в меня железный довод, облитый горечью и злостью).
Не то чтобы многовековой миф о девочке из народа, которую некие голоса побудили «спасти милую Францию», а неблагодарный король (на коронации которого она держала знамя) не выкупил её из плена у бургундцев (тогда – почти что не французов) и тем самым довёл дело до того, что её выдали англичанам.
А там инквизиция «сшила» своё дело, и «девочку из народа» прилюдно сожгли (чем не наши процессы тридцатых).
Таков финал настоящей-«будущей» (канонизируют её сотнями лет позже) святой.
И обращаюсь я к её имени не только потому, что оно звучит для меня (я невежда, признаюсь) гораздо прекрасней, нежели фамилия славного учителя черчения Бенуа (родственника основателя Мира Искусств), а ещё и потому, что все тогдашние интриги Английского, Французского и Бургундского правящих домов, а так же казуистика двух(!) имевших прямо противоположные результаты инквизиционных трибуналов (мне «наивному» – сквозь века) выглядят гораздо романтичней, нежели быстротечные заседания «троек» (я намеренно не вдаюсь в тонкости сталинского судопроизводства).
Первый трибунал (напомню) – не препятствовал Орлеанской Деве стать будущим символом возрождения Франции.
Второй трибунал (напомню) – прямо обвинил её в ереси и колдовстве, чем предопределил сожжение.
Не углубляясь в детали (к чёрту подробности): второй трибунал по составу мало чем отличался от первого.
Будет ещё третий трибунал, для признания святости.
Почти что через пятьсот лет, в 1920 голу. Согласитесь, для «тогдашней» Жанны он всё-всё(!) изменит.
Если, конечно, речь не о тонком (не путать с плоскостью) мире.
Итак – о репрессиях.
Итак – раз-говор перетёк в другую плоскость (но – не стал пока что ни два-говором, ни три-говором): со-бытия’ каждой личности продолжали присутствовать в «прошлом» раз-говоре.
А я вновь подумал об Орлеанской Деве.
Орлеанской её называли «задолго до Орлеана» – она была (по одной из версий) внебрачной дочерью то ли самого короля, то ли его брата.
Который как раз и звался принцем Орлеанским.
По другой версии – от украинского учёного (что уже почти смешно, но – рассмотрено быть должно) Сергея Горбенко настоящей Жанной д’Арк была Маргарита де Шампдивер, внебрачная дочь короля Карла VI и его последней любовницы Одетты де Шампдмевер.
Карл воспитал свою дочь как воина, поскольку два его сына в борьбе за трон были уничтожены сторонниками герцога Луи Орлеанского. (Сеть)
Зачем я об этом говорю (не только для-ради красоты имён и фамилий, например: Бенуа)?
А всё просто: любая номенклатура (особенно революционная) есть каста, в которую посторонним нет входа. А вот – в подтверждение: «Рассказы о почестях, оказываемых ей (Жанне Д’Арк, прим автора) при разных оказиях, кажутся противоречащими предположению о ее плебейском происхождении. Наверное, Робер Амбелен (Robert Ambelain, 1907–1997) – известный французский писатель, прославившийся своими связями с современными тайными обществами масонского и мартинистического толка, – был первым, кто решил связать ее прозвище «Орлеанская», под которым она фигурирует, например, в поэме Вольтера «Орлеанская девственница» (La Pucelle d’Orleans), с еще одним известным «Орлеанцем» – Орлеанским Бастардом (Le Batard d’Orleans, 1403–1468).
Орлеанский Бастард, или Жан Дюнуа, был незаконнорожденным сыном герцога Луи Орлеанского (Louis de Franc, Duc d’Orleans, 1372–1407) и Мариэтты Ангенской (Mariette d’Enghien). В своей книге «Драмы и секреты истории» («Drames et secrets de l’histoire, 1306–1643»), изданной в Париже в 1980 году и переведенной на русский в 1993 году, Амбелен доказывает, что именно на принадлежность к Орлеанской династии указывает прозвище воительницы.
Тогда объяснима та легкость, с которой Жанна была принята при дворе, и те почести, что ей оказывались, и то, что она принимала участие в рыцарских турнирах и командовала рыцарями.
Итак, отцом Жанны был герцог Луи Орлеанский, о чем знали и представители династии (сторонники этой версии утверждают, что в таком случае Жанна д’Арк родилась в 1407 году). Богатый гардероб Жанны был оплачен герцогом Карлом Орлеанским (Charles d’Orieans, 1394–1465), а Орлеанский Бастард, обращаясь к ней, называл ее «Благородная Дама». Но кто в таком случае мать Жанны? Вслед за Амбеленом, Этьен Вейль-Рейналь (Etienne Weil-Reynal) и Жерар Пем (Gerard Pesme) считают, что, скорее всего, это Изабелла Баварская (Isabeau de Baviere, 1371–1435), жена Карла VI, мать Карла VII. Она долгие годы была любовницей Луи Орлеанского…» (Сеть)
Повторю – зачем всё это?
А затем – чтобы показать (о чистках госслужащих): без удаления этого слоя номенклатуры невозможна смена парадигмы развития страны; но – Франция… Ведь тогда парадигма (внутренний уклад и идеологическая надстройка) развития Франции не поменялась!
В отличие от нас: собственно – всё то же делал Сталин и … (сей-час) почти не делает Путин.
С этим (с его феноменом) сходен феномен Жанны Девы.
Нам сложно это понять. Просто (потому что) – непривычно: парадигма развития – в прошлом веке она трижды менялась в России: военный коммунизм, НЭП и Сталинская индустриализация (может, даже четырежды – первоначально был испробован классический марксизм, в тех условиях быстро доказавший практическую непригодность).
Но (напомню) – раз-говору пора вернуться в реальность.
Разве что: будет ли возможные (реальные) два-гово’р или три-го’вор – ещё более сказочны, нежели всё выше-и-ниже изложенное; согласитесь, сложно называть страшной сказкой то, что имеет вполне себе счастливое окончание.
Разве не счастье, что мы живы и Россия жива?
Теперь – о частностях с-частья (с каждой сестры по серьге – перефраз пословицы): мы хотим, чтобы «слуги народа» исправно делали своё дело… Кстати, в сказке так и происходит: король (или председатель очередного предстоящего нам того или иного «трибунала») – выглядит, как на картине Чурлёниса «Сказка королей»…
В реальности же – «мы хотим иметь государственный аппарат, как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит.» (Иосиф Сталин)
Но вернёмся в новодел Мира Искусств.
Некоторое время всё внутренне переживали – каждый своё представление о т. н. репрессиях… А потом за-главный раз-говор в новоделе (становясь-таки два-и-три-говором) – вновь плавно перетёк с темы на тему.
Повторю (это – уже два-говор: мир лишь внешне состоит из бескрайних повторов): одной плоскостью своего (ещё более плоского) бытия я бодро соучаствовал (попрёк не прошёл мимо моей со-вести)… Другую плоскость своего всё более плоского бытия (это – уже три-говор) я попробовал чуть-чуть провернуть вокруг тонкой оси (всех этих моих всё более плоских плоскостей).
Дальнейшие свои плоскости со-бытий я не трогал и даже полностью исключил из своей реальности. Иначе – мне пришлось бы назвать плоскость происходящего всего лишь бес-клнечной сказкой… А так – нас всё ещё было четыре-пять человек (неопределённость моей памяти: я не знал, могу ли и себя сосчитать).
Как раз для плоского трёхмерия. В котором мы сидели в креслах в небольшой комнате некоего официального заведения, отведённого для-ради встреч и раз-говоров (до два и три гово’ров дело доходило редко) писателей – напомню, я называл его новоделом Грибоедова; что за чёрт нас свёл вместе?
Уж наверняка это не были какие-нибудь манипуляторы «мировой закулисы»; если честно, ведь мы всего лишь (по моему нескромному разумению) собирались – почти по корпускулам извлекаясь из ноябрьской слякоти…
Аккуратно.
Наклоняясь к не-Бытию и (человеческими пальцами) извлекаясь в со-Бытие.
Собирались – всего лишь «вечность проводить»: дело было в жизненно важном для моей родины ноябре 2023 года… Казалось, именно тогда игра сущностей достигла своего пика, как и в ноябре 1941 года: но – «Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить.» (цитата известно чья).
Во всяком случае, я поступал сейчас с своим относительно свободным временем именно так: провожал отвлечённую Вечность на покой и смотрел на вечную сиюминутность; причём – Жанну из Домреми, как и «мою» Жанну, я пока что не привлекал в качестве незримых со-участников беседы (с Вечностью).
Хотя(!) – «мою» Жанну привлечь пытался.
Но(!) – она (красивая женщина) выскользнула из моих попыток.
Ни красоту, ни Вечность не получится использовать в качестве инструмента.
Потому (слушая рас-суждения о репрессиях) я перешёл к рас-(два-три-)суждениям в категориях мифа; иногда даже наша сиюминутная реальность не менее мифо-логична, нежели настоящий миф.
А ещё – за нами (под и над нами, и рядом с нами) были всё те же люди, живые и «мёртвые» (последних, как известно, у Бога нет).
Потому (учитывая «мою» Жанну) – я неизбежно перешёл к логике мифа о Жанне д’Арк.
Зачем они были, эти самые репрессии (и страшные сказки о них – помимо реально ужасающей были), я более или менее показал – по крайней мере себе; а вот зачем «сожгли» Жанну из Домреми?
Если (у нас) смена парадигмы развития страны потребовала репрессий, и это было бесчеловечно-логично (хотя и спасло в результате бесчётно и жизней, и якобы бесплотных душ)… Худо-бедно, но – это я показал.
Новая элита (сталинские наркомы – чудо самоотверженности) была создана, даже с помощью тех самых «чисток» совслужащих, в которых действительно было много от нечистого (лукавого).
А вот зачем была проведена эта ужасающе фальшивая мистерия сожжения спасительницы Франции на рыночной площади Руана?
Ни о какой новой элите тогда и речи не было.
А зачем была проведена мистерия ночного выноса Сталина из мавзолея?
Кстати(!) – о последующих (уже «хрущевских») чистках.
Вопрос о том, кем был Хрущев – сильно неумным человеком и политиком или целенаправленным разрушителем перешедшей к нему от Сталина страны, этот вопрос остается открытым… Но разрушение СССР было начато именно Хрущевым, в этом нет сомнения.
И не эта тема (глобальной трагедии) есть канва этого повествования. И касаюсь я её поверхностно – для-ради знания и само-определения.
«Партийная дисциплина сыграла с народом злую шутку: по привычке верить Сталину, люди поверили и его «наследнику» Хрущёву. При этом подавляющее большинство (98,2 %) населения СССР в годы правления Сталина никогда не подвергалось политическим репрессиям ни в какой форме. На сокрытие этого непреложного факта длительное время направлена вся мощь пропагандистской машины. На этом мифе взращено молодое поколение народа и изрядно распропагандировано старшее. Реальное число репрессированных от намеренно выдуманных цифр отличается многократно. В настоящей статье мы опираемся на данные, опубликованные в книге В. Земского «Сталин и народ», М., 2018.
На имя Хрущёва и Маленкова была составлена справка, в которой, на основе статистической отчётности 1-го спецотдела МВД СССР, называлось число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года – 4 060 306 человек. Эта цифра слагалась из 3 777 380 осуждённых за контрреволюционные преступления и 282 926 – за другие особо опасные государственные преступления, в том числе, приговорённых к высшей мере наказания – 799 455 человек, включая уголовников.
Наибольшая численность заключённых во всех местах лишения свободы (лагеря, колонии, тюрьмы) зафиксирована на 1 января 1950 года – 2 760 095 человек. Теперь сравните эти цифры с хрущёвским заявлением о том, что «когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 миллионов человек» (почти четырёхкратная разница говорит о том, что это была сознательная ложь); с утверждениями Солженицына, который «довёл» число репрессированных и расстрелянных до 110 миллионов (на что Сталину потребовалось бы 40 лет ежегодно менять контингент «зэков»), и, наконец, с «абсолютным рекордом» от Немцова в 150 миллионов (население СССР в 1939 году, согласно данным Всесоюзной переписи, составляло 170,6 миллиона человек).
Главной причиной роста численности заключённых в конце 1940-х – начале 1950-х годов была успешная работа правоохранительных органов с уголовной преступностью. На рассмотрение Коллегии ОГПУ, Особого совещания и других органов представлялись дела не только политических или особо опасных государственных преступников, но и обычных уголовников, грабивших заводские склады, колхозные кладовые и граждан. По этой причине они включались в общую статистику как «контрреволюционеры» и сегодня считаются «жертвами политических репрессий». Уголовных в общем составе осуждённых всегда было значительно больше, чем политических (от 70 % в 30-х годах до половины в 1937–38-х и послевоенное время). При этом подавляющее большинство уголовников было осуждено именно за уголовные преступления, без предъявления обвинений политического характера.
Рассказ о репрессиях не будет полным, если не разобраться с тем, что произошло в 1937 и 1938 годах, и что называют теперь «Большим террором». К высшей мере наказания в те годы было приговорено соответственно 353 074 и 328 618 человек.
1937 год – это год прямых, тайных, равных и всеобщих выборов по новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года. Несмотря на то, что изменения в избирательном законе означали крупнейшую после октября 1917 года демократическую реформу советской политической системы, поскольку в выборах теперь могли принимать участие люди, ранее лишённые избирательных прав. Новая Конституция уравняла права рабочих, крестьян, интеллигенции и казачьих формирований. «Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти», – отметил Сталин в беседе с американским корреспондентом Р. Говардом 1 марта 1936 года.
При тайных и прямых выборах для партийной номенклатуры риск потерять власть был слишком велик. И она сделала свой выбор. Вот цитаты из некоторых выступлений партийных секретарей из регионов на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года:
«Косиор (Украина): «Надо с подозрительностью относиться к чужеродным элементам. Верующие активизировались, их – тысячи».
Хрущёв (Москва и Московская область): «В Рязани недавно выявили эсэровскую группировку!»
Мирзоян (Казахстан): «В связи с предстоящими выборами по новой системе наметилось большое оживление враждебных элементов – попов и мулл. Мы уже имеем ряд фактов, когда враждебные элементы из остатков бывшего кулачества и духовенства ведут подготовку и говорят: готовьтесь к выборам.»
Попок (Туркмения): «Вместе с духовенством большую активность проявляют возвращенцы-кулаки. Большое количество кулаков прошло через Соловки и другие лагеря и сейчас в качестве «честных» тружеников возвращаются обратно, требуют возвращения земли, предъявляют всякие требования, идут в колхоз и требуют приёма в колхозы. С Туркменией граничит Афганистан и Персия, куда в своё время была большая эмиграция. Сейчас усилился поток возвращающихся эмигрантов именно под влиянием новой Конституции. Требуют земли, жалуются, хотят в колхозы.»
Евдокимов (Азово-Черноморский край): «Контрреволюционная банда троцкистов, зиновьевцев, правых, леваков и прочей контрреволюционной нечисти захватила руководство в подавляющей части городов края. Эта банда ставила своей целью дискредитацию партии и советской власти и развал партийной работы.»
Постышев (Украина): «Из 52 кооптированных – 15 троцкистов, открытые враги. Вот вам положение: секретарь – враг, председатель исполкома – враг, директор МТС – враг, зав. райзо – враг, зав. райфинотделом – враг. Что остаётся. И вот выборы – это тоже серьёзное дело. Если мы у себя распустились – внутри партийной организации, так где же нам справиться с многомиллионными массами!»
Крупская: «Закрытые выборы будут на деле показывать, насколько партийные товарищи близки к массам и насколько они пользуются авторитетом у масс.»
Вдова Ленина предупредила бывшую «ленинскую гвардию», но они поняли это по-своему. Врагов оказалось море – миллионы. Что же делать людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы революций и Гражданской войны? Отдать власть в своих областях, краях и республиках? Нет! Самый простой выход – сорвать выборы. Как это сделать? Надо организовать борьбу с явными и мнимыми врагами!
Будущие «безвинные жертвы сталинских репрессий» обезумели от мысли о своём возможном смещении в ходе альтернативных выборов. Они поставили Сталину ультиматум: или выборы по новой Конституции, или «лимиты» на расстрелы. Вот пример их первоначальных «предложений»: по Узбекистану – 5441 человек, по Куйбышевской области – 6140, по Дальневосточному краю – 6898, по Казахстану – 6749, по Азово-Черноморскому краю – 13606. Признанный XX съездом «невинным» Р. Эйхе по Западно-Сибирскому краю пожелал расстрелять 10800 человек без учёта отправляемых в ссылку. Но больше всех отличился будущий докладчик XX съезду и разоблачитель «сталинских» репрессий Хрущёв: из 38 секретарей МК и МГК, работавших в 1935–1937 годах, уцелело лишь трое. Были арестованы 136 из 146 секретарей горкомов и райкомов. Из 86 членов ЦК КП(б) Украины осталось в живых тоже только три человека. Всего за 1935–1938 годы Хрущёв подписал 160 тысяч смертных приговоров, так что страх перед расплатой у него был. И сильный.
Вместе с настоящими врагами в жернова «Большого террора» действительно попадали десятки тысяч не только невинных, но и наиболее активных и искренне преданных делу строительства социализма людей. Значительную часть арестованных по политическим статьям составляли люди, попавшие в волну репрессий в разгар эпидемии доносов, охвативших страну. Доносы писались на знакомых и сослуживцев с целью улучшения материального, жилищного положения, личной неприязни и тому подобных низменных причин. Аресты безвинно оговорённых людей вызывали цепную реакцию репрессий их родственников, друзей и товарищей по работе.
Было бы наивным заблуждением полагать, что в стране, за треть века пережившей Первую мировую войну, три революции и Гражданскую войну, находящейся в стадии своего становления и в преддверии новой войны, отсутствовали контрреволюционеры, иностранные шпионы, террористы и диверсанты.
Самые радикальные представители оппозиции были готовы воевать против большевиков «хоть вместе с дьяволом», вместе с иностранными государствами разрушить, разделить страну. «Следствие считает установленным, что: «в 1932–1933 гг. по заданию разведок враждебных СССР государств обвиняемыми по настоящему делу была составлена заговорщическая группа под названием «правотроцкистский блок», поставившая своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, поражение СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана – в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение существующего в СССР социалистического и государственного строя и восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии». (Судебный отчёт. Материалы Военной коллегии Верховного Суда СССР. М., 1997, с. 688). После того, как на наших глазах в 1986–1991 годах так всё и произошло, разве повернётся язык считать обвинения 1938 года сфабрикованными от начала и до конца? Во время «перестройки» оказалось, что классовые враги никуда не делись, они не только сохранились, но и окрепли настолько, что сумели успешно претворить в жизнь то, о чём мечтали и к чему стремились их предки и единомышленники полувеком ранее: свергнуть советскую власть, уничтожить социалистический строй и разрушить государство.
Дико рассматривать как необоснованные юридические документы, опубликованные в сотнях тысячах экземпляров: процессы Промпартии, процессы 1936 и 1938 годов, приведённый выше судебный отчёт…
Ещё раз повторим: несмотря на приведённые выше цифры, подавляющего большинства населения СССР «сталинские» репрессии не коснулись. В разгар «сталинских» репрессий, в 1937 году, доля рабочих и колхозников среди репрессированных составляла 9,3 %, а в самое половодье хрущёвской «оттепели», только в 1957 году, из всех осуждённых по «политическим» статьям они составляли уже 81,7 %, и только 18,3 % – служащие, к которым относили всю интеллигенцию (Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953–1982 гг.: М., 2005, с. 39, 40). За 1957–1958 годы количество осуждённых за антисоветскую агитацию и пропаганду составило 41,5 % от общего числа всех осуждённых за 32 года (1956–1987) «либерального коммунизма» (там же, с. 36).» (Ричард Косолапов. Номенклатурный террор)
Для меня вышеприведённые факты были очевидностью.
Но для моих собеседников в писательском новоделе Мира Искусств, даже если бы они знали о простой статистике данных явлений, мои доводы показались бы абстракцией, отвлечением от сути страданий репрессированных.
Я был с ними, в общем-то, согласен: Мир Искусств (внешне столь прельстительный) – безысходен и ужасен.
В нём причащение Христовых Тайн – обратно (сделайте мне наглядно) превращается из Плоти и Крови в вино и хлеб (хорошо, если не мертвечину); поэтому я не спорил с моими со-беседниками, а со-чувствовал с ними.
И думал о Жанне д’Арк – по совершенно дурацкой причине: я тоже любил некую Жанну из Санкт-Ленинграда.
Я вообще (в тот момент Вечности) не собирался мыслить глобально.
Я должен был бы (в любой момент Вечности) именно то, что и делал: глобально со-чувствовать – как переломить смердящую жуть падшей природы человека, в каждой отдельной точке своей настолько умно’ самооправдываемой…
И всё это ещё более отягощалось тем, что и сам я (homo sum) бесконечно самооправдываюсь – там, где не может быть достойных оправданий.
Я, само-оправдываясь, сотворяю мифы о самооправдании: например, помянутый хазинский миф о назначении (какого-либо праведника) комендантом Освенцима и о (этим праведником) спасении из 2000000 обречённых хотя бы одного миллиона…
Далее – в логике мифа (раз уж я всё время помню о помянутых Жаннах (из Домреми и из Санкт-Ленинграда), точно так же я раз(-два-три-)мышлял об отношениях мужчины и женщины…
В русле этой небезупречной логики – думалось иногда: лучшим символом этого является именно завязка Тысячи и одной ночи; это было бы верно, если бы – не более многомерно, нежели тогдашние версификации волшебного быта…
Ах, если бы мне хоть краешком глаза посмотреть на сказочного ифрита!
Конечно, это всё – из серии «если бы директором был я»; тогда бы я с большим основанием раз(-два-три-)мышлял о людях, ставших средоточием силовых линий ноосферы (или призванных к служению Создателем).
Так или иначе – земной мерой для сущности мужчины является не-бесная женщина; не то, какова она – в блуде или святости плоти, а в своей не-бесной сути Вечной Женственности; это – нечто недосягаемое, и нет вопроса – почему любые отношения мужчины и женщины между собой (а так же – с невидимыми силами бесплотными) всегда обречены быть счастливо-несчастливы?
И что означает это понятие: счастье-несчастье?
Нет такого вопроса, ибо (на него) – сразу ответ: неужели этот примитивный «дуализм» инь и ян – лишь один из способов посмотреть на развилки истории со стороны?