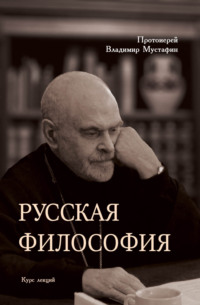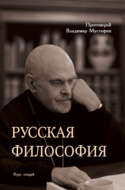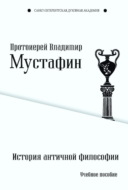Loe raamatut: «Русская философия», lehekülg 3
Однако же в области религии за разумом сохраняется очень важная функция – предохранять от суеверия, т. е. от замены истинного объекта религиозного почитания – Бога, объектами ложными, подходящими под рубрику «идолы». А для осуществления этой функции разуму необходима определённая степень образования. Из такого понимания психологической сущности религии вполне естественно вытекает признание необходимости онтологического бытия Бога. А это признание является основанием соответствующей нравственной практики27.
Однако с точки зрения христианского богословия такое понимание сущности религии явно недостаточно. И этот недостаток восполняется именно содержанием богословия. Без этого восполнения теряет дидактический смысл и сама философия религии.
Это изложение философского понимания сущности религии, предпринятое Федором Надеждиным, не есть его оригинальное изобретение. Оно есть повторение того учебного материала по теме, которое он усвоил во время своего обучения в Санкт-Петербургской духовной академии.
Адам Андреевич Фишер (1799 (1797) – 1861)
Из биографических сведений об этом человеке архимандрит Гавриил упоминает только дату его рождения – 1797 год, место получения им высшего образования – Венский университет, и дату занятия им должности профессора Санкт-Петербургского университета – 1832 год. А далее следует цитата из рассуждения Фишера, в котором он излагает свое понимание сущности той философии, которую он считает единственно здравой и единственно годной для школьного преподавания молодому поколению. Это понимание сущности философии содержит в себе следующие важнейшие три элемента. Философия должна содержать в себе: 1) уважение к религии, под которой подразумевается христианская вера (в православном её догматическом толковании); 2) уважение к государственной власти в стране; 3) безусловное повиновение существующим законам в стране. Что касается уважительного отношения философии к христианской вере, то оно должно проистекать из признания философией наличия в христианском вероучении Божественного Откровения, сомневаться в истинности которого на основании рассуждений принципиально несостоятельного человеческого разума нелепо. Уважение к государственной власти в стране и, как следствие, уважение к правопорядку в стране обосновывается естественной необходимостью мирной жизни в государстве и обществе, которая только, мирная жизнь, и может способствовать постепенному совершенствованию общественного устройства. Намеренно сеять в обществе раздор и беспорядки, во всяком случае, не есть действенное средство общественное устройство совершенствовать28.
Василий Николаевич Карпов (1798–1867)
В 1840 году, когда было опубликовано рассматриваемое сочинение, архимандрит Гавриил мало что знал о В. Н. Карпове. Он даже не знал точной даты его рождения. Назвал 1800 год, а на самом деле это был 1798 год. Далее он сообщает краткие биографические сведения. Окончил В. Н. Карпов воронежскую семинарию, в которой, кроме всего прочего учебного материала, перенял философские знания от тамошнего преподавателя философии протоиерея Иоанна Зацепина, которого сам архимандрит Гавриил, по-видимому, хорошо знал, потому что дает ему характеристику как знатоку Шеллинга. Попав для продолжения образования в Киевскую академию, Карпов и здесь проявил усердие в усвоении философских знаний, которые здесь преподавал протоиерей Иоанн Скворцов, выпускник, кстати сказать, Санкт-Петербургской академии.
В результате накопления философской эрудиции у Карпова сложилась целая система философских положений. Сущность этой системы архимандрит Гавриил видит в следующем. Карпов, по его мнению, предпринял попытку объяснить этические и гносеологические проблемы в сознании человека при помощи анализа взаимоотношений духовного и телесного элемента в сущности человека. Эти антропологические элементы восходят к своим онтологическим основам – к, соответственно, Богу и вещественности (материи). Задача состоит в том, чтобы Бог и вещественная природа пришли бы в гармоническое взаимодействие друг с другом. Но в практической жизни этого почти никогда не бывает. В этом и заключается основная причина всех нравственных и гносеологических проблем в сознании человека. В нравственности борются между собой нравственные нормы, имеющие свой источник в Боге, и аффектированное стремление индивида жить по похотям своей чувственной природы, которая видит в нравственных нормах помеху для своей свободы. В области разумной деятельности борются между собой логические нормы, источник которых тоже в Боге, и произвольные, вне логических норм умствования, целью которых является словесное оправдание уклонений на практике от исполнения нравственных норм. Такой способ философствования Карпова архимандрит Гавриил обозначает термином «синтетизм»29.
Священник Федор Федорович Сидонский
Информация здесь крайне скудная. Сообщается только, что Сидонский после окончания Тверской семинарии в 1825 году попал в Санкт-Петербургскую академию, закончив которую, он некоторое время был в этой академии преподавателем языков (английского и французского) и философии, а в 1835 году его служба в академии прекратилась. О том, что Сидонским было написано «Введение в науку философии», напечатанное в 1833 году, не упоминается. Но, при этом, понимание сущности и задач философии Сидонским, находящееся в этом «Введении», архимандрит Гавриил кратко излагает без всяких комментариев. Предмет изучения философии есть, во-первых, Вселенная (т. е. окружающий человека предметно-чувственный мир), и, во-вторых, свойства человеческого познания (т. е. гносеология), при помощи которых познание окружающего мира можно осуществить. Познавательная способность человека состоит из разума и опыта (т. е. органов внешних чувств). И всё. К этому добавляются два замечания: что метод познания у священника Сидонского есть математический и что философия у него разделяется на логику, метафизику и ифику (= этику). Без объяснений (необходимость которых очевидна) эти замечания имеют характер механического повторения общих мест, никакого дидактического воздействия не производящего.
Василий Афанасьевич Сбоев
Сообщается, что этот человек родился в 1810 году в Казанской епархии и что в настоящее время (время написания самого сочинения архимандрита Гавриила) он является учителем в Казанской семинарии. Для ознакомления с философскими размышлениями Сбоева берутся к рассмотрению два его сочинения – одно опубликованное, другое только рукописное. Опубликованное (в ученых записках Казанского университета) сочинение есть статья под названием «Гносис и гностики», в которой понимание сущности философии сводится к категорическому утверждению автора, что незыблемой и единственной основой философского знания может быть только Божественное Откровение. Мера уклонения от этой основы в философском рассуждении соответствует мере уклонения его от истины. Рукописное сочинение Сбоева имеет название «О нравственно-духовной жизни человека». По своему характеру оно представляет собою психологический анализ и гносеологическую оценку различных элементов душевного содержания человека. Сначала дается общая познавательная оценка содержания души человека, состоящая в том, что душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому мышлению. Но эти истины хранятся в душе не в виде ясных и четких понятий, а в виде неких, метафорически говоря, необработанных заготовок будущих понятий. Автор эти заготовки называет «предощущениями». Задача умственной работы человека состоит в том, чтобы эти «предощущения» обработать и превратить в определенные понятия, необходимые для совершенствования умственной жизни. К этому гносеологическому рассуждению добавляется то соображение, что совершенствование умственной жизни человека не может быть достаточно глубоким и прочным, если оно не сопровождается религиозным чувством, высшим проявлением которого является христианская любовь.
В этих философских размышлениях Сбоева нетрудно узнать тот умственный материал, который он вынес из учебных курсов духовных школ. Ориентация на Божественное Откровение как на критерий отличия истинных философских суждений от неистинных есть вообще элементарное убеждение христианских мыслителей, впервые сформулированное ещё святым Иустином Мучеником-Философом и с тех пор повторяемое во всех христианских учебных пособиях по философии. В анализе душевного содержания человека на предмет отыскания в нем понятий как познавательных элементов легко распознать, во-первых, декартовскую гносеологическую теорию «врожденных идей» (у Сбоева: душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому уму), а во-вторых, дополнительное разъяснение Лейбница к этой теории, состоящее в том, что врожденные идеи (= понятия) хранятся в душе не в логически и словесно раскрытом виде, а в виде неких душевных потенций (= возможностей) будущих понятий, обозначаемых у Лейбница термином «petites perceptions» (у Сбоева: предощущения).
Иван Андреевич Кедров
Родился И. А. Кедров в 1811 году в семье сельского причетника. Учебу проходил в Угличском духовном училище, Ярославской семинарии и Санкт-Петербургской академии. После окончания академии вернулся в Ярославскую семинарию, где и проходил службу в качестве преподавателя и библиотекаря. Во время учебы в семинарии и, особенно, академии, и будучи уже преподавателем, Кедров глубоко интересовался философией. Обучаясь в академии, он с помощью своих товарищей однокашников перевел и издал в 1836 году в Санкт-Петербурге «Курс философии» Жерюзе. После окончания обучения в академии, будучи уже преподавателем в Ярославской семинарии, он опубликовал специальное философское сочинение «Опыт философии природы».
Для ознакомления с философскими взглядами Кедрова архимандрит Гавриил предложил вниманию своих читателей его рассуждение «Критический взгляд на науку философии». В этом рассуждении, кроме всего прочего, Кедров старается объяснить разницу между философией и естествознанием. Отличие философии от естественных наук состоит в самой сущности философского знания, которая обозначается Кедровым словом «выспренность»30.
А «выспренность» Кедров толкует как «возвышение над всем пространственным и временным». Весь предметно-чувственный мир, вся естественная природа является реальностью, существующей в условиях (обстоятельствах) пространства и времени. Эта реальность является объектом изучения естественных наук. Реальность же сверхъестественная, находящаяся вне условий (обстоятельств) пространства и времени, находится в компетенции философского (метафизического) ведения. В этом вся принципиальная разница между естественными науками и философией. Следствием этой разницы является то, что ученые-естественники исследуют окружающий человека предметно-чувственный мир исключительно только в его фактическом содержании. Их не интересуют такие вопросы, как, например, вечно ли существует этот чувственный мир или он получил начало во времени, как понимать зло и какова причина его возникновения, имеет ли человеческая жизнь смысл или нет. Разрешением этих и подобных (метафизических) вопросов как раз и занимается философия.
Это рассуждение Кедрова по своему содержанию есть просто повторение постановки вопроса о соотношении естественно-научного знания и философии, и его разрешения, которое к тому времени уже было хорошо известным в Европе и в духовных школах России. Будучи воспитанником семинарии и студентом академии, Кедров, естественно, усвоил учебный материал, а став преподавателем, он, что тоже естественно, этот учебный материал уже преподавал. Данное рассуждение как раз и было письменным изложением одного из пунктов учебной программы.
Выводы
Уже в самом начале своей «Истории русской философии» архимандрит Гавриил (Воскресенский) дает вполне определенное понятие о характере русской философии: признание в качестве источников философского знания в равной степени разума и опыта (= органов внешних чувств), но при этом критерием истины в получаемом из этих источников философском знании должно быть христиански понимаемое Божественное Откровение. Итак, русская философия есть христианское вероучение, корректирующее показания разума и опыта (= органов внешних чувств).
Но в собственно историческом изложении примеров русского философствования архимандрит Гавриил под философией понимает прежде всего мировоззренческие (метафизические) убеждения, зафиксированные или в устном народном творчестве (поговорках, например), или в литературных текстах, образованных по стандартам тогдашнего времени интеллектуалов. А так как в историческом прошлом России интеллектуалами были преимущественно христианские священнослужители, то и изложение этими священнослужителями содержания христианского вероучения, фиксируемое в своем сочинении архимандритом Гавриилом, тоже попадает под рубрику «русская философия». То, что христианское вероучение с формальной точки зрения есть философия, это бесспорно, ибо в христианском вероучении в качестве его теоретического содержания есть религиозная метафизика (богословие в тесном смысле: триадология и христология; плюс учение о спасении), а любая метафизика, в том числе и метафизика религиозная, и есть сущность философии. Но именно «русскости» в этой философии никакой нет. Христианское вероучение, даже если его рассматривать как философию, не может иметь в своем содержании признака национальности.
В списке лиц, которых архимандрит Гавриил в своей «Истории русской философии» представил как носителей русской философии, большая их часть вообще к философии в тесном смысле слова (т. е. философии как гносеологии) не имеет никакого отношения. Но мысли этих лиц, изложенные архимандритом Гавриилом, все-таки представляют собою бесспорную умственную ценность и потому вызывают живой интерес у читателя. Причина проста: эти мысли дают реальное преставление о той умственной атмосфере в российском обществе, которая в соответствующей исторической эпохе существовала. Так что всему сочинению архимандрита Гавриила (Воскресенского) более подходит название «Очерки (или наброски) истории русской общественной мысли».
Яков Николаевич Колубовский (1863–1929)

Второй опыт изложения истории русской философии принадлежит Якову Николаевичу Колубовскому (1863–1929). Основное сочинение, в котором он это изложение произвел, называется «Философия у русских». Это сочинение было напечатано в качестве краткого приложения к переведенной им же книге Ибервега «История новой философии в сжатом очерке» (СПб., 1890)31. Дополнительное сочинение Колубовского по этой же теме есть «Материалы для истории философии в России», напечатанные в номерах 4–6 журнала «Вопросы философии и психологии» за 1890–1891 годы32.
Названия этих сочинений красноречивы – в них говорится не о «русской философии», а о «философии у русских» и о «философии в России». Совершенно очевидно, что «русская философия» и «философия в России» это далеко не одно и то же. Так на самом деле и думал Колубовский. Для него философия в России есть отнюдь не русская философия, а есть европейская философия в различных её вариантах, перенятая русскими и культивируемая в России. И началом этого процесса усвоения русскими европейской философии следует считать время конца XVIII – начала XIX веков. Сам этот процесс распространения европейской философии в России есть естественное продолжение распространения вообще европейского просвещения в России, начатого в результате радикального преобразования государства и общества Петром I. Усвоение русским различных вариантов европейской философии свелось, по сути дела, к простому повторению европейских оригиналов – вольфианства, французского просвещения, немецкой классической философии, позитивизма, материализма. Однако заимствованию русскими европейской философии все же нельзя придавать абсолютный характер. Среди русских философов были и носители того типа философствования, который имел несомненно самобытный характер, совершенно очевидно бывший не простым пересказыванием чужих мыслей. В качестве примеров таких носителей оригинальной русской философии Колубовский называет Е. Е. Голубинского, В. Н. Карпова, П. Д. Юркевича, т. е. преподавателей русских духовных (= богословских) школ. Их философская позиция характеризуется как «теизм». Сущностью «теизма» является, во-первых, философская защита христианского вероучения, а во-вторых, глубокая преданность Отечеству и монархии как традиционной форме управления русского государства и общества. Православному «теизму» соответствует система взглядов славянофилов, которую поэтому тоже надо признать самобытной, не проистекающей из европейского влияния.
Вывод
Размышления Якова Николаевича Колубовского на тему истории русской философии скорее являются изложением подробного плана будущей работы по теме истории русской философии, а не самой этой историей. Что касается «Материалов для истории философии в России», так это вообще – о чем можно судить даже по названию – есть библиографический справочник для будущей работы. Никакого изложения исторического материала и его анализа там нет. А краткий очерк «Философия у русских» напоминает сборник, пусть и систематизированный, аннотаций-тезисов, предполагающий дальнейшее подробное изложение материала по пунктам этих тезисов.
Владимир Викторович Чуйко (1839–1899)

Сочинение Владимира Викторовича Чуйко под названием «Русская история» было напечатано в качестве «дополнительной статьи» к переведенной с немецкого языка «Истории философии с древнейшего до настоящего времени» Фридриха Кирхнера, изданной в Санкт-Петербурге в 1895 году. И хотя это сочинение так же, как и сочинение Я. Н. Колубовского «Философия у русских», невелико по объему, но оно, тем не менее, и богаче по содержанию излагаемого тематического материала, и анализы этого материала в нем более уверенные, и оценки более четкие.
Говорить о русской философии как о некоем самобытном умствовании раньше второй половины XVIII века бессмысленно. Обычное указание на юго-западную Русь, где в XVII веке было организовано училище, в котором, кроме всего прочего, преподавалась и философия (по схоластической программе), не имеет убедительности. Эти школьные философские упражнения никакого существенного положительного влияния на умственную атмосферу общества не производили, скорее вызывали подозрение в ереси, в уклонении от правой веры. Перелом произошел при Петре I. Он возымел намерение укоренить в России европейской образование, ценность которого он видел прежде всего в прикладном знании, но все-таки в учебной программе для академической гимназии он предусматривал и такие предметы как логика, психология и метафизика. Однако дело затянулось почти на половину столетия. Лишь после открытия в 1755 году Московского университета в его учебную программу была введена философия, под которой тогда подразумевалась прежде всего система Кристиана Вольфа (1679–1754)33.
Эта же система проникла и в учебные курсы духовных школ. Интерес к философии в России в эпоху Екатерины II распространился и за пределы школьных учреждений. Но здесь предметом интереса было вовсе не немецкое Просвещение, олицетворяемое системой Вольфа, а Просвещение французское, в её антихристианском варианте, выразителями которого были Д. Дидро, К. А. Гельвеций и Вольтер. Однако почти в то же самое время, как-то внезапно даже для внешнего наблюдателя, вместе с влиянием этой французской философии обнаружилось и влияние мартинизма (вариант мистицизма) и масонства (вариант внецерковной секулярной этики). Но все эти волны влияния иноплеменной философии на умственную атмосферу российского общества именно для зарождения русской философии серьезного значения не имеют.
Гораздо большее значение для формирования русской философии имеет творчество Григория Савича Сковороды (1722–1794). Чуйко называет его «первым русским философом в действительном значении этого слова»34. Далее следует характеристика Сковороды как широко образованного и ученого человека, написавшего много сочинений, в которых, как естественно предположить, и должны были быть письменно зафиксированы те мысли, на основании которых можно было говорить о Сковороде как о первом русском философе.
Однако выясняется, что мировоззрение Сковороды остается все-таки непонятным прежде всего по той причине, что «Сковорода писал тяжелым, неуклюжим языком, темным и беспорядочным»35. Так как из-за темноты слога писаний Сковороды трудно постигнуть их смысл, то и дать адекватную оценку их философской ценности затруднительно. В оценках исследователей явный разнобой. Кто-то видит в писаниях Сковороды чуть ли не античную классику. Сковорода якобы был под определяющим влиянием философии Платона. Вот мнение известного исследователя творчества Сковороды профессора Харьковского университета Ф. А. Зеленогорского (1839–1908): «Знакомясь с сочинениями Сковороды, мы видим, как глубоко продуманы его мысли, как определенно и отчетливо они выяснены, каким своеобразным языком выражены и какими сильными выражениями запечатлены. Как философ, он везде последователен в своих мыслях и их развитии»36.
Но гораздо более распространена другая характеристика37 философии Сковороды, в которой восхищения меньше, но объективности, по-видимому, всё же больше. «Мировоззрение Сковороды, кажущееся платоновским вследствие некоторых слишком поверхностных сближений, было в общем довольно запутанное, где мысли, вычитанные у древних философов, смешивались без всякой системы и критики с ходячим, туманным мистицизмом XVIII века и с проповедью аскетизма, который гораздо ближе к средневековой схоластике, чем к античной философии. Ближе всего к правде будет, когда мы скажем, что Сковорода есть мистик с платоновской подкладкой. Подобно Сократу он постоянно твердит: “познай самого себя”. В основе видимого лежит невидимое, которое и составляет сущность видимого. Действительный, видимый человек есть только тень сокровенного, невидимого человека. Поэтому, не познав самого себя, т. е. сокровенного человека, нельзя познать внешний мир»38.
В начале XIX века на умы образованных людей в России нахлынуло влияние новой немецкой философии, которая позднее получила название классической немецкой философии. Корифеи этой философии – Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель, влияли поочередно. Вначале, естественно, Кант. В. В. Чуйко просто перечисляет имена тех русских интеллектуалов, кто в своих письменных текстах отреагировал положительно или отрицательно на те или иные фрагменты философии Канта. Это просто регистрация, никакого анализа по существу. Единственное замечание по поводу влияния Канта на русских любителей философии состояло в том, что влияние это было кратким по времени и незначительным по силе воздействия.
Гораздо сильнее было воздействие Фихте и Шеллинга. Здесь прежде всего вспоминается Даниил Михайлович Велланский (1774–1847) – первый, по устоявшемуся мнению, ученик Шеллинга в России. Приводится уточнение, что Велланский был не учеником Шеллинга, а был он учеником ученика Шеллинга – Лоренца Окена (1779–1851). Учение Шеллинга в варианте Окена представляет собою упрощенную пантеистическую натурфилософию: природа по своему происхождению представляет собою божественную сущность, а по своему фактическому содержанию есть проникнутый «всеобщей жизнью» (т. е. той же божественной сущностью, ибо единственный источник жизни в природе есть Бог) организм. Вот эта «органическая» натурфилософия и была основной философской темой в изложении Велланского. В качестве шеллингианцев вспоминаются также Галич, Давыдов, Павлов, князь Одоевский, И. Надеждин, Скворцов.
Особое внимание Чуйко уделяет Оресту Марковичу Новицкому (1806–1884), точнее – его мысли относительно природы философии и вытекающей из этой природы будущей судьбы философии. Философия имеет своей задачей, во-первых, изучение познавательных способностей человека, и во-вторых, изучение окружающей человека реальности. Первая задача разрешается гносеологией, в которой преуспели германцы. Вторая задача разрешается онтологией, в которой доминируют англичане и французы. Англичане провозглашают естественно-научное познания природы как единственно правильное познание, а французы указывают на математику, как единственно истинную основу познаваемого внешнего материального мира. Все четче обрисовывается третья задача философии – объединить результаты решения двух предыдущих задач. В разрешении этой задачи и состоит будущее европейской философии. К осуществлению этого будущего, по убеждению Новицкого, лучше всего по качествам своей природы приноровлен именно русский народ.
Влияние Шеллинга и, через короткое время, Гегеля в России сказалось решающим образом на возникновении в русском образованном обществе двух оппонирующих друг другу позиций – славянофильства и западничества39.
Причем, славянофильство в обычном представлении ассоциировалось с Шеллингом, а западничество – с Гегелем. Среди славянофилов В. В. Чуйко отметил только Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) и Алексея Степановича Хомякова (1804–1860). Из западников-гегельянцев отмечены Александр Иванович Герцен (1812–1870), Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий (1813–1889) и Борис Николаевич Чичерин (1828–1904).
Серьезного анализа философских суждений ни славянофилов, ни западников В. В. Чуйко не дает. Особенно этот изъян бросается в глаза относительно славянофилов. Нет разбора ни их гносеологии, ни их культурологии, ни их историософии, т. е. всех тех положений, в которых оригинальность славянофилов как философов проявилась в наибольшей степени. Что касается западников, то здесь прежде всего обращает на себя внимание явная нехватка в списке представителей западничества наиболее ярких, наряду с Герценом, таких его представителей как Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) и Петр Лаврович Лавров (1823–1900). И, напротив, в этот список западников почему-то попал Гогоцкий. Он знаток философии Гегеля, это так. Но он явно не западник типа Герцена – Белинского – Лаврова. По своему происхождению он из духовного сословия, сын православного священника. По первому и основному своему образованию он выпускник Киевской духовной академии, некоторое время преподавал в этой академии. В дальнейшем он окончил Киевский университет, стал доктором философии, защитив диссертацию «Обозрение системы философии Гегеля», и впоследствии – ординарным профессором Киевского университета. И его социальное положение (был некоторое время даже членом киевского цензурного комитета, – должность для западника невозможная), и его сочинения (среди которых «Воскресение мертвых», «Святой Иустин», – темы для русских секуляристов-западников невероятные) свидетельствуют о приверженности Гогоцкого к консервативному типу мировоззрения, а не к либерально-западническому.
Помимо светских философов, в среде которых и обнаружилось противостояние консерваторов (славянофилов) и либералов (западников), и которые, светские философы, прямо или косвенно были связаны со светскими учебными заведениями (например, с Московским университетом или с Петербургской медико-хирургической академией), в России возник ещё один очаг философской активности (притом едва ли не раньше светского), а именно – церковные учебные заведения, духовные академии. Отсюда вышел целый ряд русских философов. Из этой группы Памфил Данилович Юркевич (1827–1874) был первым, кого вспомнил Чуйко. Но характеристика философских взглядов Юркевича чрезвычайно скудная. Говорится только, что Юркевич, ещё будучи профессором Киевской академии, обратил на себя внимание своим опровержением философского материализма и защитой философского идеализма. И всё. Никаких подробностей полемики Юркевича и Чернышевского по теме материализма и никаких подробностей по теме сущности идеализма, т. е. рационализма.
Сведения о протоиерее Федоре Александровиче Голубинском (1797–1854) тоже очень краткие, не дающие возможности составить более или менее цельное представление о его философской системе. Говорится, например, что Голубинский был одновременно последователем Канта и Якоби. В этом утверждении две существенные ошибки. Во-первых, быть одновременно последователем Канта и Якоби в принципе невозможно, ибо гносеологические установки этих философов диаметрально противоположны, т. е. находятся по отношению друг к другу в логическом отношении противоречия, – одна установка отрицает другую. Якоби построил свою гносеологию на категории «веры», чтобы тем самым, по его собственному признанию, предложить конструктивную замену гносеологическому рационализму Канта, который очевидным образом обнаружил свою теоретическую несостоятельность абсурдными выводами о субъективном характере понятий (интуиций) пространства и времени. Во-вторых, протоиерей Федор Голубинский никогда не был последователем Канта. У Голубинского есть разбор гносеологии Канта, в котором он соглашался с (частичной) убедительностью критики Кантом наивного убеждения в реальности тех же понятий пространства и времени, но при этом он категорически отвергал вывод Канта о субъективности пространства и времени, признавая их объективно реальными. Быть последователем Канта, отвергая при этом ключевое положение всей его гносеологии (относительность пространства и времени), вряд ли возможно. Правда, в конце своего краткого изложения сущности философии протоиерея Федора Голубинского В. В. Чуйко приводит положение, действительно по-настоящему характеризующее эту философию. Это положение состоит в том, что в духе каждого индивида неотъемлемо присутствует, пусть даже и не в вполне осознанном виде, идея бесконечного и все-совершенного бытия, которая и является основой всей познавательной и вообще всей целесообразной деятельности индивида.
Виктор Дмитриевич Кудрявцев (1828–1891)
Философии Виктора Дмитриевича Кудрявцева В. В. Чуйко уделил гораздо большее внимание. Эта философия, поименованная самим автором как «трансцендентальный монизм», прежде всего решала вопрос о сущности философского знания вообще. И эта сущность усматривалась в том, что философия может мыслиться исключительно как универсальная система знания, в которой каждой специальной науке должно быть найдено именно то место, в котором её компетенция будет реализована в максимальной степени и потому принесет максимальную пользу обществу.
Возникает естественный вопрос: как же философия может осуществить свой замысел стать основой этой универсальной системы знания? Ответ Кудрявцева следующий. Все специальные (конкретные) науки используют аналитический метод исследования, сущность которого в том, что прежде всего изучаются какие-то наличные факты внешней (= материальной) действительности, а затем результаты этого изучения обобщаются в определенные выводы, которые фиксируются в качестве научного достижения определенной конкретной науки. Метод философии другой. Здесь объектом изучения (анализа) являются не факты внешней (материальной) действительности, а общие понятия и категории, данные или в общечеловеческих убеждениях, или во мнениях выдающихся мыслителей, или в мыслящей способности самого философствующего индивида. Этот философский анализ представляет собою ничто иное как логическую обработку наличного умственного материала (общих понятий и категорий), а целью этой обработки является систематизация всех важнейших понятий и категорий, чтобы возникшая система стала основой не только целесообразной умственной деятельности человечества во всех отраслях науки, но и основой практического регулирования общественных взаимоотношений людей40.
Tasuta katkend on lõppenud.