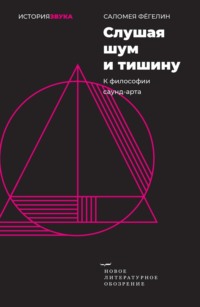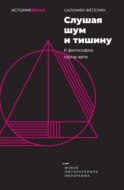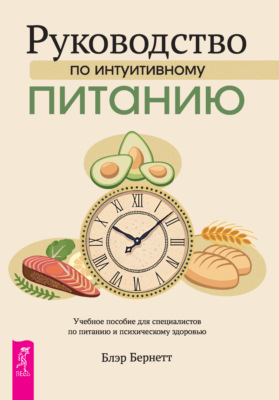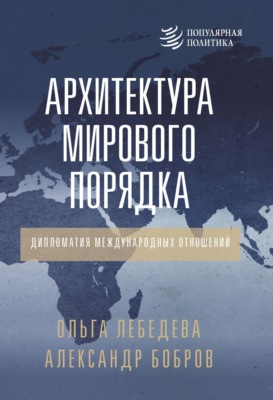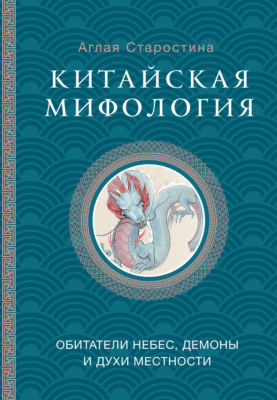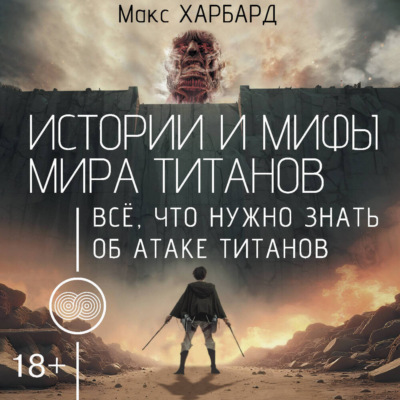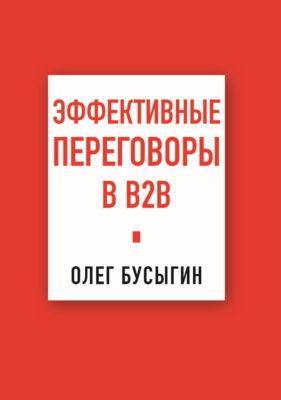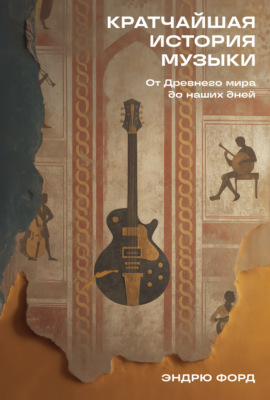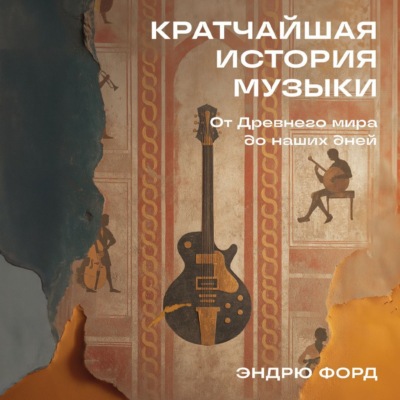Loe raamatut: «Слушая шум и тишину. К философии саунд-арта»
© Salomé Voegelin 2010
This translation of Listening to Noise and Silence is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Inc.
© И. Ознобихина, перевод с английского, 2025
© А. Бондаренко, дизайн, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Благодарности
Эта книга – итог многих непринужденных бесед и академических дискуссий. Своим появлением на свет она обязана помощи и доверию многих людей – моих близких и коллег по саунд-арту, как практиков, так и исследователей. Я благодарна за каждую предоставленную мне возможность изложить и обсудить вопросы, возникавшие в процессе работы над книгой, с коллегами, семьей, друзьями и студентами и надеюсь, что изложенные здесь идеи помогут им продвинуться в их звуковых исследованиях и творческой практике.
Прежде всего хочу поблагодарить Дэвида Моллина, который всячески поддерживал меня в этом начинании. Также хочу выразить особую благодарность Дэвиду Тупу, придавшему мне веру в собственные силы, а также Ангусу Карлайлу и профессору Нику де Виллю за внимательное прочтение и отзывы о тексте. Хочу поблагодарить Кэти Лейн за наши непрекращающиеся споры о звуке, а Питера Кьюсака – за его проницательность и ценные предложения. Заслуживают упоминания и ланчи с Томасом Гарднером, за которыми мы обсуждали патетическое и память, а также продуктивно обменивались мнениями по поводу его совместных проектов с Клэр Гассон и Эдом Осборном. Иммерсивная база данных по саунд-арту (ImMApp), созданная Дж. Майло Тейлором, стала бесценным инструментом для получения доступа к произведениям звуковых художников. Сведения о японской шумовой музыке, полученные от Эда Бакстера и Тайгена Кавабе, послужили ценными ориентирами в работе, а приглашение Рахмы Кажам дало мне возможность проверить свои идеи на прочность перед живой аудиторией.
Я хочу поблагодарить мою сестру Дею Фёгелин за помощь в исследованиях, а также всех моих коллег по Лондонскому колледжу коммуникаций (LCC), всю Группу по творческому исследованию практик саунд-арта (CRiSAP) и вообще художников, которые так или иначе поспособствовали развитию моих идей в области саунд-арта на протяжении последних нескольких лет: Криса Петтера, Джона Уинна, Дэвида Каннингема, Аки Пасуласа, Айрис Гаррельфс, Йорга Кёппля, Хелен Бендон, Михаэля Хильтбруннера, Най Пэрри и многих других.
Наконец, я хотела бы также упомянуть студентов факультета звуковых искусств в LCC, чьи попытки разобраться с применимостью критического дискурса к саунд-арту послужили толчком этому проекту.
Введение
Если философы, которым, как известно, всегда нелегко давалось хранить молчание, вступают в беседу, то им следовало бы изъясняться так, чтобы они постоянно были неправы, но неправы таким образом, что уличали бы в неистинности оппонента. Важнее всего было бы располагать не такими знаниями, что абсолютно правильны и непоколебимы, – таковые неизбежно сводятся к тавтологии, – а такими, по отношению к которым вопрос о правоте сам себе выносит приговор1.
То, как мы думаем о мире, в немалой степени определяется тем, какие чувства (senses) мы привлекаем, чтобы его воспринять. Последние, в свою очередь, всегда уже укоренены в идеологии и культуре – еще до того, как мы обращаемся к ним как к инструментам восприятия. Достигнутые нами суждение и понимание невольно направляются этим идеологическим функционированием используемого чувства. Если я смотрю на какую-то вещь, то информация, которую я о ней получу, зависит от физиологии зрения и культурной интерпретации и оценки акта ви́дения. Если одновременно я слышу звук, услышанное, скорее всего, подчинится восприятию увиденного. Звук придает визуальному образу плоть и плотность, делает его реальным, сообщает ему пространственное измерение и временную динамику. Но все это остается атрибутами видимого объекта, а не слышимого события. Это стремление подчинить звук визуальности укоренилось настолько, что поразило и музыкальную критику, и дискурс саунд-арта, в центре внимания которых неизменно оказывается партитура или аранжировка, оркестр или исполнитель, источник звука, инсталляция или документация звукового события – короче говоря, визуальные проявления звука, а не то, что было услышано.
Эфемерная незримость звука притупляет критические суждения, в то время как кажущаяся стабильность изображения располагает к ним. Зрение по своей природе подразумевает удаленность от объекта, который оно воспринимает как нечто монументальное. Взгляд всегда работает в метапозиции, вдали от увиденного, как бы близко оно ни находилось. И эта удаленность производит эффект отстраненности и объективности, выдающий себя за истину. Видеть – значит верить. Визуальный «зазор» питает идею структурной определенности и представление о том, что мы можем действительно понимать вещи, присваивать им имена и определять себя по отношению к этим именованиям как стабильные субъекты, как идентичности. Музыкальная партитура, звуковая дорожка фильма, декорации, интерфейс программы видеомонтажа и тому подобное могут заставить нас поверить в объективную слышимость, но то, что мы слышим, ориентируясь на эти изображения, – это не звук, а воплощение визуального. Сам звук уже давно исчез, изгнанный уверенностью образа.
Слух же, напротив, полон сомнений – феноменологических сомнений слушателя по поводу услышанного и самого себя, слышащего это. Слух не предлагает метапозиции – не существует такого места, где я не находилась бы одновременно со слышимым. Как бы далеко ни располагался его источник, звук находится в моем ухе. Я не могу его услышать, если не погружена в его аудиальный объект, который является не его источником, но звуком как таковым. Следовательно, философия саунд-арта должна иметь в своей основе принцип разделения времени и пространства с исследуемым объектом или событием. Это философский проект, который требует вовлеченного участия, а не отстраненного наблюдения, – рассматриваемый объект или событие с необходимостью описывается не как артефакт, а в его динамическом потоке. Это непрерывное воспроизводство, в котором слушатель участвует как интерсубъективно конституированный в процессе восприятия, производящий при этом саму вещь, которую он воспринимает, и оба, субъект и произведение, совокупно созданные таким образом, так же мимолетны, как и по отдельности2. Стало быть, этот проект предполагает философа как слушателя, а также подразумевает готовность читателя слушать. Философия саунд-арта, рассматриваемая таким образом, может, следуя совету Адорно, обеспечить знания, «по отношению к которым вопрос о правоте сам себе выносит приговор»3, а не провозглашать истину. Впрочем, это не делает такую философию иррациональной или произвольной, но проясняет ее намерение охватить опыт своего объекта, а не заменить его идеями. Иными словами, она не стремится опосредовать чувственный опыт рассматриваемого произведения искусства теориями, категориями, иерархиями, историями, чтобы в конечном итоге создать каноны, освобождающие нас от сомнений относительно слышимого благодаря уверенности и осознанию его ценности, что, таким образом, превратит нашу вовлеченность в тавтологию. Вместо этого такая философия стремится создать критическую вовлеченность, свидетельствующую, документирующую и повествующую о том, что происходит в области саунд-арта, и таким образом помогающую развивать художественные практики и способы слушания. Стало быть, мы стремимся не к выводам, а только к стратегиям вовлеченности и попыткам истолкований. В данном смысле эта книга – скорее эссе, чем привычный философский текст. Я опять заимствую термин Адорно для пояснения, что конечный продукт моего формального анализа – это эксперимент, а не идеология или истина. Термин «эссе» предполагает исследование с открытым концом, которое «начинается не с Адама и Евы, а с того, что хочется сказать»4, и дает не исчерпывающий и полный отчет, а лишь отрывочный набор идей-ориентиров. В этом смысле данный текст документирует эксперимент и приглашает читателя рассматривать себя как таковой.
В ходе такого эксперимента слушание в этой книге рассматривается как реальная практика и как концептуальная чувствительность, которая поднимает новые вопросы для философии искусства в целом и нарушает кажущуюся определенность визуальной эстетики, не занимая, однако, диалектической позиции. Вместо этого она предполагает, что звуковая чувствительность (sonic sensibility) осветит незримые аспекты визуальности, дополняя, а не противопоставляя себя визуальной философии. Чтобы достичь этого, на страницах книги обсуждаются различные звуковые произведения, и это обсуждение формулируется в терминах соответствующих философских споров. Именно через слушание автор приходит к философским вопросам, которые рассматриваются в этой книге, и именно прослушанный звук, чувственный материал, направляет исследование, конкретизируя и актуализируя эти философские вопросы и споры для читателя как слушателя. Звуковая чувствительность, выдвигающаяся в этом процессе на передний план, переориентирует философские проблемы субъективности и объективности, ставит под сомнение понятие трансцендентальной априорности и через понятие интерпретативных фантазий связывает опыт звука с понятием виртуальности и возможных миров, не связанных с логикой и рациональностью видимой реальности, но дополняющих эту реальность посредством зрячей слепоты звука в ее глубине.
Таким образом, этот текст вносит свой вклад в дискуссию как о саунд-арте, так и о философии. Он относится к саунд-арту, поскольку фокусируется на звуке как на «объекте» исследования; он относится к философии, поскольку обсуждает и исследует новые способы рассмотрения искусства, мира и нашей позиции в производстве искусства и мира через звуковую чувствительность. Однако наша цель – не философия саунд-арта, которая объясняет опыт, а философия, которая переживает опыт. Таким образом, она не может быть неизменной, но должна постоянно развиваться вместе с тем, что играется и слышится. Любое предложенное высказывание – лишь мимолетная теория5. Философия саунд-арта должна оставаться стратегией слушания, а не инструкцией для слушателя, и поэтому сам ее язык находится под пристальным рассмотрением.
Критический дискурс плохо подходит для работы со звуком, поскольку настойчиво предполагает разрыв между тем, что он описывает, и самим описанием – в полную противоположность звуку, который всегда и есть слышимое, окутывающее и наличное. В его языке звуковое низводится до роли прилагательного: звук бывает громким, чистым, тихим или шумным, быстрым или медленным, но никогда не рассматривается как существительное. Вместо этого он превращается в ссылку на визуальное, что приглушает его своеобычность. Писать о звуке так, как я пытаюсь сделать в этой книге, значит не обходить стороной эту проблему, а использовать заложенное в ней противоречие. Как следствие, серьезная трудность этой книги заключается в том, что, будучи написана на языке, она одновременно посредством звуковой чувствительности оспаривает сам принцип языка, его визуальность. Любая попытка сформулировать философию саунд-арта исходит из этого парадокса, раскрывая который звук подвергает переоценке саму основу дискурса и философии как таковой. Но одновременно она влечет за собой далеко идущие последствия, выходящие за рамки собственно звука и касающиеся уже общего представления о философии, эстетике и чувственной вовлеченности. Таким образом, звук раскрывает стесненность и ограниченность слова в языке, одновременно расширяя его применение в звуке. Методология исследования неразрывно связана с его предметом: одно исследуется через другое.
Идеи этой книги развиваются в пяти главах. В первых трех, «Слушание», «Шум» и «Тишина», обсуждаются вопросы восприятия звука, а в двух последних, «Время и пространство» и «Настоящее», рассматриваются следствия этого обсуждения. На этих страницах обсуждается широкий спектр философских вопросов, которые заостряются за счет обращения к звуку. В свою очередь, хотя выводы из этого исследования делаются применительно именно к звуку, они имеют далеко идущие последствия в плане более общей эстетической и культурной восприимчивости.
Первая глава обсуждает слушание как (взаимо)действие, которое производит, изобретает и требует от слушателя соучастия и приверженности (commitment). Она повествует о слушании звукового произведения и акустической среды и вводит темы, центральные для философии саунд-арта: субъективность, объективность, коммуникацию, коллективные отношения, значение и смыслопроизводство. Во второй главе мы переосмысливаем эти вопросы, вслушиваясь в звук, лишающий мои уши чувствительности ко всему, кроме самого себя. Таким образом, «Шум» доводит идеи «Слушания» до крайности и намечает контуры философии саунд-арта как означивающей практики слушания, которая артикулирует хрупкие отношения между опытом и коммуникацией и предвосхищает встречу семиотического и феноменологического в главе «Тишина».
В ее тихих звуках слушатель становится слышимым для самого себя как отдельно присутствующего в аудитории. «Тишина» создает условия для практики языка означивания, учитывающего свою звуковую основу: она охватывает тело слушателя в его одиночестве и приглашает его прислушаться к самому себе среди звукового ландшафта, в котором он обитает. В этом смысле глава 3 формулирует тишину как основное условие философии саунд-арта и обрисовывает последствия для звуковой субъективности и ее отношений с объективным миром. В этом ключе в главе обсуждаются беззвучные произведения и тишина в акустической среде не как отсутствие звука, а в качестве отправной точки для слушания как общения.
В главе «Время и пространство» обсуждается звуковой субъект после «Тишины». Звуковая чувствительность, обретшая критический язык в «Тишине», зарождается в пространственно-временном расположении слушателя, одновременно выявляя его. Затем глава 4 обращается к социальной географии и обсуждению глобальных сетей, чтобы контекстуализировать слушателя и звуковые произведения искусства с точки зрения их социальной позиции и связности. Вопросы материальных и нематериальных социальных отношений освещаются и обсуждаются через понятие звуковой чувствительности. Таким образом, в этой главе заново рассматриваются вопросы субъективности и идентичности в связи с вопросами укорененности и миграции. Обнаруживается, что звуковая чувствительность, поскольку она делает мыслимыми сложные связи и траектории во времени и пространстве, предлагает метод вовлечения и критической оценки инсталляций и нового медиаискусства.
Последняя глава, «Настоящее», – не заключение в привычном смысле слова, а повторное размышление над прослушанным. Это соответствует главной установке данной книги: философия саунд-арта должна оставаться мимолетной теорией, а не предлагать какие-либо выводы, чтобы не противоречить своей же методологии. Но это постоянное течение настоящего имеет прошлое и будущее, и поэтому последняя глава рассматривает «иное-время» (other-time) и «вон-там» (over-there) в отношении звука и слушающего субъекта. Именно благодаря эмоциональной и личной вовлеченности, сформированной рефреном (refrain) прошлого в настоящем, предложенная до сих пор философия саунд-арта становится полезной для взаимодействия с другими искусствами и в связи с более широкими проблемами социально-эстетического сознания и этики. В этом смысле последняя глава посвящена тому, как «патетическое» (pathetic) завлекает нас в звук и расширяет значимость своей философии за пределы саунд-арта.
Выбор произведений, обсуждаемых в этой книге, не связан с каноническими иерархиями. Это не попытка создать альтернативную историю или определить канон саунд-арта. Здесь обсуждаются и широко, и мало известные работы. Упор делается на восприятие произведения, а не на его оценку или сравнение с другими. Главным фактором при выборе произведений была моя близость к ним, возможность соприкоснуться с ними, разделить их время и пространство. Предложенную звуковую чувствительность можно перенести на любые произведения, доступные читателю, так как основной двигатель этой книги – именно вовлеченность слушателя и создаваемая таким образом звуковая чувствительность, а не производство знаний или суждений о каком-то конкретном саунд-арте. При этом обсуждаемые работы важны тем, что они подводят к рассматриваемым здесь философским вопросам. Именно их своеобразие послужило источником тех общих представлений о философии саунд-арта, которые каждый читатель может применить в своей слушательской практике.
Глава 1
Слушание
В этой главе слушание исследуется не как физиологический факт, а как акт вовлечения в мир. Именно в вовлеченности, а не в восприятии конституируется мир и мое «я» в нем, и именно чувственное вовлечение определяет конституцию меня и мира.
Любое чувственное взаимодействие возвращает нам не сам воспринятый объект или феномен, но объект или феномен отфильтрованный, сформированный и произведенный чувством, участвовавшим в его восприятии. В то же время это чувство очерчивает и наполняет воспринимающее тело, которое в акте восприятия формирует и производит свое чувственное «я». Тем самым используемые каналы восприятия всегда уже идеологически и эстетически детерминированы, что оказывает влияние на восприятие, воспринимаемый объект и воспринимающего субъекта. Это вопрос принятия априорного влияния и работы над тем, чтобы слушать вопреки, а не благодаря ему. Задача состоит в том, чтобы отстраниться, насколько это возможно, от идей жанра, категорий, целей и художественно-исторического контекста, чтобы достичь такого вслушивания, при котором материал слушается в режиме «текущего момента», обусловленно и индивидуально. Это отстранение не означает пренебрежение художественным контекстом или намерением, оно не легкомысленно и не праздно. Скорее, оно означает признание роли художественного контекста и замысла посредством практики слушания, а не в качестве описания и ограничения слышания. Эта практика следует призыву Теодора Адорно к философским толкованиям, которые можно представить
как требование постоянно находить решение вопросов преднайденной действительности с помощью фантазии, которая по-новому ставит вопрос, не выходя за его пределы6.
Именно восприятию как истолкованию дано знание о том, что слышать произведение/звук – значит изобретать его в процессе слушания чувственного материала, а не распознавать его современный и исторический контекст. Такое слушание создает художественный контекст произведения/звука в его новаторском восприятии, а не в результате предвосхищения априорной реальности. Эта фантасмагорическая практика не делает слушание неточным или неактуальным, поскольку основана на строгости и ответственности восприятия7. Опора на заранее данное в любом случае не сделает воспринимаемое более достоверным. Она просто придаст ему бо́льшую определенность в рамках его описания. Однако это также означает, что восприятие может знать произведение только в той степени, в какой оно достигает подобной определенности.
В центре идеологии прагматической визуальности лежит стремление к целостности, достижение комфорта понимания и знания через дистанцирование от стабильного объекта. Такая визуальность снабжает нас картами, следами, границами и определенностями, дающими нам возможность коммуникации и ощущение объективности. Однако аудиальное вовлечение (auditory engagement), когда оно не служит простому и прагматическому предоставлению визуального объекта, преследует иную цель. Оставшись в темноте, я должна исследовать то, что слышу. Слушание обнаруживает и порождает услышанное.
Различие здесь пролегает, как отмечает Мишель де Серто, по линии между стремлением к панорамному обзору бога-вуайериста, гностической мечте о полноте знания, способной к удовлетворению только с высоты, на расстоянии от городского текста и движения пешеходов, Wandersmänner, где-то внизу, производящих город вслепую, следуя своим временным и индивидуальным траекториям8. В этом смысле слушание – не модус восприятия, а метод исследования, нечто вроде «прогулки» по звуковому ландшафту или произведению. То, что я слышу, не принимается, а открывается мной в режиме генеративной фантазии, которая никогда не равна самой себе, но субъективна и погружена в безотлагательное континуальное настоящее.
Эстетика и философия саунд-арта основаны на этом стремлении к открытию. Это не гностическое стремление, но стремление к знанию. Знание как причастие прошедшего времени, всегда в настоящем, разворачивающееся в текущий миг, несущее с собой неопределенность мимолетного понимания. Такое слушание ставит вопрос о смысле не как о коллективном, тотальном постижении, но как об истолковании в смысле фантасмагорической, индивидуальной и обусловленной практики. Эта практика остается неизбежно неполной по отношению к объективной тотальности, но полной в своей субъективной обусловленности. Звук повествует, очерчивает и заполняет, но он всегда эфемерен и исполнен сомнения. В зазоре между тем, что было услышано мной, и звуковым объектом или феноменом я никогда не узнаю его истину, но могу лишь изобрести ее, произвести для себя некое знание.
Это знание есть опыт звука как темпорального отношения. Это не «отношение» между вещами, оно и есть эта вещь, сам звук. Слушание не может созерцать слышимый объект/феномен отдельно от его слышания, потому что объект не предшествует слушанию. Скорее, аудиальное порождается в практике слушания: при слушании я нахожусь в звуке. Не может быть зазора между услышанным и слышанием: я либо слышу, либо нет, и то, что я воспринимаю, – это то, что я слышу. Я могу воспринимать расстояние, но это расстояние слышимое. Расстояние – это то, что я слышу вот здесь, а не вон там. Оно не оповещает о границах расстояний объектов или событий, а само по себе является размежеванием в качестве воспринимаемого феномена.
Эстетический субъект в звуке определяется этим фактом взаимодействия с аудиальным миром. Он находится среди его материальности, будучи причастным к его производству. Звуки шагов субъекта – это часть аудиального города, который он производит в своем движении сквозь городское пространство. Его субъектная позиция отличается от позиции визуального наблюдателя, чье тело находится на расстоянии от видимого. Слушающий переплетается со слышимым. Его мироощущение и восприятие самого себя конституируется в этой связи.
Достигнутое понимание – это осознание момента как чувственного события, которое вовлекает слушателя и звук в фантазийное взаимопроизводство. Эта концепция бросает вызов понятиям объективности и субъективности, а также пересматривает возможность и место смысла; переосмысление всех трех концепций – основная задача философии саунд-арта.
Первая глава описывает слушание как (взаимо)действие, которое производит, изобретает и требует от слушателя соучастия и приверженности в переосмыслении существующих философских концепций восприятия. Описывая слушание звукового произведения и акустической среды, она вводит темы, центральные для философии саунд-арта: субъективность, объективность, коммуникацию, коллективные отношения, значение и производство смысла.
«Я постигаю себя не как конституирующий субъект, прозрачный для самого себя и представляющий собой совокупность всех возможных объектов мышления и опыта, а как определенную мысль, взаимодействующую с определенными объектами, мысль в действии» (Merleau-Ponty M. Primacy of Perception / Trans. by J. M. Edie. Illinois: Northwestern University Press, 1964. P. 22).
Греза – это бессознательная тоска, пробуждающая пассивность и недосягаемость, тогда как фантазия порождает саму себя. Парадоксальным образом в отказе от мечты, ее тотального и объективного исхода кроется открытие ее процесса: конкретной обусловленности (concrete contigency) индивидуального восприятия.
Tasuta katkend on lõppenud.