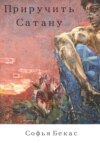Loe raamatut: «Приручить Сатану», lehekülg 38
– Ну, это…
– Прощай? – подсказала ему Ева, с добродушной улыбкой глядя на волка-одиночку перед собой. Тот хмуро кивнул.
– Да. Давай, счастливо.
Ранель неопределённо махнул в воздухе рукой и пошёл, сгорбившись и положив руки в карманы, прочь, сам не зная, куда. Ева проводила его взглядом до тех пор, пока он не скрылся за поворотом, затем постояла ещё немного, как бы в растерянности, и уже собиралась уходить, как вдруг услышала сдавленный крик и глухой удар чего-то о что-то. Бросив чемодан прямо у подъезда, Ева выбежала на дорогу, куда ушёл мужчина: прямо посреди оживлённой трассы в луже собственной крови лежал Ранель и, кажется, крепко спал.
Ева медленным шагом вернулась к подъезду, подхватила непозволительно лёгкий чемодан и поднялась к себе в квартиру. Там всё было так же, как и до её отъезда, даже идеально чистые полки не покрылись пылью, потому что все окна были заперты, только куст белой розы, подаренной Бесовцевым, теперь не украшал её комнату. «Роза!.. – с грустью и обидой вспомнила Ева, глядя на пустое место на подоконнике. – Я забыла её в больнице…» Да, она была права, и прямо в тот момент, когда она это подумала, маленький кустик стоял в её бывшей палате где-то рядом с Ялтой.
Ева обошла всю квартиру, постояла на кухне, посмотрела на своё отражение в ванной, посидела на кровати в комнате и поняла, что больше не может здесь оставаться. Что ей было здесь делать? Любые её дела казались ей такими ничтожными и не стоящими своего на фоне всего, что с ней произошло, что заниматься ими было как-то грязно и грешно, а потому, не пробыв в квартире и часа, Ева вышла из дома и пошла пешком сквозь такой знакомый парк.
В парке было хорошо: тихо и безлюдно, в меру прохладно, не жарко и не холодно, где-то пел соловей и шелестели кусты сирени, но Ева не замечала всего этого, принимая всё, окружающее её, как данность. «Ну вот и Ранель ушёл, оставив меня одну, – думала Ева, медленно шагая по узкой тропинке и смотря себе под ноги. – И все уходят с обиженным, озлобленным сердцем, думают, что я выберу Рай. Хотя они даже не думают, они уверены в этом, они давно уже перестали надеяться и потому прощаются со мной… Я для них мертва – по крайней мере, они так считают. А какой в этом смысл? Кто бы мне сказал сейчас, разъяснил, но нет, я должна понять сама. Вот есть большое-большое озеро, – подумала Ева, когда проходила мимо пруда, по которому люди катались на лодках. – В нём чистейшая вода, всякая живность, вокруг него – оазис. Вот есть пересохшая от жажды пустыня, в которой всё давно умерло и потеряло надежду на возрождение. А есть река, и у реки есть выбор, куда ей течь: в озеро, где и так уже всё хорошо, где водится рыба и на плодоносных деревьях поют птицы, или в пустыню, где всё умирает от жажды. По-моему, выбор очевиден».
Ева сама не заметила, как вышла к манежу. Она с удивлением посмотрела на большое круглое здание – раньше она видела его всего пару раз, – подошла к забору, за которым лихо катались на конях мастера верховой езды, и с грустью заметила, что среди них нет ни красивой лошади масти «серая в яблоках», ни молодого человека с длинным полупрозрачным платком на шее. «Я никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен, – подумала Ева, положив голову на согнутые в локтях руки. Чуть поодаль рыли копытом землю беспокойные лошади, то и дело встряхивая головами и косматыми гривами: им не терпелось убежать куда-нибудь подальше от этого оживлённого места. – Столько людей на свете, но никому из них нет до меня никакого дела. Я теперь одна, сама с собой».
Ева пошла дальше. Она обошла манеж, проводила долгим взглядом тренирующихся людей и свернула на узкую тропу, идущую вдоль почти пересохшего ручья: он весело журчал, перескакивая с камня на камень, и был таким на удивление чистым, что Ева, остановившись на маленьком деревянном мостике поперёк него, невольно засмотрелась на его прозрачные хрустальные воды. «И это совсем не тот бурный поток, который сносил всё на своём пути в ялтинских горах, – подумала она, разглядывая мозаику частых мелких камней на дне ручья. – Это его младший брат, несущий свои воды на север. Мда… Такой далёкий и холодный север… Там дует колючий суровый ветер, пасёт вдоль ледяного моря выцветшие пески и гнёт старые скрипучие сосны… Безлюдная, негостеприимная страна, которая гонит всех прочь со своих пустынных земель».
Что-то вдруг шевельнулось в душе Евы, и она, поддавшись этому внезапному порыву, сошла с мостика прямо в середину ручья: холодная вода мгновенно наполнила собой её туфли и остудила ноги, а вместе с ними и неугомонные мысли, которые быстро текли в её голове подобно горному потоку. Ручей убегал куда-то дальше, прочь от города; вокруг Евы возвышались старые, разлапистые ели, и их мохнатые буро-голубые иглы ласково склонялись к прозрачному холодному течению. «Такие решения нельзя принимать быстро, – возобновила свой внутренний монолог Ева, неспешно шагая прямо по середине ручья. Мостик остался позади, вокруг густой толпой стояли ели и лиственницы, и отступать ей было уже некуда: дорога осталась лишь одна, и сейчас она подталкивала Еву своими хрустальными обжигающими руками дальше, вниз, к склону. – Ты старательно говоришь это себе, пытаешься сдерживать саму себя, но кого ты обманываешь? Ты давно уже всё решила, если только у тебя вообще был выбор, и вряд ли когда-нибудь изменишь своё мнение. К чему тянуть? Всё стараешься остудить разум, да, пытаешься трезво взвесить все «за» и «против»? – обращалась Ева сама к себе. – Похвально, мудро, но ни к чему сейчас. Влюблённое сердце не погасишь, оно будет нашёптывать тебе на ухо свои мысли до тех пор, пока не сделаешь так, как оно хочет… Да и что ты хочешь взвешивать, скажи? Всё уже давно пересчитано и взвешено за тебя, осталось только выбрать, что тебе любо… Всегда трудно выбирать между двумя враждебными сторонами, но даже если одна сторона подталкивает тебя к другой… Вообще-то это странно, они не должны были этого делать. Что ты говоришь, Ева? Тебя никто не подталкивал, это всё твои домыслы».
Вдруг Ева поскользнулась: нога, которую она поставила на большой круглый камень, не удержалась и поехала дальше, а вслед за ней и вся Ева. Девушка упала в воду и кубарем полетела вниз, по склону; благо, косогор был не очень крутой, и Ева отделалась лишь парой синяков и насквозь промокшей одеждой. Она осторожно села в воде, не спеша подниматься, и осмотрелась: ручей радостно выбегал здесь из лесной чащи навстречу широкому дикому желтовато-зелёному полю, заросшему высокой сухой травой, которую уже давно никто не косил и не собирался это делать; тому самому полю, на котором когда-то Ева впервые встретила Мэри.
«Лошадям хорошо, – подумала она, вставая и отряхиваясь. – У них сильные ноги, и они могут бежать, куда захотят. Птицам тоже хорошо: у них сильные крылья, и они могут лететь, куда им вздумается. У человека же нет ни таких сильных ног, как у лошади, ни крыльев, и сам он ничего не может, хоть и укротил коня и сделал металлическую птицу. Но ценят ли они то, что имеют? Восхищается ли орёл той высотой, на которой он летит, любуется ли лошадь полем, по которому она бежит подобно стреле, или для них что горы, что лес, что поля – всё одно? Или только человек смотрит каждый день на закат и понимает, что подобного не будет уже никогда? У человека есть разум, который умеет восхищаться природой, а у природы, видно, нет такого разума, чтобы восхищаться собой».
Ева быстрым шагом пошла вдоль поля, стараясь найти хоть какую-нибудь тропинку, и, наконец отыскав её, исчезла между высокими колосьями сухой травы. «Почему демоны умирают? – подумала она, вглядываясь куда-то между стеблями. – Почему ангелы, чтобы вернуться к себе домой, просто улетают в небо, а бесы должны для того же умереть, снова испытать боль смерти? Или ангелы тоже умирают? А ведь и правда, я не знаю. Может, и Кристиан с моим отъездом захлебнулся в море, просто ангелы, по доброте своей душевной, не хотят лишний раз пугать меня своими смертями, а демоны только и рады это сделать. Что ж, и Люцифер покончит с собой на моих глазах? Нет, он не настолько жестокий, я уверена. Что им отпугивать меня, как будто они не хотят, чтобы я к ним спустилась? А может, они делают это от обиды? Да, точно, от обиды. Они привыкли, что им вслед посылают проклятия, вот и думают, что я выберу Рай, а потому нарочно пугают меня, будто хотят убедиться, что их никто не ждёт. Сначала напугали меня до смерти, чтобы я и не думала спускаться к ним, а потом упиваются своей обидой на мир, мол, «нас все ненавидят и не спешат доказать обратное». Всё думают, что я неженка, хе-хе. Что ж, господа демоны, вы посмотрели на моё лицо, когда я всё узнала, – теперь я посмотрю на ваше, когда вы узнаете мой выбор. Я пешка, которая стала ферзём».
Ева пересекла поле и подошла к его краю; там, где оно заканчивалось, поднимался небольшой холмик с двумя соснами, как будто образующими ворота, а уж за ними, перетекая с холма на холм, как волны, простирался бор. «Почему демоны умирают? – снова подумала она, устало опускаясь на землю под сосной. – Действительно, почему? Тьфу, что за глупости у меня в голове! Надо думать о существенном, о важном, о выборе, в конце концов! А может, оно и к лучшему? Голова сама говорит, что ей нужно отдохнуть. Какое красивое поле. А этот запах!.. Как будто я снова там, далеко… – Ева облокотилась на сосновый ствол позади себя и бессмысленно проводила взглядом упавшую с ветки дерева пару иголок. – Интересно, когда придёт Люцифер спросить про мой выбор? Сколько лет пройдёт перед тем, как Небо и Земля услышат моё слово? А если я сама захочу им сказать? Время… Что такое время, когда у тебя есть целая бесконечность? И я теперь её счастливая обладательница! Могу смеяться и плакать, сколько моей душе вздумается, и не бояться, что таймер прозвенит в неподходящий момент! Это хорошо. Интересно, у меня будут крылья? Конечно, будут, что за вопрос! У всех есть, значит, и у меня будут. И тогда я облечу всю землю!.. Я пролечу над морем, посижу на скалах, потом упаду вниз, навстречу бездне, но в последний момент расправлю крылья и взлечу к облакам… Как много, однако, у меня мыслей в голове! Наверное, это оттого, что я раньше мало думала, только боялась и всё. А теперь… Теперь всё по-другому».
Ева поднялась и устало побрела дальше сквозь просвечивающие сосны. Она толком не могла сказать, куда идёт, она просто шла, и ноги сами несли её в знакомом направлении. Она вышла на набережную; там никого не было, только тихие воды спящей реки слегка ударялись во сне о каменную кладку. Солнце всё быстрей и быстрей поднималось над горизонтом, и большая тень, лежащая всю ночь на парке, постепенно стала отползать в сторону под его жгучими лучами, открывая взору выцветшие и побледневшие кусты сирени на том берегу и белые жасминовые цветки на этом. «Сколько раз я проходила этой дорогой? – подумала Ева, ступая на узкий пешеходный мост. – За всю-то жизнь накопится немало. Подумать только, совсем скоро у меня не будет перед глазами этой листвы, этих сиреневых и жасминовых кустов, как будто их никогда и не было! Ах, демоны, демоны. Странные существа, жадные до чужой любви. Но только тот способен напиться любовью, кто любит сам – нелюбящий никогда не утолит своей жажды, сколько бы любви ему ни подарили. А тут – целый народ… Но года идут, времена меняются, и начинается новая эра. Так пусть я буду её зарёй, если только у меня есть такое право».
Всё чаще и чаще Еве стали встречаться знакомые повороты и тропинки: вот мост, на котором её как-то догнал Люцифер, вот кусты сирени, сквозь которые она бежала от стаи бешеных собак, вот детская площадка, на которой она впервые – а может, и нет – усомнилась в трезвости своего разума. Теперь тут было пусто и голо: не было абсолютно никого, и только деревья стояли вокруг едва живыми истуканами. «Те псы… – впервые за всё это время подумала Ева, оглядываясь вокруг, словно пытаясь найти их следы. – Это же всё были бесы, демоны, у которых не было дома. Точнее, дом-то, может быть, и был, но он был холодный и пустой, и они пришли ко мне… Как грязные бездомные собаки, ищущие приют у любящей души».
Ева свернула направо и с удивлением остановилась: впереди, среди деревьев промелькнул до странности знакомый дом, который она уже успела забыть. Ева вышла из парка; она стояла напротив дома Люцифера, к которому впервые пришла три месяца назад, только теперь он был весь разрушен, как будто прошло не три месяца, а лет сто. «Как странно, – подумала Ева, подходя к заброшенному зданию. – Стоило мне узнать правду, как всё стало рушиться… Все демоны, как будто сговорились, умерли, и всё, что было с ними связано, тоже. Почему демоны умирают? Ах да, я уже думала об этом. Но почему? Наверное, потому что они никогда и не жили. Они лишь прах, замаскированный в лучах солнца под красивую картинку, но стоит зайти в тень, как можно увидеть их настоящее лицо, у которого пепел вместо кожи».
Пустой дверной проём зарос крапивой, и Ева прилично обожглась, когда заходила внутрь. Там всё было очень печально: от былого уюта не осталось ни следа, пустые обшарпанные стены жадно смотрели на Еву, изголодавшись по живым людям, некоторые оставшиеся вещи валялись в беспорядке на грязном полу, покрытом толстым слоем пыли. У Евы защемило сердце: теперь это была обычная заброшка, одна из сотен тысяч на этом свете, и сложно было поверить, что здесь, за этим надколотым круглым столом она играла в карты, что на этом заплесневелом диване она лежала вместе с Люцифером, поднималась по этой лестнице, от которой теперь не осталось ничего, кроме названия и двух гнилых досок. Ева пошла дальше, не глядя под ноги, за что-то зацепилась и чуть было не упала: это были длинные козлиные рога. Она медленно подняла с пола большую козлиную голову и развернула её мордой к себе, словно чучело могло ответить ей на её немые вопросы, поведать ей свою печальную историю, но голова молчала, глядя пустым взглядом жёлтых глаз с горизонтальным зрачком куда-то сквозь неё. Некогда чёрный шелковистый мех выцвел и посерел от пыли, стал жёстким и колючим; мёртвые глаза навсегда остановились на одной точке и, прикрытые до середины веками, вызывали естественное отвращение к ранее живой голове и желание поскорее отбросить её; нижняя челюсть безвольно, так же, как недавно у Бесовцева, упала вниз, демонстрируя обескровленный бледно-розовый язык и практически коричневые зубы. Ева отвела взгляд от козлиных глаз и посмотрела вниз: голова волка лежала на полу рядом, такая же пыльная и проеденная молью, как и козлиная; тогда Ева осторожно подняла оба чучела и посадила их на диван так, чтобы они смотрели друг на друга. Подобная поза представляла из себя жуткое зрелище, но ей было совсем не страшно, только чуточку грустно.
Ева вышла из заброшенного дома и пошла обратно в парк. Она не хотела оборачиваться назад: всё прошлое казалось ей в тот момент каким-то очень далёким смутным сном, который был вовсе и не с ней, словно она вдруг смогла вернуться назад и посмотреть на себя со стороны. «Что же это, – подумала Ева, огибая большой толстый тополь, – совсем ничего не остаётся? Стараетесь сделать вид, как будто ничего не было… Но ничего уже не будет, как раньше. Вы меня больше не обманете, друзья мои… Странные чувства: вроде всё прошло так быстро – глазом не успела моргнуть, а как задумаешься, так долго… Всё кануло в небытие, а я осталась одна. Одна во всём этом живом, прекрасном, человеческом мире, в котором мне больше не место».
Ева не заметила, как поднялась на высокий холм. Маленькая, старая, полуразвалившаяся часовенка, такая же одинокая, как и она, белой свечкой стояла на этом холме и скрипела приоткрытой дверью, приветствуя давнюю знакомую и приглашая войти внутрь. «Лишь здесь всё, как прежде, – подумала она, заходя. – Ан нет, не всё, – когда глаза привыкли к полумраку, Ева увидела широкую длинную трещину, упавшую с потолка на пол, как молния. Старые белые камни ещё больше покрылись плесенью, обветшали и в любой момент грозились упасть и раздавить собой редкого гостя. Иисус всё так же спокойно смотрел на неё из-за едва тлеющего огонька свечи, только дерево иконы потускнело и потемнело, и оттого глубокие чёрные тени на лице Христа казались ещё глубже и чернее. – Время не жалеет только живых, а мёртвым уже всё равно… Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Чтобы попрощаться? Да, наверное, чтобы попрощаться… Как странно… Правду говорят: история имеет свойство повторяться, и время в ней – заколдованный круг… Да что за мысли-то такие? Никогда таких не было в голове… Но раньше я никогда и не оставалась сама с собой, раньше со мной всегда был страх… А теперь я одна. Наедине. Есть только я и мои мысли, а остальное неважно, во всей этой огромной вселенной есть только я… Почему-то не страшно. Эх, Кристиан… Легенды не врут, и иконописцы правдоподобно отражают твой лик кистями и красками, но, поверь, никто и никогда не узнает тебя среди толпы. Так уж устроены мы, люди: есть мечты, которые должны оставаться мечтами, и есть вера, которая должна оставаться верой. Увидь люди тебя воочию, кто знает, они, быть может, перестали бы в тебя верить».
Ева как в замедленной съёмке потянулось рукой к иконе. Она ласково коснулась кончиками пальцев каменной кладки рядом с пропахшим ладаном деревом, и замогильный холод прошёлся током по её коже прямо к самому сердцу; Ева испуганно отпрыгнула, ощутив под рукой вместо ожидаемой морозной влаги и слизи что-то страшное и мёртвое, как будто кто-то чуждый этому миру вдруг дохнул на неё оттуда, из-за невидимой стены. Наверху что-то глухо хрустнуло; Ева выскочила из часовенки, и пара тяжёлых камней, не выдержав груз времени, рухнула туда, где только что стояла девушка, похоронив под собой и свечку, и икону, и всё то, что было до этого в мире хорошего и прекрасного.
Через два часа Ева вернулась домой и, опустившись на кровать, глухо зарыдала.
Глава 40. Безвременство
Она полюбила зло, а он не устоял
перед её добром.
Прошло ещё четыре месяца. Над городом повис сухой, холодный октябрь, пронизывая до костей колючим, пришедшим с севера ветром и кусая кожу своим морозным воздухом. Ева бессмысленно бродила по бесконечным столичным улицам, невидяще скользя пустым взглядом по незнакомым лицам, и ни о чём не думала. Да и о чём ей было думать? Всё, что раньше занимало её голову, все мудрые мысли и глубокие чувства, было пережито не один раз, изношено буквально до дыр и проедено временем.
Ева остановилась посреди дороги и посмотрела в начало улицы. Там, над серыми угловатыми линиями домов, казавшихся такими близкими и далёкими одновременно, занимался холодный, морозный, октябрьский день, остающийся в лёгких приятным запахом прели. Нет, это был не рассвет, часы на вокзальной башне жестоко показывали близость вечера, но позднее осеннее солнце только высовывалось из-за густой пелены облаков, не сходивших с городского неба которую неделю, как будто не выдерживало собственную тяжесть и едва ли имело силы двигаться. Ева, чувствуя себя так же, как это ленивое уставшее солнце, опустилась на каменную кладку какого-то забора.
На ней не было ничего, кроме лёгкого летнего платья и старых туфель, повидавших на своём веку и горы, и город, и даже Сатану. Прохожие, текущие бесконечным потоком по улице, укутанные в пальто и куртки, бросали на неё удивлённые взгляды, но Ева их не замечала и не чувствовала: холодом осени она хотела заглушить сердечный холод, в сравнении с которым даже январский мороз показался бы ей тогда тёплым майским ветром. «Как сердце болит, – подумала Ева, прислоняясь затылком к холодной каменной кладке, и эта мысль прозвучала в её голове так громко, как будто это ночью вдруг прозвенел колокол. – Неужели человеческое сердце может любить так сильно? Разве это не что-то величественное, могущественное, сотворённое не смертным? Разве может в человеческой душе родиться такая сила?» «Только в человеческой и может, – отвечал ей в мыслях её же голос. – Только человек может так любить и страдать… Поэтому он и человек».
Ева не знала, где она сейчас находится и как далеко ушла от дома. Бывали дни, когда она проводила целые сутки в своей квартире, не выходя на улицу, а бывали дни, когда она, наоборот, едва проснувшись, ещё до рассвета уходила из дома и возвращалась только для того, чтобы поспать. Такие не свойственные ей качели поначалу пугали Еву, но потом она что-то поняла, и это «что-то» теперь давало ей право делать вообще всё, что ей заблагорассудится.
Ева устало вздохнула, подняла голову, чтобы прочитать название улицы и всё-таки узнать, где она находится, а затем встала и побрела в обратную сторону. «Вот и ещё один день подошёл к концу, – подумала она, спускаясь вдоль трамвайных путей вниз, к площади. – Что это за странное чувство у меня в груди? Как будто… Как будто это конец. Но конец чего? Дня? Месяца? Или… Что ж, может быть».
Ева сама не заметила, как вернулась домой. Она чувствовала себя плохо, как будто какая-то песчинка попала в её душу и теперь мешала ей, заставляла слоняться по миру, не находя себе место. Она медленно, насколько это было возможно, вошла в подъезд, перед этим оглядев его, как будто желая убедиться, что это действительно он и она ничего не перепутала, а затем в раздумьях остановилась перед лифтом. Что-то в нём не понравилось Еве, и она, всё так же медленно переставляя ноги, стала подниматься по старой, разбитой серой бетонной лестнице на свой родной этаж.
Кажется, она никогда толком и не поднималась по этой лестнице; спускаться – да, но подниматься… Уж слишком много ступеней в ней было, особенно для обычной, ежедневной, мирской жизни. Но сейчас что-то изменилось. Ева задумчиво остановилась на середине пролёта и посмотрела вверх: над ней возвышалось бесконечное количество ступеней, по которым, наверное, дальше пятого этажа никто и не ходил, и ей вдруг захотелось преодолеть всё это расстояние, прочувствовать каждый шаг, чтобы каждый её след оставил след в её душе. Теперь она поняла Ранеля. Она сделала шаг, ещё один, а потом ещё и ещё. Она шла нарочито медленно, оттягивая время незнамо перед чем, но между тем верно приближаясь к чему-то неизбежному, тому, что до этого дня она не знала, но о чём так часто думала. Сейчас она не думала о нём, но чувствовала его как никогда раньше. Ева слышала, как где-то на улице зашелестел дождь, и без того тёмная лестница стала ещё сумрачнее, и каменный холод обдал её своим мертвецким дыханием. Шаг. Ещё шаг. Где-то этажами выше скрипнула, оглушив глухие бетонные стены, на осеннем ветру приоткрытая форточка, и влажный запах прели и дождя заполнил собой закрытое пространство. «Печальное время, время тоски по ушедшей весне», – вспомнились ей слова Амнезиса, и, наверное, впервые она по-настоящему поняла, что он имел в виду, или это она растолковала их по-своему. «Ушла моя весна, – как-то холодно и равнодушно, принимая за факт, подумала она, поднимаясь всё выше и выше. – Нет никого, всё ушло: я одна, одна во всём мире. Так зачем я здесь? Я всё уже сделала, по крайней мере, на этом свете. Четыре месяца прошли как четыре дня, словно их и не было, а всё потому, что мне больше нечего здесь делать… Абсолютно нечего».
Её шаги гулко отдавались от голых стен пустой бетонной коробки. На какой-то момент она даже забыла, кто она на самом деле, как её зовут и что с ней было раньше, она только шла вверх, переставляя ноги с одной каменной ступеньки на другую и раскачиваясь из стороны в сторону, как тот самый маятник, который отсчитывает её время. Шаг. Ещё шаг. Сколько уже этажей прошла она? Семь? Десять? Она не знала. Она снова перегнулась через перила и, подняв голову, посмотрела вверх, считая пролёты… Им не было конца. Тогда она посмотрела вниз и увидела под собой такую же бесконечность лестницы, закручивающейся вокруг себя по спирали, словно огромный серый змей. При мысли о драконе что-то смутно знакомое зашевелилось на задворках её памяти, но она так и не вспомнила, что именно.
Она устало остановилась на одном из лестничных пролётов и прислонилась спиной к холодной мокрой стене, переводя дыхание. Сначала над ней скрипнула на ветру рассохшаяся от времени и давно не крашенная деревянная форточка, а затем слева от неё – старая входная дверь. За окном глухо прорычал гром. Поток сырого воздуха дохнул в пустое мёртвое здание, и перед глазами Евы медленно упал на пол пожухлый, мокрый и полугнилой кленовый лист, ещё в сентябре радовавший её своими яркими красками. Ева задумчиво наклонилась и подняла его. «Брось меня, – как будто сказал ей лист, оказавшись в её руках. – Посмотри, каким я стал: я уже не тот, что был когда-то, не полыхаю осенним пожаром и не выделяюсь на фоне ультрамаринового неба. Я сырой и бледный. Зачем я тебе такой нужен? Отпусти меня, дай мне спокойно сгнить в земле… Так от меня хоть какая-то польза».
– Ты река ль, моя быстрая, ты река ль, моя реченька… – вдруг запела Ева, и её светлый голос отразился хрустальным звоном от голых стен подобно чистому роднику. – Ты течёшь, не колыхнешься…
Ева повернула голову и увидела число «двенадцать». Её сердце ёкнуло, но она, сжав кленовый листочек в пальцах, пошла к себе… домой.
Всё было как прежде: ничего не изменилось в квартире с тех пор, как её впервые увидел мой читатель; казалось, она застыла во времени вместе с той, что в ней жила, и каждый день возвращала её назад, к тому дню, когда она уснула, зачитавшись Библией. Всё та же тишина, нарушаемая лишь шумом с улицы, висела в каждой комнате, коих было всего три, всё тот же мёртвый покой, как стоячие воды забытого пруда, растекался по полу и топил собой единственного жителя, и всё тот же безупречный порядок говорил об отсутствии в жизни других интересов. Всё было как прежде.
Ева, как была, легла на давно знакомую кровать, только скинула осточертевшие за столько лет туфли где-то в коридоре и прошлась до комнаты промокшими от дождя босыми ногами; ещё в прихожей её рука было потянулась к замку, чтобы запереть входную дверь, но какая-то странная мысль промелькнула в ней, и она оставила её открытой.
За окном стемнело, и комната погрузилась в мрак. Некоторое время Ева лежала на спине, разглядывая в тёмно-синем потолке что-то, видное только ей одной, а затем перевернулась на бок и нащупала рукой выключатель – вспыхнул маленький рыжий огонёк, и лампочка осветила до боли знакомые линии, всё те же, что и много лет назад. Еве было плохо: она сама не могла толком объяснить, что именно у неё болело, но это что-то не давало ей покоя и сдавливало своей тяжестью грудную клетку, как будто на ней лежал камень. Она осторожно протянула руку и положила кленовый лист на тумбочку под горящий ночник: это был ничем не примечательный, пожухлый, выцветший и побледневший, давно растерявший под холодным дождём свои краски кленовый лист, который, поддавшись строгому велению природы, утратил свою волю и слился с окружающим его серым пейзажем, оставив лишь где-то в глубине своей кленовой памяти яркий огненный образ и знание, что этим образом когда-то был он. Но Еве он нравился и таким, каким он был сейчас, перед её глазами. Этот маленький, слабый, обескровленный листочек смирился с тем, что больше им никто никогда не восхитится, что больше он не украсит ничей гербарий, потому что стал никому не нужным, гнилым, проеденным болезнями и насекомыми листом, последнее дело которого – удобрить собственным телом землю, чтобы дать силы своему родителю породить ещё сотни таких же красивых, как когда-то и он, кленовых листьев. Он не ждал жалости к себе, сочувствия и слёз, и единственными слезами, которые, как он думал, прольются над его мёртвым телом, были капли октябрьского холодного дождя, добивающего своим равнодушием, высокомерием и тоской; он думал, что единственными рыданиями над его полной воды могилой будет осенний ветер, запутавшийся в длинных голых ветвях деревьев, на которых, быть может, когда-то рос и он сам, когда-то… Когда-то давно. Но нет. Вместо холодного дождя и пронизывающего до костей ветра над ним плакала большая человеческая фигура, такая же выцветшая, побледневшая и проеденная болезнями, как он сам. Будь у него силы, такие, какие есть у человека, он бы, быть может, поднялся на одну свою тонкую ножку, которой когда-то держался за дерево, отнял бы ладони от лица девушки и, увидев в молчании скатывающиеся по щекам слёзы, сказал бы пару ласковых слов, какие только он сам слышал в этой жизни. Он бы дождался, пока большие, ясные, голубые, смотрящие на него с огромной высоты глаза не исчезнут под опустившимися против воли веками, пока слабый ветерок, именуемый у людей дыханием, не перестанет качать из стороны в сторону его слабую, тонкую фигуру, и, когда вулкан под названием человеческое тело, в конце концов, остынет и превратится в спящий горный хребет, он наконец поймёт, что наступила осень.
– Здравствуй, Ева, – услышала она такой желанный голос. Ева встрепенулась, утёрла слёзы и с робкой улыбкой на лице посмотрела на сверкающие в самом тёмном углу комнаты вишнёвые глаза.
– Люцифер… – прошептала она. – Ты пришёл спросить мой выбор?
Люцифер вышел на свет.
– Нет, Ева, – грустно покачал головой он, опускаясь на колени рядом с её кроватью так, чтобы их лица были на одном уровне, и чуть привалился плечом к жёсткому матрасу. – Я пришёл не спросить, я пришёл просить твой выбор.
– Что… Что ты имеешь в виду?
– Помнишь, как-то давно мы играли с Бесовцевым в карты? – начал Люцифер, доверительно положив голову на согнутые в локтях руки. Ева кивнула. – И ты осталась должна мне одно желание.
– Помню. Одно желание.
– Да… Увы, всего одно, – прошептал Люцифер, с нежностью и в то же время грустью рассматривая ужасно худые, впалые щёки, бледную кожу и воспалённые глаза – вид у Евы был болезненный. – Одно: самое сокровенное, самое-самое.
– Ну же? Что за желание? – чуть подбодрила его Ева, когда пауза затянулась и она поняла, что Люцифер не находит в себе силы его озвучить. Тот судорожно вздохнул и поднял на неё глаза.
– Ева… Моя милая, дорогая Ева… Ты всё ещё вольна в своём выборе, и я не имею право на него влиять, но всё же… Пойдём со мной, умоляю… Сделай это ради моих людей, ради моего народа. Прошу тебя…
Некоторое время было тихо.
– А если бы не было народа? Ты бы попросил меня об этом? Сделал бы это просто ради меня?
Люцифер склонил голову на бок, и свет показал его измученное, впервые за всю долгую жизнь уставшее ждать лицо.
– Тысячу раз.
Ева медленно поднялась, Люцифер тоже. Он встал по середине комнаты и протянул ей руку – не нужно было слов, чтобы понять, что выбрала Ева, хотя бы потому, что она смело вложила в большую, слегка грубую ладонь Сатаны свою, и добрая, ласковая ухмылка коснулась его губ. Комнатка у Евы была маленькая, но он повёл её в тот тёмный угол, в котором появился сам; перед тем, как войти в темноту, Ева обернулась и увидела, что на её кровати кто-то лежит. Заметив её заинтересованный взгляд, Люцифер выпустил её руку и позволил ей удовлетворить своё любопытство, ведь им больше некуда было спешить, не к кому и незачем: теперь у них была целая вечность, не более и не менее. Ева вернулась к кровати: в постели лежала она сама, с плотно закрытыми глазами и блаженной улыбкой на лице, и Ева впервые за всю жизнь увидела, какой красивой она была на самом деле. У этой девушки были длинные волнистые золотые волосы, ясные голубые глаза, правда, теперь навсегда скрытые веками, и маленькие ладошки, но не это делало её красивой: у этой девушки было большое чистое сердце, и пусть в той, что лежала сейчас перед Евой, оно уже перестало биться, в самой Еве оно продолжало качать кровь с удвоенной силой.