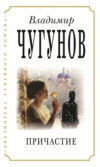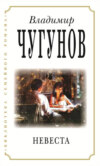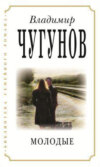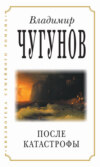Loe raamatut: «В садах Эдема», lehekülg 6
– Ннет…
– А солныхко?
– Солнышко горячее.
– А я его съем!
– Так обожжешься!
– Нек, я хэ его оскудю… Погую (подую): фу-фу…
– Ловко. Но надо опять лесенку делать.
– Нек, ук’ом (утром) солныхко хэ низко, его мохно – хвать!
Бабушка делает Лизе салат и всё время говорит «помидорка».
– Помидой, – поправляет Лизанька.
– Ну, помидор, – соглашается бабушка.
– Ты азве не знаех, как нада гаваить?
– Знать-то знаю, да я старенькая – забываю…
– А ты не забывай! Гаваи п’авийно.
Я погружён в «Историю Русской Словесности» Шевырёва; теории тут немного, зато даже известные факты освещены с непривычной и любопытной стороны – русского человека, который даже и не подозревает, что у него могут быть две родины; я не могу избавиться от чувства зависти к тем людям, к их уверенности в бытии своей земли…
У Григорьева вычитал, что немецкий национализм (уже с языческим, «нацистским», уклоном) родился на полстолетия раньше, чем я предполагал: «Клопшток и его друзья возобновляли клятвы древних германцев перед Ирминовым дубом…» Конечно, это было только зерно, которое начало прозябать лишь с 1805 года, когда немцы внезапно стали французами (как Гейне, например), а в 1819 году дало первый цвет, бледность которого тут же окрасилась кровью и ознаменовалась ненавистью к России.
21.09.84.
Только что пришли с прогулки. Во дворе встретили бабушку, и, пока я заносил её сумки, Лиза с бабушкой провела очередную воспитательную беседу. Возвращаюсь – бабушка смеётся:
– Слышь, Володя, что Лиза говорит?.. Не плюй на землю, говорит, она священная.
Пока не стемнело, каталась на велосипеде и сочинила песню:
Не упасть! Не упасть!
Под махыну не попасть!
Я было поправил:
Как бы Лизе не упасть,
Под машину не попасть!
– Нек! – закричала она. – Не так!
Шкобы, шкобы не упасть,
Под махыну не попасть!
Стемнело. Велосипед я занёс домой.
– Погуляем, Лизанька, ещё?
– Га!
– Куда же пойдём?
– В тёмный ес (лес), где мегведи…
Это значит – на площадку в соседнем дворе.
– Кам полянка есь, – сочиняет она по дороге, – кам цветы аскук (растут) и ягоги…
– Ну, ягод-то, пожалуй, уже нет…
– Нек, кам есь! кам есь!
– Так осень же уже, Лизанька!
– А кам – леко (лето)!
– Что за странная такая полянка? Везде осень, а там – лето…
– А знаех, почиму кам леко? Знаех?
– Н-нет…
– Покамухко кам – юг! – выпаливает она.
Возвращаемся. Жалобно:
– На учки…
Я вздыхаю, но подхватываю её:
– Ты уже такая большая девочка, Лизанька, а всё просишься на ручки. Объясни мне, отчего тебе так нравится «на ручках»?
Она устраивается поудобнее, обнимает меня за шею:
– Пакамухко я кибя (тебя) на учках госкаю (достаю)… Я кибя пакамухко очинь поюбила…
– Когда же это ты успела?
– Сиводня…
– А вчера?
– И вчера тохэ, навейно, поюбила…
24.09.84
Дочитал Кафку на немецком и очередную статью Григорьева (о Толстом). Все три романа Кафки неокончены; давно я так не скучал, читая немецкий текст. По истолкованию Брода, в «Процессе» и «Замке» представлены две формы Божества, т. е. две формы Его явления миру – Суд и Милость («в смысле Каббалы»). Возможно. Но мистика оккультизма, по своей выдуманности, может быть, и имеет какое-то значение для изучения степеней помрачения личности, но для творчества – это мертвящее дыхание распада. Поразительна подробность бессмысленных монологов, их механическая занимательность. Эффект некоего впечатления (странности? кошмара? наваждения?) достигается соединением полной абсурдности происходящего с суховатой простотой и обыденностью языка, вплоть до канцелярской незаинтересованности. Эффект есть. Несомненно. Но это не литература, это – диагноз. Эти «писания» можно закончить в любом месте, или продолжить до бесконечности – эффект будет тот же. Можно было бы назвать такие «письменные упражнения» игрою, подобно забавам декадентов, но все игры кончаются за порогом больничной палаты, в которой мечется умирающий.
Зато подобно живой воде показалась мне после Кафки статья Григорьева, не менее неистового, чем пресловутый Виссарион… нет, скорее, страстно сдержанного… или нет: пишущего с едва удерживаемой страстью (почему-то Григорьев мне всегда представляется взлохмаченным, в распахнутом длиннополом пальто, с полуразвязавшимся галстуком).
«В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования /вот! – стремление и путь русской словесности!/ всякого стремящегося ожидают два подводных камня: отчаяние от сознания своего собственного несовершенства, из которого есть ещё выход, и неправильное, не прямое отношение к своему несовершенству, которое почти совсем безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению; задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полною, беспощадною справедливостью. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушение несравненно более тонкое и опасное, именно – преувеличить свои слабости до той степени, на которой оне получают известную значимость и, пожалуй, даже, по извращённым понятиям современного человека, величавость и обаятельность зла».
26.09.84
Иванушка весь покрывается сыпью; сегодня понесём в больницу – что это? может быть, тот же диатез, что пышно расцвёл на его щёчках, когда мы стали подкармливать его смесью «Малыш»? Уже месяц мы получаем кефир и творожок с детской кухни, и диатезные пятнышки стали вроде исчезать.
Лиза удивляет меня своим словарём… Идём с нею от автобусной станции; в прошлый раз, проходя тут же, она заметила в стороне от дорожки пластмассовую голову от игрушечного крокодила, остановилась и спросила: «А почему он грусьний? Его выбросили, га?» – на этот раз она пытает:
– А где крокодил? Мохэк, его забрали?
– Не знаю, Лизанька. Может быть.
– А мохэк его спрякали?
– Где же?
– А вон за кой кочкой валяется, га?
Тут мне удивительны и «кочка», и «валяется».
В библиотеке. Торопясь, я усаживаю её за стол в коридоре:
– Вот, посиди тут, порисуй…
Усаживаясь, она расстёгивает свою сумочку, в которой толстой стопкой лежат чистые с одной стороны каталожные карточки, и раскладывает их на столе.
Время от времени я выглядываю к ней из зала – жду библиографа из генерального каталога – сидит, сложив ручки на своих бумажках.
– Что же ты, Лизанька? Рисуй! Я сейчас приду.
Смотрит своими круглыми глазками и отвечает важно и уклончиво:
– Вот кага ты пайгёшь в тот отдел (!), я наисую…
На улице. Мимо проходит маленький мальчик с мамою.
– Смоки!.. Мальчик!.. И хапочку набекрень!.. (!)
Не договорила, рассмеялась.
Возвращаемся из библиотеки. Лизанька устала, и я отвлекаю её: поджимаю ногу, прыгаю на одной:
– Ой, ножка болит! Не могу идти!
Лизанька смеётся, тоже поджимает ножку, пытается прыгать за мной. Сразу забыла, что уже просилась «на ручки», начинала капризничать.
– А у меня уже не болит, – говорю я, наскучив медленным продвижением. – Я могу и быстро ходить. Вот так!
– А я кохэ! а я кохэ!
– Ну, нет, – подбадриваю я, – у тебя ещё болит, ты не можешь быстро ходить.
– Могу! могу! Смок’и – во как! во как!
Почти бежим, смеёмся. На ходу – краем глаза вижу, как мелькают её сапожки; шучу:
– У тебя, наверное, ещё болит. Смотри, вон какие у тебя ножки красные!
Ошибка! Она останавливается, наклоняется:
– Эко хэ не нохки! эко хэ сапохки!..
– Так не болит?
– Нек! А у кибя?
– А у меня и не болела!
– А у каво?
– У медведя болела. Это он так медленно ходит.
– Га! Он косаяпый. А мы бисько!
– Почему мы быстро?
– Мы хэ чеавек (человек).
– Кто? – наклоняюсь я к ней, чтобы лучше расслышать окончание.
Она догадывается, что что-то не так.
– Чеавек… – говорит потише.
– Кто – человек?
Ещё тише:
– Мы…
Я смеюсь:
– Человеки мы!
– Чеавеки! – она довольно смеётся и тут же добавляет, шаля: – Чийвяки!
– Ну, уж извини. У червяка нет ножек.
– Еськ.
– Что-то я не видел.
– Я вигела.
– Ну, и где же ножки у червяка?
– Он их п’ячет.
– Куда?
– Внукь (внутрь)…
Я вновь смеюсь. Лиза пытается меня убедить:
– А паком ходит… вок так… – она растопыривает ножки, идёт вразвалочку.
И поражает меня:
– Раскопыривает нохки и игёг (растопыривает ножки и идёт).
Откуда у неё взялось слово «растопыривает»?
27.09.84, Воздвиженье
Мы с Иванушкой одни дома – Олечка с Лизанькою ушли в больницу на прививку, мать уехала по делам. Иванушка уснул было, но тут же заплакал… Я переодел его в ползунки, подкатил коляску к столу, и теперь он лежит в ней, таращится в потолок, дёргает ножками и машет ручками, иногда с усилием выворачивает голову, словно хочет посмотреть «а что там у него под головкой?», и гукает…
Вчера был хлопотливый день: возили в больницу Иванушку; сыпь объяснилась – обострился диатез, как мы и предполагали. Ездили ко всенощной; в храме встретили Анастасию Антоновну, от неё узнали, что батюшка был в отпуске (а то мы его совсем потеряли). Вечером я умирал от желания поспать (ложусь поздно, встаю ни свет, ни заря), но пока укладывали Лизаньку, пока попили чаю на кухне, а потом я ещё стирал – пошёл уже первый час… И тут же проснулся Иванушка. Ночь была ужасна. Он кричал часа два, пока его не выкупали и не смазали. А потом я ещё целый час возился с Лизанькою, которую Иваша разбудил. И сегодня на работу я встал в семь, вместо пяти.
Что-то Иванушка скорее засучил ножками, и гуканье его переходит в покрикиванье. Надо посмотреть.
30.09.84, около 3-х часов пополудни
Усыпляю Лизаньку – как всегда в последнее время: подкатываю кроватку к столу и, время от времени поглядывая в неё, шёпотом усмиряю маленькую девочку: «Глазки закрой!.. Ручки убери!.. Ротик закрой!.. Глазки!..»
С погодою странно дело обстоит: после тёплых по-осеннему дней вдруг пришли тёплые по-летнему; вчера к вечеру было даже жарко; и ветер тёплый, с юга.
Позавчера мы с Лизанькою были в гостях у батюшки. Она почти весь вечер просидела у меня на коленях, как батюшкины девочки ни сманивали её. Сидела сначала тихо, как мышка; потом освоилась, забормотала нараспев, не обращая внимания на беседу поверх её головы, даже напевала что-то, покачиваясь в такт всем тельцем. Сегодня я возил её к причастию. А Олечка побывала у ранней обедни – как давно не бывала: пришла задолго до часов… И оттого вернулась сияющая, мягкая.
А вчера в библиотеке мне не выдали книгу (я выписал Жуковского). Вновь требуют странную бумажку: «На каком основании читаете старые книги?»
– Может, вы их фотографируете или перепечатываете…
– Переписываю.
– Вот! Видите?.. А нельзя!
– Как нельзя? Я же конспектирую!
– Всё равно… нельзя. Положение такое…
И сегодня после храма я заехал в библиотеку поговорить с заведующей. Разумеется, с Лизанькой. И заведующая не устояла против столь пленитель ной атаки – молодой, лохматый папа («и кудри пышные до плеч») с очаровательно кудрявой девочкой на руках… Пообещала – книги будут давать.
Лизанька иногда с любопытством спрашивает, когда я отказываюсь попробовать её молочка:
– Поськ вам?
То есть «пост вам?» (у вас).
Объяснила мне, что деревья и травы не сами растут – «Господь растит».
С удовольствием бродит по лужам, предлагая:
– А гавай искупаемся!
– Где?
– А вок кук – в лухэ…
– Вода, смотри, какая грязная.
Но для неё это – целая тема, и она вдохновенно рассказывает, что мы возмём большую лопату, разгребём всю грязь и насыпем туда песочек.
– А песочек зачем?
– Шкобы вага (вода) была чиская…
Я дочитал Григорьева, в библиотеке оказалось 13 выпусков; последние два – о поэзии Некрасова и о русских песнях – оставили меня холодным. Говорят, Григорьев замечательно пел и даже написал пару неумирающих романсов («Две гитары, зазвенев…») – может быть, это и помешало ему заглянуть в глубину песенности; есть несколько верных, но только психологических замечаний. О Некрасове он тоже наговорил много верного «около», но поскольку это не только литературный феномен, но и некоторое «высказывание времени», для разговора об этом поэте нужна историческая перспектива, которой у Григорьева, разумеется, не могло быть. Вот проклятья и восторги Розанова уже заставляют волноваться и о многом догадываться.
«Воспоминания» Златовратского – принимаясь за мемуары, почтенный автор, подобно комсомольцу 20-х годов, провозгласил, что не может иметь значения всё личное, только социальное имеет смысл; и воспоминания его вполне этому лозунгу соответствуют: пусты и бессодержательны – ни живого лица, ни живого слова. А вот воспоминания его дочери написаны гораздо живее. Прозу же его хочется посмотреть: в 80–90-х годах XIX века этот «почётный академик по разряду изящной словесности» считался экспертом по «народным устоям».
Самым интересным чтением оказалась «Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь» Шевырёва. В очерке о библиотеке монастыря он перечисляет «лестницу страстей», известную нам по Иоанну Лествичнику, но по краткости изложения она вполне достойна повторения:
Прилог – «это есть самое объявление помысла уму, которое, собственно, как и самый помысел, от нас не зависит; сочетание – ответ нашего ума на его явление… приятие помысла, беседа с ним, но ещё не заключающая в себе никакого к нему склонения; сложение – преклонение души к помыслу, уступка ему в беседе, сочувствие…» Дальше идут пленение и страсть.
«За посланиями Нила Сорского следует перевод небольшого, весьма замечательного сочинения Анастасия Синаита о помыслах. Он обращает внимание на многих духовных деятелей, которые думали состязаться с самими помыслами и их в себе уничтожить, вооружались против них постом и слезами, и в пустыни удалялись, но нисколько в том не успели: ибо в помыслах своих человек не властен – и за них не отвечает Богу; но власть его начинается с того времени, как помысел к нему явился: и от него зависит прямое отсечение прилога…, т. е. не начинать с ним никакой беседы, никакого знакомства».
Какая прихотливая пунктуация, даже затрудняет чтение.
Заглянув в «бук», с удивлением обнаружил на полке роман Лажечникова «Последний Новик», вышедший в прошлом году трёхмиллионным тиражом (но в книжных магазинах я его не видел). Уже успели сдать!.. И, очевидно, недавно – мне повезло.
03.10.84.
Лизанька приболела – насморк; Оля принялась за лечение: из рациона вычеркнула молочную и мясную пищу, поит соками.
В автобусе мы с Лизанькою сели на переднее сиденье и на поворотах дружно с нею кряхтели – Лизанька вертела в руках свою сумочку, как рулевое колесо – так мы помогали автобусу поворачивать. Вышли.
– А почему хафёр улыбался?
– Разве он улыбался? Я не заметил.
– Улыбался. Покамухко мы ему помогали, я видева… Кага он улыбается, у него лицо… – она засмеялась, – лицо у него похохэ… на к’ёстного…
Идём тротуаром, Лиза бормочет:
– Я девочка запасливая… И кампок (компот) нага запасать – зимой бугим пить…
Спрашивает:
– Лазейка от слова «лазить», га?
Это она обратила внимание на дыру в заборе.
– Смок’и… у скамейки есь буква У…
Смотрю: да, похоже.
Иванушка уже вовсю с нами общается: улыбается, забавно корчит ротик и выводит «ао-у-а». Почти совсем твёрдо держит головку. На руках предпочитает не лежать, а сидеть. Нынче Олечка всунула ему в ручку гремушку, так он скосил на неё глазки и пытался следить за произвольными движениями своей ещё неуправляемой ручки.
05.10.84, около 2-х часов пополудни
Укладываю Лизаньку – по обыкновению, у стола. Вот Олино письмо Щукиным (четыре дня писала):
«Милые и родные… Я не знаю, что иногда бывает со мною, но я шла сегодня со службы и знала, что от Танечки придёт долгожданное письмо… в благодатные минуты я так живо чувствую вашу жизнь и ваше присутствие в этом мире.
Сегодня я ранним утром уехала на службу. Давно уже не удавалось мне попасть к началу её. И я была до глубины тронута её благодатной силой и красотой. И я с грустью подумала о наших Володях – вот они всё что-то ищут, спорят, выясняют. А есть „единое на потребу”. Отсюда истекает вода живая. Здесь бы остановиться и служить, позабыв о времени…
Вообще, мы с Володею чем глубже погружаемся в семейную жизнь, тем более, кажется, понимаем монашествующих. Вот бы с этим нынешним опытом да вернуться лет на 5 назад. Но… вряд ли что переменилось бы. Есть судьба и есть единственный путь. Всё можно победить смирением, а его-то и нет. Так глубоко гордость коренится в моём многогрешном сердце.
…наш отесинька принёс из библиотеки старинный том Жуковского, и там мы нашли стихотворение про Жаворонка, нам всем известное, но, оказывается, без последней строфы:
Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно!
Весь Божий мир здесь вижу я,
И славит Бога песнь моя!
…Когда мы получили ваше письмо и прочитали вслух, то Лизанька сказала: „Милая Леночка, что ж ты не едешь ко мне?” Целуем вас. Ждём писем и в гости.
P. S. Милая Танечка, у меня к тебе просьба – если увидишь в аптеке перцовый пластырь, купи, пожалуйста, штук десять».
13.10.84
Я уволился из дворников; вчера получил окончательный расчёт. Все эти месяцы я работал один на своём участке, не сталкиваясь не только с начальством, но и с коллегами по работе; в контору заглядывал только за получкою. Начальник пару раз ловил меня в коридоре и выговаривал за то, что я не бываю на утренних «летучках». Все дворники… точнее, «дворничихи» (сплошь – одни женщины) каждый рабочий день часов в восемь, в девятом собираются в «красном уголке» во главе с начальником участка и обсуждают производственные проблемы. В первый день, не зная границ возможного, я тоже, уже убравшись на своём участке, пришёл на это заседание и около часа выслушивал «бабий крик»: того не хватает, этого нет, квартир не дают, а очередь уже прошла… Я вышел «покурить» и исчез. Когда через пару недель начальник прижал меня в углу, я спросил его, доволен ли он тем, как я работаю. «Ну… да. Бригадир говорит, что работаешь старательно…»
– И что ещё нужно?
– Надо ходить на «летучки».
– Извините, мне это не нужно. Да и вам, по-моему, тоже… Шум и гам, больше ничего.
В таком духе мы перепирались минут десять, пока его не отозвали. Я давно заметил, чем проще и трезвее аргументы, тем беспомощней любая демагогия, и широко этим пользуюсь. Мы ещё несколько раз сталкивались с ним по этому поводу, но вот на днях он сказал мне, что «бригада требует моего присутствия на летучке» – мол, у них ко мне какие-то претензии. «Ладно, – сказал я, – приду, раз такое дело». Ничего хорошего я не ждал. При редких, мимоходом, встречах с коллегами по утрам, когда я шёл с работы, а они расходились из конторы по участкам, они заговаривали иногда со мной игривыми женскими голосами, я так же легкомысленно отшучивался и считал, что все ко мне прекрасно относятся, пока однажды женщина с соседнего участка, часто меня выручавшая по мелочам, не сказала мне: «Смотри, Володя… Наши тебя невзлюбили…» Я был ошеломлён: с чего бы это? Она только пожала плечами.
Так что я был готов к холодному приёму. Правда, действительность всё же превзошла степень моей готовности. Я слегка оторопел от беспричинной злобы, с которой эти милые женщины выкрикивали мне какие-то бессмысленные обвинения, из них я уловил только одно конкретное: что я… не хожу на «летучки». Бред какой-то.
– Стоп! – сказал я. – Секундочку. У кого-то есть претензии к качеству моей работы?
– Нет, о работе никто не говорит… Участок убран, спору нет…
– Всё остальное я считаю несущественным. Но если вам не нравится сам стиль моей работы…
– Не нравится!.. Единоличник какой-то!..
– Тогда я ухожу.
Когда в кабинете начальника я писал заявление об уходе, он пробовал меня уговорить: мол, пошумят, погалдят и успокоятся. «Нет, – сказал я. – Слишком нервная обстановка, меня это не устраивает. У меня своих проблем хватает».
Уже с неделю идут настоящие осенние, затяжные дожди: зарядит с полуночи и льёт тихо до полудня. Четыре дня назад приехала Танечка с Леночкой; на следующий день после приезда я отвёз их к отцу Иоанну, там они и остались – увы. В эти как раз дни Лизанька и Олечка переболели жестокою простудою, и я поэтому потерял работу в храме: отработал день, и меня звали остаться в ночь – я приехал домой перекусить и попрощаться, но дома застал всё вверх дном и Олю на диване…
Иванушка съедает за один присест 350 грамм; выписанного питания не хватает, кормим простоквашею из рыночного молока – у Оли его почти совсем нет.
Лизанька уже сама одевается и пробует сама есть. Твердит мне: «Ига!..» – а я не понимаю:
– Игра, что ли?
Она сердится, хмурит бровки и совсем уже обижается, когда я пожимаю плечами:
– Ига!.. Разве можно иг’у кухать?
– Ах, еда! – догадываюсь я.
16.10.84
С 15-го числа я числюсь в сторожах Покровского собора; сегодня вернулся с первого дежурства. Ехидный бригадир сторожей, с которым я повздорил ещё на Пасху, взял с меня расписку: мол, обязуюсь не читать книг в рабочее время. С пылу, с жару – и от неожиданности – я подписал эту глупость – дурацкий колпак гордости! – теперь морщусь от стыда и неестественности. Но – не читал.
А дело было так. Во время пасхальных дежурств всё свободное время, которого было немало, особенно по вечерам, я, разумеется, проводил за книгою, примостившись в любом более или менее подходящем уголке. Бригадир, наткнувшись на меня в первый раз, сразу заявил: «А читать нельзя!» Я искренне удивился:
– Почему?
– Мы на работе.
– И что надо делать?
Момент для своего замечания Васильич выбрал неудачно: мужики только что разлили по полстакана водки, и он со своим стаканом проходил мимо меня к закуске. Я от выпивки отказался и сидел в сторонке… Он замялся, оглядываясь, но на нас никто не смотрел, все шумели у стола.
– Ничего не делать. Все сидят, и ты сиди… Не пьёшь – твоё дело. Так сиди.
– Это глупо, – спокойно сказал я.
– Ишь, умник… Не сработаемся мы с тобой.
Я пожал плечами: не сработаемся – значит, не сработаемся. И сказал:
– Вам виднее.
Надо сказать, что к церковным служащим я, начав бывать на службах, относился с невольным благоговением. Мне нравились благообразные старики с аккуратными бородками, строго обходившие храм с тарелкою или просто мелькающие в толпе молящихся по своим таинственным делам. Я в них невольно видел людей, о которых читал в книгах: это – старина, это – остаток того, настоящего русского народа; не с нашей легковесною верою вставать в их ряды. И когда на всенощной к Покрову помощник старосты, Василий Андреевич (удивительно милая личность, у него даже во взгляде просто светится ум и заранее обещана ласка) подошёл ко мне и зазвал в конторку, я заволновался предчувствием.
– Вы где работаете?
– Только что уволился из дворников.
– К нам в сторожа не желаете?
– К вам?.. – кажется, я даже покраснел. Сказать «недостоин»? Уж слишком трафаретно. – Не знаю… Я курю.
– Вредная привычка… Ну, так как? Пойдёте в сторожа?
– Если подхожу… С радостью.
Правда, к этому времени я уже знал, что далеко не ангелы расхаживают по храму в синих халатах, за лето я частенько подрабатывал около церкви, но с суждениями не спешил, предпочитая оставаться при своём благоговейном заблуждении.
Вчера утром Василий Андреевич привёл меня в сторожку – шла пересменка – и сказал:
– Вот наш новый сторож – Володя… Будет вместо Юры. А это наш бригадир, Михаил Васильевич. Вы должны быть знакомы.
– Знакомы, знакомы… – пробурчал мой недоброжелатель, подавая мне руку.
И как только помощник старосты ушёл, он тут же начальническим тоном сказал:
– Пиши, студент, расписку – никаких книг на работе.
– А Евангелие?
– Не умничай.
Я усмехнулся, но на душе стало тяжело. Не из-за книг – из-за этой беспричинной враждебности. А всё равно – около храма (ведь даже мечтать не смели).
С Танечкой и Леночкой мы встретились в субботу на всенощной. Оля с тревогой заметила, что Танечка плохо себя чувствует – оказывается, простыла. Мы увезли их к нам, и Олечка принялась за лечение… Они прожили у нас два дня, Танечка ожила, и вчера вечером к нам приехали в гости о. Иоанн с матушкою и увезли наших гостий снова к себе. Леночка и Лизанька в эти дни были предоставлены самим себе и баловались с утра до вечера.
Бабушка несёт Лизаньку к окну – постоять на подоконнике (в плохую погоду это – любимое развлечение: поглазеть на улицу). Но Лизин взгляд падает на иконы.
– Вок, Богоодица на кибя смок’ит, – с упрёком говорит она бабушке и добавляет скорбно. – А ты Её не любих…
– Почему не люблю? – оправдывается бабушка. – Я Её просто не признаю.
Обедаем. Лиза сползает со своего стула, тащит его к холодильнику и снова вскарабкивается на него.
– Ты куда это, Лизанька? – спрашиваю я.
– Сейчас, сейчас… – торопливо отвечает она и, уцепившись за край дверцы, тянется на цыпочках.
– А-а! – говорит разочарованно, – эко лук! А я-ко гумала, кук шко-нибуг такое…
– Какое?
– Такое! С’аденькое!
Капризничает, надула губки:
– А почиму так мало?
– Лиза! – с упрёком говорит Олечка. – Как тебе не стыдно!
– А кибе бо-ольхэ… – уже плача, отвечает Лизанька.
– Ну, так что ж, что больше? Я же больше тебя.
– Га-а… ма-ало!
– Какая нехорошая, жадная девочка! – в сердцах говорит маминька.
– Не давай ей совсем ничего, – строго говорю я.
Лизанька недоверчиво, сквозь слёзы, смотрит на меня. Я качаю головой:
– Словно ты не наша девочка…
С рыданием:
– Ваха!
19.10.84
Позавчера к вечеру вдруг похолодало, поднялся ветер, закружила метель, и нынче Лизанька выходила погулять уже с лопаточкой – покопаться в снегу.
У Олечки окончательно пропало молоко.
Щёчки у Иванушки по-прежнему пылают диатезным румянцем и шершавы на ощуп – чешет он их отчаянно.
Вечером моих «именин» (утром я причащался) появился о. Иоанн – приятное завершение торжественного дня. Я угостил его венгерским вермутом (утром мне его подарила матушка). Провожал я батюшку в начинающуюся метель.
Звонил Маше: она печальна – Юра уехал вновь; на это раз не только уволился со всех своих работ, но и выписался. Прямо горе. И Катенька у них простыла, гриппует.
Написал письмо Чугунову – в Москву (они хотят приехать к нам на Казанскую):
«Жизнь наша беспорядочна по-прежнему; времени хватает только на самое необходимое; читаю и пишу урывками и украдкою. Размышляю, покоряюсь и тревожусь – то ли Богу угодно сие, дабы не развеличалось до небес моё высокоумие („таков, Фелица, я развратен”), то ли лень моя и мечтательность, давняя губительница, окрадывают, злорадуясь, дни мои, беспечные и праздные.
Редко покидаю дом без Лизаньки. То на молочную кухню, то в учреждение какое, то в библиотеку, то с визитом к знакомым – маленькая девочка топочет со мною, ухватясь за палец. Я привык к этому и уже скучаю и теряюсь без неё в толпе.
Вчера вечером шли с нею тёмною и пустынною улицей. Она всё лепетала, но вдруг сказала:
– А мне н’авится, кага тихо… – и замолчала. И мы долго шли, слыша только шуршание наших шагов.
– А я Бога слыху…
– Что? – наклонился я к ней.
– Я Бога слыху…
Как тут не затрепетать!
– Что же ты слышишь, Лизанька?
„Голос” ли, хотел я спросить, „пенье” ли? – но побоялся „навести” ответ.
– Бога, – по-прежнему отвечала она и добавила, помолчав, – как у Него там на небе…
Царевич наш Иванушка уже не только улыбается, но и смеётся – утробным, восхитительным хохотком. Играю с ним: мягкая его тяжесть, кисло-сладкий… не запах, а „дух” – всё будит во мне какую-то томительную жадность. А уж „заговорит” когда – не наслушаешься этих булькающих трелей. Уж мы привыкли к его алым, диатезным щёчкам, и он мне кажется совершенным в херувимской своей чистоте.
Читаю Шевырёва (труды по истории и теории литературы); кое-какие мемуары; Жуковского перечитал; на очереди, если Бог даст, Батюшков, переписка Карамзина и – давно желанный! – Самарин (кое-что я у него читал: второе поколение славянофилов, учён и набожен).
Храни вас Бог, милое семейство. В.»
После стирки мажу руки кремом. Лизанька протягивает ладошку, и я выдавливаю ей капельку.
– Не надо бы, Володя, – замечает Олечка (гладит бельё, но всё видит).
– Ишь ты, – говорю я сокрушённо, – попались… Не надо бы…
– Мы же часко (часто) не бугим, – успокаивает меня Лиза. – Иннага (иногда)! Детям же низя часко.
На кухне – стоит на стуле и пьёт, держа стакан обеими руками. Подходит бабушка и, как всегда, умильно:
– Лиза! Угости бабушку!
– Нек! – она даже отводит стакан в сторону. – Кибе низя! ты заазишься.
– Да я от милой моей Лизаньки никогда не заражусь.
– Почиму? – с любопытством.
– Ты же мне родная!
Лиза хмурит лобик, соображает, но сообразить не может, причём тут «родная» и «не заражусь». Переспрашивает:
– Почиму?
Бабушка пускается в длинное объяснение святости родства и родной крови, но Лизанька машет ручкой и перебивает её решительно:
– Нек! Дахэ если немнохко выпьех, мохно заазиться!
Заигралась одна (часто – в последнее время), перекладывая свои игрушки. Но вот слазит с дивана и подбегает ко мне. Дёргая меня за рукав и доверительно заглядывая в лицо, говорит озабоченно:
– Отесинька… Ты знаех, Моничка так беспокойно спик (спит)…
– Как? – изумляюсь я.
И она повторяет чисто, покачивая головой и вздыхая:
– Беспокойно…
– А что с нею?
– Не знаю п’ямо… – она складывает ручки на животе. – Она ухэ больхая девочка, она ухэ агна спик (одна спит)… И на висипеге (велосипеде) какается на гвух коёсов…
И смотрит на меня выжидающе.
– Болеет, наверное, – говорю я, откидываясь на спинку стула. – Полечить бы…
– Га! – её личико светлеет. – В бойницу!
И бежит обратно к дивану.
Поёт уже громко и верно – одна! – «Отче наш», «Богородицу», «Взбранной воеводе» (Леночка даже заплакала, когда услышала последнюю молитву из уст Лизаньки: «А я не умею!»).
– Я ищё много моликв знаю, – говорит.
24.10.84
Наша переписка с Мишей прямо заходит в тупик; два дежурства подряд, две ночи в церковной сторожке я просидел над письмом к нему, перечитывая, переписывая, осторожничая в каждой фразе – он страшно обижен последними моими эпистолами, до того, что, кажется, уже не вникает в смысл моих инвектив. О моих замечаниях пишет:
«Не логической стройности ищу я – она смешна и ничтожна пред Богом, а хотя бы приблизительной возможности рассказать о чувствах».
Отвечаю: «Вот она, житейская шелуха слова – гляди, что вышло: ведь отказываясь от „логической стройности”, ты тем самым отказываешься и от той „приблизительной возможности”, какую, по скромности, уделяешь себе, от возможности вообще что-то рассказать. Как писатель, ты просто не имеешь права на такую чувствительную бессмыслицу. И если ничтожна логическая (т. е. словесная) стройность (космос), как чадо Логоса-Слова, то никак уж не перед Богом… Не имею сил писать об остальном, но печально, что не идеи, а недоразумения подают повод к нашим сшибкам. И я сам себе кажусь занудою, когда – уже в который раз! – принимаюсь отцеживать комаров из водянистой нашей переписки. Поэтому на многое не отвечаю – не могу себя понудить. Посуди сам – это всё-таки труд, а ты как его оценил? „В чистое небо, как в копеечку”! Да и одно дело – критические разборы, другое совсем – предлагать идеал; если первое часто совершается в тёмном предчувствии истины, то второе требует ума ясного и просвещённого. Такового – увы! – не имеем. Самое главное, что я хотел сказать тебе: будь осторожен и трезв при обращении с ходячими «истинами», их меткость чаще всего поверхностна и представляет собою коварную ловушку, в которой навсегда застревает неискушённый ум, разменивая талант на безделушки…»