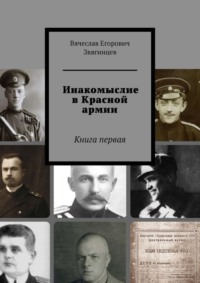Loe raamatut: «Инакомыслие в Красной армии. Книга первая», lehekülg 2
Можно долго спорить и рассуждать о подлинности или подложности этих документов, адресованных начальником «Разведочного отделения» немецкого Генштаба «Господину председателю Совета Народных Комиссаров». Но для суда имело значение то, что Щастный собственноручно написал на обороте одного из документов: «Был взят с собою, как материал, компрометирующий ходившие по Петрограду слухи, для того, чтобы показать Коллегии и Высвоенсовету»9.
Каких-либо доказательств использования А. М. Щастным этих документов в контрреволюционных целях ни следствием, ни судом добыто не было. Тем более, что они не изымались у Щастного при аресте, как неоднократно утверждал Троцкий. Командующий флотом сам достал из портфеля все привезенные документы, когда нарком «снимал с него показания». Как видно из стенограммы допроса, Щастный с целью аргументировать свою позицию «вынимает записки и смотрит по ним, Троцкий берет записки и читает»10.
Тех, кого интересуют более подробные обоснования второй версии, автор отсылает к своим книгам «Трибунал для флагманов» и «Дело командующего флотом А. М. Щастного11. А теперь рассмотрим первую версию, по поводу которой, прежде всего, надо сказать следующее: в материалах дела имеются данные, позволяющие подвергнуть ее сомнению.
Наиболее тяжкое обвинение, включавшее 17 пунктов, состояло в том, что А. М. Щастный, якобы, стремился к захвату власти. Причем, как утверждал в суде Л. Д. Троцкий, «Щастный повел такую политику, чтобы завладеть властью не только на флоте, но и во всей России».
Это утверждение не соответствует действительности. Помимо объективных, героических действий командующего по спасению флота для Советской республики, отсутствие у него намерений захватить власть объективно подтверждается тем, что Щастный от этой самой власти упорно отказывался. Только нравственный долг, да настойчивые просьбы моряков, не позволили ему уйти из флота, в условиях, когда тот находился в тяжелейшем положении. В деле А. М. Щастного подшито его официальное прошение об отставке, которую Л. Д. Троцкий отклонил.
Ряд обвинительных пунктов сводился к проведению Щастным антисоветской агитации. Причем, Троцкий заявил в суде, что это «самый важный и главный» обвинительный пункт12. Нарком усмотрел антисоветскую агитацию в том, что все основные вопросы по управлению флотом, в том числе о подготовке его к уничтожению, командующий выносил на публичное рассмотрение Совета комиссаров флота, а также сделал в Совете Ш съезда моряков Балтфлота «антиправительственный доклад», рисуя состояние флота в крайне мрачных красках.
Парадокс заключается в том, Л. Д. Троцкий, всегда ратовавший за «насаждение комиссаров в качестве блюстителей высших интересов революции и социализма»13, в этом случае обвинил А. М. Щастного не в том, что он игнорировал мнение комиссаров, а в том, что он советовался с ними.
Троцкий считал, что Щастный в своих выступлениях «рисовал положение флота в крайне странном виде, называя флот не иначе как «железный лом». Доклад этот показался Троцкому паническим и он «усмотрел в этом определенную политику», направленную «к дискредитации центральной власти»14. Однако аналогичная констатация содержалась в законах этой самой власти. В частности, в декрете Совнаркома от 29 января 1918 года о роспуске старого флота. Он гласил: «Российский флот, как и армия, приведены преступлениями царского и буржуазного режимов и тяжелой войной в состояние великой разрухи». А 20 марта Морским генштабом была издана директива, в которой констатировалось полное боевое бессилие Балтийского флота.
О реальном положении дел на флоте свидетельствуют подшитые к материалам дела (в качестве приложений) доклады и рапорта военно-морских начальников. Так, начальник Минной дивизии капитан 1 ранга А. П. Екимов сообщал командующему: «Милостивый Государь Алексей Михайлович, Исполняя Ваше желание, позволю себе высказать Вам свое мнение о причинах, побуждающих бывших офицеров флота к массовому уходу в отставку. С первых дней революции создалось совершенно определенное гонение на офицеров и только невозможность покинуть свои посты пока шла война, удерживала воспитанное в сознании своего долга перед родиной офицерство на своих постах… В настоящее время на службе остались те из офицеров, которые, сознавая, что присутствуют при агонии флота, настолько, тем не менее, с ним сжились, что решили дождаться до полной его ликвидации, которая, по-видимому, уже недалеко, т.о. исполнить свой долг до конца. Трагическое положение этого немногочисленного офицерства, несущего теперь на себе всю тяготу службы, должно быть по заслугам оценено государством и обществом…»15…
Суд над Щастным начался 20 июня, ровно в полдень. Действующие лица этого судебного спектакля, длившегося в течение двух дней, хорошо известны.
В судебное заседание трибуналом вызывались шесть свидетелей. Явился лишь один – Троцкий. И приговор основан исключительно на его показаниях. По объему они занимают три четверти стенограммы процесса, а по содержанию соответствуют обвинительному заключению.
Обвинителем выступил Н. В. Крыленко. В своей речи он, «поддерживая обвинение в противосоветской агитации», пришел «к заключению, что во всех действиях Щастного видна определенная, глубоко политическая линия».
Адвокат В. А. Жданов указал, что фактического материала для обвинения его подзащитного слишком мало и что обвинение главным образом базируется на умозаключениях и выводах, которые часто явно грешат против логики. Главный козырь – это заметки Щастного, которые ни в коем случае не могут привести к обвинению в агитации, так как они не были доведены до чьего-либо сведения, а представляют заметки лично для себя.
В последнем слове Щастный отверг все обвинения в контрреволюционной агитации с целью захвата власти, заявив, что «приложил все силы к благополучному выводу Балтийского флота в русские воды и, таким образом, обвинять его в попытках создать катастрофическое положение во флоте нет никаких оснований». Завершая свою речь, он сказал:
– С первого момента революции я работал во флоте у всех на виду и ни разу никогда никем не был заподозрен в контрреволюционных проявлениях, хотя занимал целый ряд ответственных постов, и в настоящий момент всеми силами своей души протестую против предъявленных мне обвинений.
После этого судьи трибунала удалились в совещательную комнату. Там они пробыли пять часов, хотя на изготовление трехстраничного рукописного приговора требуется не более получаса. Остается только догадываться, с чем это было связано – с безграмотностью судей или отсутствием единодушия. Затем председатель суда С. П. Медведев огласил приговор. В нем, в частности, утверждалось, что А. М. Щастный, «воспользовавшись тяжелым и тревожным состоянием флота в связи с возможной необходимостью в интересах страны и революции уничтожения его и кронштадских крепостей, вел контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров флота и Совете флагманов то предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, об якобы имевшемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием об уничтожении флота или сдаче его немцам, каковые подложные документы у него отобраны при обыске; то лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спасению флота и жертвам контрреволюционного террора…».
На основании изложенного – признать виновным, расстрелять, приговор привести в исполнение в течение 24 часов.
В ночь с 21 на 22 июня 1918 года Президиум ВЦИК отклонил жалобу защитника, и той же ночью А. М. Щастный был расстрелян во дворе Александровского училища.
После казни А. М. Щастного родственники обратились с просьбой о выдаче его телa для перевоза и захоронения в фамильном склепе на Украине.
Последовал отказ. Нo супруга командующего флотом, Нина Николаевна, продолжала обивать пороги и 25 июня Малый Совнарком под председательством В. И. Ленина, принял решение: «ходатайство Н. Н. Щастной удовлетворить и сделать соответствующее распоряжение о выдаче ей тела Щастного».
Когда же на следующий день Нина Николаевна прибыла в Кремль, ей сообщили что принятое решение пересмотрено Я. М. Свердловым. Почему же он наложил запрет на выдачу тела?
Одна из причин, видимо, в боязни большевиков, что имя А. М. Щастного будет использовано как символ в борьбе с ними, а его перезахоронение выльется в политическую акцию.
А. М. Щастный полностью реабилитирован 29 июня 1995 года.
2. Дела «кронштадтских мятежников». 1921 г.
Передо мной пожелтевшие от времени документы. Их писали или печатали на половинках писчей, обрывках оберточной бумаги, оборотной стороне каких-то бланков… Все это – приговоры полевых выездных сессий революционного военного трибунала Петроградского военного округа по делу о Кронштадтском мятеже. Их впервые удалось обнаружить автору летом 1991 года в спецфонде РГВА16. Тогда архив еще именовался – ЦГАСА.
Приговоры хранились в архивных папках россыпью. Не подшиты и не пронумерованы…
Архивные документы свидетельствуют, что фактически мятеж начался не в Кронштадте, а в сотнях сел и городов голодной и разрушенной страны. В том числе – в Петрограде. Это был акт отчаяния, естественная реакция на ошибочную экономическую политику новой власти, не собиравшейся прекращать продразверстку. Моряки лишь поддержали питерских рабочих. К числу дополнительных факторов, усиливавших их недовольство, относят задержку демобилизации и резкое снижение качества питания, на фоне разложения командовавшего флотом Ф. Ф. Раскольникова и его окружения.
Для подавления мятежа была создана 7-я армия. В ее составе к середине марта насчитывалось около 45 тысяч бойцов, разделенных на две группировки. Первая под командованием Е. С. Казанского, вторая – А. И. Седякина. Общее руководство операцией осуществлял М. Н. Тухачевский.
Одновременно начала функционировать военно-репрессивная машина. В Кронштадте впервые прошел апробацию конвейерный способ подавления инакомыслия. Вначале полевые выездные сессии реввоентрибунала были направлены в 187-ю отдельную бригаду, расположенную в Ораниенбауме и в 91-й стрелковый полк, дислоцированный в Сестрорецке. После подавления мятежа трибунал стал заседать и в самом Кронштадте.
Приговоры наглядно свидетельствуют, что кроме активных участников мятежа, а также курсантов и бойцов, отказывавшихся идти на штурм по хрупкому кронштадтскому льду, значительную группу осужденных составили лица, которых обвиняли в контрреволюционной пропаганде и агитации.
Похоже, что в Кронштадте главную опасность большевики видели не в мощи крепостной артиллерии. Ее усматривали в сути политических требований восставших: перевыборы Советов, свобода слова печати, собраний, освобождение политзаключенных…
В те дни партия большевиков стремительно теряла авторитет. А это грозило потерей власти. Чтобы удержать ее, нужны были решительные и жесткие меры. Прежде всего в отношении тех, кто распространял воззвания, занимался агитацией, призывал к выходу из РКП (б). Поэтому неудивительно, что работа выездной сессии трибунала в Сестрорецке началась с рассмотрения дела №1 по обвинению военнослужащей 4-й батареи 4-го артдивизиона КАУ Кожевниковой Анны «в распространении провокационных слухов контрреволюционного характера».
Это дело трибунал заслушал 7 марта, когда начался первый штурм крепости, оказавшийся неудачным.
Подобных дел пройдет через трибунал немало, но это было первым. Трудно поверить, что список «инакомыслящих» и вообще список сотен и тысяч репрессированных в Кронштадте людей открывала женщина. Но это так. Когда началось восстание, она пришла к своей подруге, жене политрука, и рассказала ей о последних новостях:
– Катя, представляешь, что сейчас в крепости творится. Ты не поверишь. Многие коммунисты решили выйти из партии, заявления несут пачками. Ходят слухи, что восставшие моряки будут расправляться с членами РКП.
Слухи не были беспочвенными. 3 марта действительно начался массовый выход коммунистов из партии. Заявления несли пачками. Всего в те дни их поступило около 900…
Жена политрука вечером передала мужу содержание своего разговора с подругой. Кожевникову тут же арестовали и приговорили к пяти годам лишения свободы с применением принудительных работ.
Военнослужащих, преступление которых заключалось только в сдаче партбилета, относили к политическим врагам и также сажали на скамью подсудимых.
Полевая сессия реввоентрибунала от 13 мая 1921 года по делу красноармейца 3-го дивизиона артиллерии П. Захарова отмерила подсудимому пять лет за то, что «10 марта с. г. подал в образовавшуюся в период мятежа на форте „Михаил“ мятежную ревтройку заявление о своем выходе из партии, после чего был освобожден от надзора и исполнял свои общие обязанности содержателя имущества».
Полевая выездная сессия реввоентрибунала в Ораниенбауме также начала работу с рассмотрения дел в отношении «антисоветчиков».
В секретной сводке председателя трибунала говорилось: «Среди красноармейцев этих полков (561-го стрелкового и отдельного Кронштадтского – авт.) идет контрреволюционная агитация. С этой целью были вырваны из их рядов вредный элемент и крикуны, а главный агитатор Егоровский – расстрелян. Григорьев».
Владимир Егоровский предстал перед трибуналом 7 марта. Веселый и никогда не унывающий одессит был душой команды пеших разведчиков 561-го полка. 6 марта он составил и предложил на общем собрании части на голосование резолюцию, призывавшую присоединиться к морякам восставшего Кронштадта. 25 человек было «за», 17 – «против». Но тут вмешались комиссары, и собрание объявили закрытым. Егоровского арестовали. А на следующий день в присутствии мощной охраны и потрясенных сослуживцев ему объявили, что он подлежит немедленному расстрелу, так как «вполне обдуманно вонзил нож в спину своих же братьев, рабочих и крестьян, в момент напряжения всех сил последних для подавления черносотенной авантюры».
Аресты продолжались. Изолировали всех, кто не держал в эти дни язык за зубами, был по природе своей или в силу профессии слишком общителен и разговорчив.
13 марта. Приморский вокзал в Петрограде заполнен мобилизованными на фронт красноармейцами 10-го запасного полка. Все ожидают прибытия поезда. Сидят, лежат, курят, ведут неспешные разговоры. Небольшая группка обступила Ивана Александрова, артиста по профессии и любителя пофилософствовать. Слушают его внимательно:
– Всякая власть, братцы, плоха, и воевать нам с Кронштадтом нет смысла. Против своих же идем…
Проходивший мимо член Иркутского губкома Рютин, услышав эти слова и уловив в них контрреволюционный смысл, решил вмешаться:
– Не слушайте его, товарищи красноармейцы. В Кронштадте измена. Матросами руководят царские генералы.
Александров в ответ сказал то, что думал:
– Мы вам не верим.
И он был прав. «Военспецы», вошедшие в «штаб обороны»17, согласились работать под контролем «ревкома» только спустя неделю после начала мятежа, когда стало очевидным, что крепость собираются штурмовать.
Однако Рютин опирался на правительственное сообщение от 2 марта, в котором говорилось: «28 февраля в г. Кронштадте начались волнения на корабле „Петропавловск“. Была принята черносотенно-эсеровская резолюция. Бывший генерал Козловский с тремя офицерами, фамилии которых еще не установлены, открыто выступили в роли мятежников».
Мобилизованный артист Иван Александров был арестован и 15 марта приговорен трибуналом к трем годам штрафного батальона за «разговоры контрреволюционного характера». В тот же день были осуждены и расстреляны «за контрреволюционную агитацию против боевого приказа» красноармейцы 35-й батареи 1-го легкого артдивизиона КАУ Трофим Кабанов и Викентий Корзунин.
А на конвейер полевых сессий реввоентрибунала поступали все новые «контрреволюционные агитаторы», которые где-то что-то выкрикнули или неосторожно высказались.
Старшему санитару линкора «Севастополь» Василию Еремину – один год лишения свободы. Красноармейцам школы младшего комсостава 33-й бригады Дмитрию Беляеву и Никите Малявко – по шесть месяцев штрафбата…
Репрессии продолжились и после подавления восстания.
Из приговора по делу военмора Василия Боранчука от 17 июня 1921 года видно, что его осудили на два года лишения свободы за «распространение ложных слухов, дискредитировавших Советскую власть»: Боранчук «после мятежа, описывая в своем письме родителям происходившие в Кронштадте события, преднамеренно, с контрреволюционной целью искажал все факты событий во вред Советской власти, чем мог произвести совершенно невероятное понятие о мятеже у своих родителей и знакомых в городе Одессе».
Власть опасалась, что правда о Кронштадтском мятеже просочится на «большую» землю. Поэтому перлюстрировали всю корреспонденцию, перетряхивали матросские кубрики и солдатские казармы. Поэтому практически всех, задержанных после подавления восстания, пропускали в целях устрашения через особый отдел, а затем полевую выездную сессию реввоентрибунала.
Причину осуждения можно установить не всегда. Об истинных причинах расстрела некоторых матросов и красноармейцев остается лишь гадать, блуждая по закоулкам неподвластного логике «революционного правосознания». Трудно подчас понять эту «логику» и при чтении некоторых других приговоров, по которым расстрел не применялся, но за аналогичные действия подсудимым назначались абсолютно разные меры наказания.