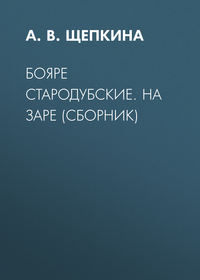Loe raamatut: «Бояре Стародубские. На заре (сборник)»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
Бояре Стародубские
Глава I
Близ Костромы, около города Галича, жила семья Талочановых. Прадед их был пожалован в бояре, имел свой дом в Москве; но сыну его не посчастливилось: он был уволен от управления одним из приказов, находившихся в Кремле, по жалобе на его хищничество, и удален с семьей в Кострому на житье в своей вотчине. Случилось это в начале царствования Алексея Михайловича; и с той поры Талочанов не выезжал уже из своей вотчины, где он скоро скончался, оставив двум сыновьям все свои имения и другие богатства. Один из сыновей его снова переселился в Москву, где поступил на службу думным дворянином; второй сын Кирилл Семенович поступил на ратную службу, раненый вернулся домой и поселился на житье близ Костромы, где жили все его родичи по жене, Ирине Полуектовне Савеловой. Долго, с большим трудом управлял он своим хозяйством, холопы его, хотя уже укрепленные на его земле, то и дело разбегались от него, уходили в самую рабочую пору, и Талочанову приходилось сманивать к себе на работы и селить у себя посадских людей из городов. Из городских посадов люди бежали охотно в деревни, убегая от платежа тяжелых городских налогов и податей. По смерти Кирилла Семеновича имущество его перешло к старшему в роде Талочановых, и только небольшая часть досталась жене его, с небольшой, устроенной им усадьбой. Ирина Полуектовна осталась после него сиротствовать с двумя небольшими дочками. Именье было невелико, и приходилось ей, при небольшом числе крестьян, самой прикладывать всюду к делу свои белые, боярские руки. При ее скромных средствах не приходилось прятаться в тереме. Но старинный дом Талочановых, построенный дедом, давал семье просторное и удобное помещение. Он был двухэтажный, с теремами над верхним этажом. Внизу находились так называемые подклети для кладовых и кухонь; в верхнем помещении была большая палата и несколько комнат, отделенных сенями, а выше надстроено несколько опочивален, в которые вела крутая лестница. В одной из опочивален, самой обширной, жила сама Ирина Полуектовна. Вся комната в глубине ее, начиная от широкой изразцовой печи и вдоль по стене до окон, уставлена была высокими сундуками, покрытыми пестрыми, выцветшими от времени коврами. В сундуках этих хранилось все добро, когда-либо нажитое родом Талочановых и Савеловых и доставшееся на долю Ирины Полуектовны и дочерей ее. Судя по одним этим остаткам серебра и соболей, можно было подумать, что недаром удален был от управления Дворцовым приказом прадед их и что много добра сохранилось и из рода Савеловых. В сундуках боярыни Талочановой не было недостатка ни в парчовых и камчатных шубках (верхние домашние и выездные одежды), ни в золотных, с тяжелыми собольими обшивками шубах, или летниках, телогреях и других одеждах. Они вынимались из сундуков временами, надевались при выезде в церковь, на богомолье, и перешивались и переделывались для дочерей боярыни, когда они подросли. В ларцах сохранились жемчужные ожерелья, серьги с длинными подвесками и вышитые золотом головные повязки. Дочки были еще невелики годами: старшей было только четырнадцать лет, а меньшой всего одиннадцать.
Глядя на старшую дочь, задумывалась Ирина Полуектовна: красотой она не отличалась и на вид казалась уже взрослой. Ростом она была почти с родительницу; лицо ее было красновато, кое-где виднелись ямочки от оспы, и глаза, хотя и бойкие, но небольшие, смотрели словно из ямок, спрятавшись под темными бровями: на родителя была похожа мужественная старшая боярышня. Только крупные свежие губы напоминали мать; и доброта матери светилась на всем лице. Меньшая дочь уродилась в Савеловых. То была стройная девочка с большими, почти синими глазами, круглолицая и с нежным румянцем; особенно бросались в глаза ее черные брови, выведенные дугой, и целая шапка кудрявых волос, черных, но тонких и мелко вьющихся.
Жила вся семья, конечно, не роскошно, трудами со своего хозяйства. Над всем надо было похлопотать хозяйке: посеять, добыть, продать или испечь, сварить, заготовить, чтобы не чувствовать недостатка в доме. Семья жила одиноко. Но обе боярышни не сидели в тереме, они всюду сопровождали мать по хозяйству и весь день проводили в саду, в огороде или в темном бору, собирая то грибы, то ягоды.
– Вы на свою свободу радуйтесь, пока ей пора да время! – говорила им растившая их мамушка, Василиса Игнатьевна, смолоду прижившаяся к дому бояр Талочановых. – У других, богатых бояр если бы вы родились, запирали бы вас наверху, в терему, как запирали вашу матушку!
– Особливо тебе, Степанида Кирилловна, плохо бы пришлось! Вишь, ты рано повыросла, за невесту бы слыла! Ну, боярышня Паша еще ребячлива, ее бы еще не унимали; пускай пока резвится! – толковала Игнатьевна.
– Мамушка! Это ведь скучно – богатыми быть! – весело говорила Паша при таких замечаниях мамушки.
Степанида молчала. Она обдумывала всегда все слышанное; а от мамушки многое приходилось ей узнавать. Она запоминала ее рассказы о людях и усвоила себе ее понятия о жизни.
Но что же могла усвоить она? Какие понятия о жизни? Дело в том, что, несмотря на простоту Игнатьевны, из слов ее поняла Степанида всю женскую долю того времени и не считала себя свободной, несмотря на свой юный возраст. Бродя с сестрой по лесу, она предостерегала ее своею ранней мудростию.
– Что бросаешься из стороны в сторону, словно птица небесная? – останавливала она сестру.
– Так веселее, вдвое больше избегаешь и высмотришь! – отвечала она.
– Тебе не привыкать порхать! Ты не пташка лесная, свободная! Когда-нибудь поймают и свяжут!
– Кто посмеет? – горячо вскрикивала меньшая сестра.
– Мало ли старших над нами, все нам приказать могут, – говорила Степанида Кирилловна, спокойно наклоняясь сорвать грибок или ягодку.
– Скучно с тобой ходить, побегу я вперед! – восклицала сестра и исчезала, убегая по тропинке легкими ножками так быстро, что только завитки волос подпрыгивали у ней на голове.
Старшая сестра обыкновенно, наполнив свой кузовок, возвращалась домой и шепотом сообщала мамушке, что сестра опять убежала.
Паша между тем безостановочно бежала по лесу, выбегала на опушку и оглядывала всю окрестность, все протянувшиеся около нее кочковатые болота, с одиноко кое-где растущими по ним великанами – старыми соснами. Она глядела на блестевшие широкие полосы озер и видела, как носились над ними цапли, широко развертывая свои серодымчатые крылья. Кругом было пустынно, далеко, на холмах за озерами, виднелись за оградами церкви и кресты монастыря. Весь этот простор и поражал Пашу своим объемом, и нравился ей. Она сама походила тут на малого зверька, с любопытством смотревшего из лесу; но она была смелее такого зверька. Она выходила на дорогу, которая вела к ближнему большому селу, и шла по ней дальше. Встречая крестьянских детей, она расспрашивала, откуда они, куда идут и где они жили? Расспрашивала о всех подробностях жизни: что они ели, что работают у них дома и так далее. Иногда встречалась ей повозка торговцев с товарами; и если тут ей предлагали сесть к ним на повозку, она, как кошка, вскарабкивалась на повозку и садилась рядом с купцами, не зная страха. Расспрашивая их, чем они торговали, куда везли товар, она доезжала с ними до ближнего села, забегала в избы и болтала со старухами и детьми и с молодицами, работавшими в огородах или в конопляниках. Так меньшая боярышня по-своему узнавала, как живут люди на свете. Она смотрела на живую жизнь, меж тем как сестра ее слушала только рассказы о ней от мамушки. Старшую боярышню не влекло узнать живую жизнь, она и не порывалась к ней, ее не испугала бы мысль запереться в тереме, но меньшая почувствовала бы страшную муку, если б ее вдруг лишили свободы, к которой она так случайно привыкла, пока на нее смотрели как на ребенка и позволяли ей безвредные прогулки. После своих прогулок поздно прибегала она домой, спеша поспеть к послеобеденному полднику. Мамушка журила ее слегка за долгое отсутствие, а втайне любовалась и радовалась на ее раскрасневшееся личико и блестевшие глаза.
Паша смущалась иногда тем, что домой приходилось возвращаться на виду соседей усадьбы, стоявшей против их дома на большом холме. То была усадьба бояр Хлоповых, огороженная, как крепость; а окна дома и теремов выходили прямо на долину, где стояла, окруженная лесами, усадьба Талочановых.
Богатые бояре Хлоповы считали себя выше всех небогатых соседей, а с Талочановыми и знаться не хотели. Боярышни Хлоповы прятались у себя в теремах наверху, почти не выходили из дому и сидели за вышиванием или за прялками; а когда скука такого существования начинала одолевать их, то они выглядывали из окон своего терема и смотрели на усадьбу Талочановых, наблюдая за всем, что там делалось. Усадьба стояла перед их домом открытая, ничем не защищенная от взоров; они видели у подножия холма их сад, огородик и весь двор и всегда знали, чем заняты были обитатели усадьбы.
– Вон они, бояре-то Талочановы, точно нищие, сами гряды полют! – указывала другим одна из сестер Хлоповых, и остальные также льнули к окну и уж не отрываясь следили за семьей Талочановых, добровольно участвуя во всех их занятиях. В окнах постоянно виднелись их толстые лица. Ирина Полуектовна и дети ее не любили их за такой надзор над ними и за вмешательство в их жизнь и дела.
– Вон девчонка меньшая домой спешит.
– Набегалась, побиралась где-нибудь… – раздалось вдруг замечание Хлоповых из сада, когда, крадучись, Паша пробиралась из лесу в сад своей усадьбы. Паша не вынесла таких слов и, приподняв руку, погрозила им пальцем. Но когда разобиженные боярышни Хлоповы прислали сказать Ирине Полуектовне, что за нанесенную им обиду подадут они, Хлоповы, жалобу самому воеводе в Кострому, то Паша, видя тревогу Игнатьевны, испуг сестры и слезы, показавшиеся на глазах матери, сама расплакалась и обещала вперед никогда не затрагивать Хлоповых. Обещание Паши было передано Хлоповым, и они успокоились, жалоба не была подана. Но Паша в этот вечер не отходила от матери, стараясь развлечь и утешить ее.
– Я не сержусь на тебя, Паша, а жалею о том, что не могу, по своему вдовству и сиротству, постоять за тебя и не дать себя в обиду! – высказалась сквозь слезы Ирина Полуектовна. – Я сама из рода боярского, постариннее Хлоповых!..
И пока мамушка Игнатьевна неповоротливо двигалась в своей крепко стеганной телогрее и готовила все на стол к ужину, беспрерывно поправляя на голове повойник, Ирина Полуектовна вела длинную беседу с дочерьми о своем боярском роде. Сидя на одной из широких, чисто вытесанных лавок с узорными спинками, тянувшихся вдоль стен большой палаты, Ирина Полуектовна внушала своим дочерям о значении Савеловых.
– Я из рода Савеловых и втайне про то вам скажу: место занимал мой род в царских палатах повыше их, Хлоповых! И ежели Хлоповы норовили сесть повыше, то сейчас их и выводили вон. Случалось, что пойдет крупная меж бояр ссора и велит государь-батюшка обоих бояр из палат своих вывести; но все же боярин Савелов своего рода не ронял! И по служебным местам Савеловы считались выше Хлоповых. Вот ежели бы не мое сиротство, я бы им отпела, чтоб они и ныне про то не забывали! И Хлопову ничего не дали, никакого имущества, когда выдавали за него жену; а я за собой поместье принесла! И теперь управляет нашим поместьем дед ваш, а мой дядя, боярин Ларион Сергеевич Савелов! И по закону царскому взял за себя именье, должен о всех нас, сиротах, заботиться и печься. И Ларион Сергеевич, дед-то ваш, обеих вас замуж выдаст и всяким добром наделит. И теперь он нас, сирот, не забывает и крестнице своей Паше гостинцы часто шлет.
– Не хлебом единым жив человек! – мрачно проговорила вдруг пятнадцатилетняя Степанида. – Не одно добро нужно нам; а не следует сестрице гнев держать на соседей! Это не по-Божию. В церковь ей надо бы чаще ходить да слово Божие слушать! Да к скромности девичьей привыкать ей пора настает!
Ирина Полуектовна, всегда глядевшая полузакрытыми глазами, вдруг широко раскрыла их и уставилась на дочку.
«Что это? Откуда набралась такой мудрости?» – думала боярыня, дивясь дочке; редко приходилось ей в то время слышать речей разумных от молодых боярышень.
Паша, чувствуя вину свою, краснея, потупилась; но через минуту уже лукаво подмигивала Игнатьевне на сестру Степаниду. Она радовалась, что хоть Игнатьевна не бранила ее. Когда, испросив благословенья родительницы, боярышни ушли в свою опочивальню, Степанида долго сидела еще, не укладываясь спать, и вполголоса, однообразно и мерно читала наставления сестре Паше.
– Да перестанешь ли, боярышня, Степанида Кирилловна, будет ли речам твоим конец? – вступилась за Пашу мамушка Игнатьевна. – За каждым человеком своя вина есть. Ведь и ты, Степанида Кирилловна, не святая, и про тебя родительница не знает, что ты странниц да черниц в кухне угощаешь!
– Разве то дурно, людей Божьих приютить? – возразила Степанида, несколько растерявшись от упрека мамушки.
– Долго ты с ними беседуешь, а о чем – того никому не сказываешь! Разные черницы бывают, а московские черницы и смуты разносят, мало ли их из Москвы повыселили, жить там не позволили! С ними опасливей надо быть. Да отчего, Степанида Кирилловна, ты в постель не ложишься и молитвы при нас не творишь? – допрашивала мамушка. – Вишь, Паша помолилась и спит спокойно!
Молодая боярышня нехотя сбросила с головы повязку из широкой полосы синего бархата; темно-русые косы были тотчас расплетены, и, потушив затем свечу, она стала перед иконами. А мамушка при свете лампады взглядывала, стараясь приметить, как складывала боярышня персты свои на молитву.
Ирине Полуектовне меж тем не спалось в своей опочивальне; вынесенная обида разгорячила ее, и сердце билось беспокойно. Смутили ее также и речи Степаниды, и в голове ее поднимался снова вопрос, откуда набралась она таких речей? Ирина Полуектовна не догадывалась, что речи «о скромности девичьей» слышаны были от мамушки, а другие речи переняты были от черниц, бродивших в их краю.
Зато меньшая боярышня спала крепким сном, позабыв о Хлоповых. Ей снился лес и лесная тропинка, вьющаяся между зелеными кустами, и блеск озер между холмами на обширных болотах; и снился ей темно-серый с длинными ушами заяц, выбежавший на тропинку из кустов можжевельника. Боярышня во сне бежала за ним, а он поддразнивал ее, прыгая перед ней из стороны в сторону и сверкая белым брюшком. И самый храп с посвистом мамушки Игнатьевны и спавшего на лестнице сторожа хотя слышался ей сквозь сон, но превращался в снах ее в пение лесных птиц; он слышался ей будто свист дроздов по деревьям или вроде крика скворцов. Осенний холодок пробирался в терем, а Паше снилось, что лесной ветер веял ей в лицо.
Ночь меж тем проходила над холмистыми равнинами и светлыми озерами Костромы. А наутро начинался обычный порядок жизни в усадьбе Талочановых. Боярыня и боярышни выходили с утра из своих покоев смотреть на работы в поле, и боярышни беседовали с рабочими. С ними же была тут мамушка Игнатьевна, поспешавшая в поле своей дряхлой походкой. Тут же был и сторож Ларька, следовавший всегда за боярышнями, как сторожевая собака; и сзади уже подгонял стадо пастух Лука, древний старец, седой как лунь. К старику Луке подходили обе боярышни и понемногу втягивали его своими расспросами в рассказы о старине. Лука, разламывая краюху хлеба себе на завтрак, садился на траву немного поодаль от боярышень; посыпая хлеб крупной солью из тряпочки, чавкая и щуря подслеповатые глаза, Лука без умолку что-нибудь рассказывал, припоминая прожитую жизнь, войны, пожары и бегство свое из Москвы от нашествия поляков. Боярышни уходили от него, унося в голове своей много тревожных картин из русской жизни. В памяти Луки составилась целая летопись за его долгую, почти столетнюю жизнь. Он соображал, сколько народу убито было в войне с поляками; высчитывал, по различным устным преданиям, сколько бояр казнили на Москве при Иоанне Васильевиче Грозном и сколько боярынь пострижено было в монастыри.
– И сам я служил в ратных людях при царе Михаиле Феодоровиче, которого тогда наш костромич спас от поляков, – так заканчивал он свои рассказы, горячо крестясь при этом воспоминании.
Завидуя, что все толпились вокруг Луки, слушая о старине, кучер Захар являлся разгонять народ, напоминая, что пора браться за работу. Особенно старался он отманить от него боярышень, пугая их злой собакой Луки. Служители Ирины Полуектовны все были преданы ей более или менее, почти все довольные ее милостивым обращением и всем, что она жаловала им. Не было примера, чтобы подал жалобу кто-нибудь из холопов Талочановых в те времена, когда повсеместно возникали дела по обжалованию бояр, на которых взводились клеветы в чародействе или грабительстве и утаиванье казенного имущества.
Если до сих пор быт Талочановых доставлял очень разнообразные зрелища соседям их Хлоповым, то в конце этой осени, когда ссоры их чуть было не довели до жалобы к воеводе, Хлоповы могли видеть из своего окна довольно новую и любопытную картину. По дороге, пролегавшей мимо их окон, проехал большой рыдван, запряженный четверней цугом; повозки и верховые сопровождали рыдван, направлявшийся к воротам усадьбы Ирины Полуектовны. Боярышни Хлоповы поспешно бросили свои вышиванья и прильнули к окнам. При внимательном наблюдении у них вырывались невольно и описания всего, что они видели.
– Рыдван, четверней!.. Что б это значило? – спрашивали они друг друга. – Вылез боярин, борода седая, верно, старый!..
– И другой боярин, тоже старый, – повторила другая сестра Хлоповых.
– А вот и молодой за ними вышел из рыдвана, – восклицала снова старшая сестра. – Ах! – вскрикнула она, закрываясь фатой, когда молодой боярин бросил взгляд в их сторону. Но отойти от окна казалось невозможным; все боярышни глядели на рыдван, прячась друг за друга. Они видели, что кучер Захар и сторож Ларька кланялись до земли, провожая бояр на крыльцо. Видели выбежавшую из дому Игнатьевну; с радостным лицом и глубокими поклонами она провожала гостей в сени, отворяла двери хором. Потом поднялась суета, беготня: Захар и Ларька бегали по двору, в погреб, таскали оттуда бутыли, бочонки и разную провизию. Хлоповы были сильно озадачены, они не могли разгадать, откуда эти гости и зачем они были здесь? Через несколько часов только прислуга их разузнала, что то был дядя боярыни Ирины Полуектовны и с ним были бояре, посещавшие Ипатьевский монастырь близ Костромы.
– А-а, остановились на отдых! – решили Хлоповы. – А может быть, что и жениха привезли Степаниде, только куда – стар! Правда, и она красотой не похвалится.
Но приехавшие бояре были не женихи, – то были гости, заехавшие с богомолья. Старый боярин Савелов, дядя Ирины Полуектовны, отправлялся на богомолье; он тосковал о сыне, недавно поступившем на службу в ратные люди и ушедшем в поход на границу Польши; оттуда он должен был отправиться в Украйну. Проводив на войну единственного сына, молодого боярина Бориса Савелова, старик загрустил и, чтобы рассеяться и утешиться, предпринял поездку по монастырям – молиться о спасении любимого сына от всех бед мирских. По дороге он посетил Ирину Полуектовну, семью которой, по обычаю того времени, он обязался блюсти и поддерживать, приняв на себя все ее имущество как старший родственник. Такой обычай, дозволенный законом, не всегда был удобен «опекаемым», но Ирина Полуектовна, напротив, была довольна, и ей не приходилось жаловаться на своего опекуна.
Старый боярин и прежде навещал ее и внучек, но на этот раз приезд имел особую цель. Он скучал без сына и задумал пригласить Ирину Полуектовну переселиться к нему на житье, чтобы заботиться о нем, старике, и о малых детях сына, уехавшего на войну, мать которых скончалась еще задолго перед тем.
Сделка эта была бы по сердцу боярину, если бы только нравы дочек его племянницы не были к тому помехой; их-то желал Савелов узнать поближе. С боярином Савеловым отправлялись, по приглашению его, бояре Стародубские, самые сановитые бояре из всего воеводства Костромского, по старинному роду и обширным вотчинам. Стародубские считались даже в родстве с Савеловыми, но родство их было такое отдаленное, что ближе связывало их соседство и установившиеся дружеские отношения. При старом боярине Стародубском ехал в монастырь его меньшой сынишка, лет пятнадцати; его старший сын был давно убит в Литве.
Пригласив Стародубских заехать на отдых к Ирине Полуектовне, боярин Савелов смекал, что, быть может, не худо показать им еще не взрослых дочек Талочановой: кто знает, не пригодится ли это в будущем? Не прочь был взглянуть на них и боярин Стародубский, зная, что красив был исстари род Савеловых, к которому принадлежала Ирина Полуектовна.
Боярыня Талочанова радостно сбежала с крутой лестницы своих верхних покоев навстречу опекуну и дяде. Но, завидев, кроме него, посторонних посетителей, она снова взбежала наверх к себе прибрать себя понаряднее и одеть дочек в новые шубки и повязки и успела покрыть свой головной убор тонким белым убрусом. Прибравшись, она сошла в нижние покои поклониться гостям.
– Добро пожаловать, родимый дядюшка! Рады мы, свет наш, твоему приезду! Без тебя, отца нашего, мы, сироты, соскучились! – приветливо говорила Ирина Полуектовна, низко кланяясь боярину Савелову.
– Здорова, боярыня Ирина Полуектовна! Надеюсь, что Господь вас хранил и миловал; заехал в том своими очами увериться; вот пожаловал к тебе и старый знакомый, боярин Никита Петрович Стародубский.
– Много лет тому, как видела я боярина, – ответила Ирина Полуектовна, – а помню, что и на свадьбе своей его видела, и чашу с медом, и кубок с вином ему, по обычаю, подносила.
– Теперь не узнаешь меня, чай, состарился я, боярыня! А вот молодой сынишка мой, Алексей, – говорил Никита Петрович, подходя к ней с сыном.
– Похож он на тебя, Никита Петрович; точно тебя молодым вижу! Твои кудри русые и глаза орлиные, – говорила Ирина Полуектовна, рассматривая Алексея.
Молодой боярин, одетый в объяренную ферезь1 сверх легкого кафтана летника и в парчовую шапочку, обшитую меховым околышем (наряд, принятый в старину и в зимнее и в летнее время), стоял пред Талочановой, краснея и опустив свои бойкие очи.
– Здорово расти! – продолжала приветствовать его боярыня. – Моя хвала не во вред тебе, а на здоровье! Чем угостить тебя прикажешь, дядюшка Ларион Сергеевич, и вас, дорогие гости! Час, кажется, обеденный недалек…
– Накорми нас, боярыня, чем Бог послал, а после стола позови дочек, не стесняясь: пускай поднесут они нам меду твоего варения домашнего; потом позволь отдохнуть у тебя; вечерком поговорим с тобой о деле, и отпусти нас, родная, в путь-дорогу к своим домам.
Ирина Полуектовна спешила выполнить все, как приказал боярин Савелов. В большой палате накрыли стол для обеда, украсив его всем, что было дорогого и блестящего в доме, сохранившегося в запасе, несмотря на изменившееся положение в делах и имуществе Ирины Полуектовны. Бояре сели за стол одни, – хозяйка хлопотала и распоряжалась всем издали. Горячие кушанья, суп с потрохами и другие похлебки сменились холодным мясом и рыбою, затем шли пироги и жареная живность, потом – оладьи с медом, варенье различное и другие сласти и печенья. Предки наши строго соблюдали посты. Царь Алексей Михайлович постился с такою строгостью, что питался одною просфорой или позволял себе кушать квас с огурцами в большие посты; но в праздники или ради угощения гостей подавались разнообразные и обильные блюда, и бояре долго сиживали за обедами, роскошь которых не уступала и обедам нашего времени.
После стола боярин Савелов просил Ирину Полуектовну вывести к ним дочек; молодые боярышни, привыкшие встречаться с посторонними лицами на прогулках, не стесняясь сошли вниз из своей светлицы; их манило любопытство посмотреть на чужого боярина и повидаться с дедом, который всегда привозил им подарки и лакомства; боярышень стесняли немного только их праздничные одежды, которые заставили надеть для выхода к гостям; особенно не нравился наряд Паше, тем более что, спешно переделанный, он был ей длинен и спускался почти на четверть на пол: подметать или укоротить не успели; то был летник из голубой шелковой материи, камки; он был надет сверх алой шелковой сорочки, подвязанной поясом, как всегда носили тогда; длинные рукава летника были открытые и висели до самого подола; на голове у нее была голубая повязка, шитая жемчугом. Паша надела все это неохотно и постоянно придерживала длинную одежду свою, собирая ее в складки под рукой и прижимая к себе локтем. На Степаниде был шелковый темно-малиновый летник и на голове повязка такого же цвета, шитая золотом; обе боярышни были обуты в чеботы, как назывались тогда высокие сафьяновые сапожки, строченные разноцветными шелками и золотом. Упрямые волосы Паши выбивались из-под повязки, спускались на шею и кудрями подымались на всей голове; в руках у обеих сестер были тонкие белые ширинки, богато вышитые шелками.
Дед улыбнулся внучкам. Такая же снисходительная улыбка пошевелила седые усы и бороду боярина Стародубского. Молодой боярин Алексей застенчиво глядел на вошедших боярышень, оправляя на себе ферезь и шапочку на голове.
Глаза Паши остановились на молодом боярине с такой нескрываемой веселостью, что, невольно потупившись, он с неудовольствием перенес потом свой орлиный взгляд в сторону. В молодом Алексее, кроме красоты, унаследованной от отца, проявлялась уже их общая родовая черта: не смиряться и чувствовать себя свободным.
После глубокого поклона боярышень, хорошо заученного Степанидой от мамушки, но у Паши выходившего слишком быстрым и забавным, – обе они взяли приготовленные подносы с кубками меду и поднесли их гостям. Отпив немного из кубка, дед поцеловал обеих боярышень, старый боярин Стародубский поблагодарил Степаниду ласковым поклоном, а Пашу также поцеловал, считая ее ребенком. Паша подошла к молодому боярину и, с улыбкой и любопытством в бойких глазках, стояла перед ним, ожидая, что он возьмет кубок, но Алексей отказался от меда.
– Пей, боярин, не бойся! – проговорила вдруг Паша, очевидно желая угостить его вкусным медом.
Старики глядели на эту сцену улыбаясь. Алексей смеялся, потупившись.
– Он боится, что я его поцелую, – бойко проговорила вдруг Паша, – а я его не стану целовать! Выпей же, боярин!
– Постой, сестра! – окликнула ее Степанида. – Ты не кланяешься, так не делают! Ты вежливенько проси.
И, кланяясь в пояс молодому боярину, она сама поднесла ему кубок с медом, приговаривая:
– Выкушай, боярин! Нам на утеху, себе на здоровье!
Ее серьезный вид и скромные речи ободрили Алексея; он решился взять кубок и даже отпил из него до половины.
– Пей все, себе на утеху! – понукала его Паша, стараясь подражать сестре и отвесив такой же низкий поклон.
Старики, поглядывая на нее, шептались между собой.
– Вот спасибо, боярышни-внучки, – смеясь, говорил дед Ларион Сергеевич, – спасибо за вашу ласку!
– И вам, бояре, спасибо за вашу ласку и милость! – ответила боярышня Степанида серьезно и степенно, опустив длинные ресницы, наполовину скрывшие ее черные глаза, всегда светившиеся мрачным блеском и задумчивые не по летам. Поставив поднос на столе и степенно продвигаясь по комнате, Степанида присела на лавке подле Ирины Полуектовны.
– Хорошо ли живется вам, боярышни? – спросил дед ее Ларион Сергеевич у Степаниды.
– Благодарим Бога, дедушка Ларион Сергеевич, и молим Его за твое здоровье! – отвечала Степанида, наклонив голову, осторожно выговаривая каждое слово, видимо стараясь не сбиться в речах и глядя куда-то в сторону, а не в лицо гостям.
– Чем же вы занимаетесь и чем забавляетесь, боярышни-внучки? – спрашивал дед, всматриваясь в лицо Степаниды.
Паша меж тем едва успела справиться с своею длинной одеждой и, не зная, куда девать свой кубок, подошла к сестре во время вопроса деда.
– Мы в саду работаем и по лесу бегаем. Я весь лес обходила и все тропинки знаю! – ответила Паша за сестру, с живым интересом передавая деду о том, что составляло всю радость ее жизни.
Дед слушал ее с усмешкой; а Степанида зарумянилась и дергала сестру за рукав, испуганная ее чистосердечной болтливостью.
– Мы стараемся помогать во всем матушке и в лес с ней ходим за грибами… – проговорила она, поправляя слова сестры.
– То хорошо, боярышни, что вы матушку слушаетесь… – похвалил дед, выслушав Степаниду.
– Мы ей покорны, как Бог велел к родителям быть покорными. Слово Божие исполнять надо! – продолжала речь свою Степанида.
Ирина Полуектовна уставилась на нее глазами, снова удивляясь ей. Как-то чудны были ей эти речи, такие строгие и произносимые ребяческим голосом Степаниды. Деду они нравились. «Речиста, – думал он, – но говорит умно».
– А с сестрою в ладу живете? – спросил он снова старшую боярышню.
– Отчего же нам не ладить? Она еще ребячлива; да если и сшалит порою, – с нее нельзя взыскивать, – отвечала Степанида, снисходительно улыбаясь. – И каждому человеку Бог прощать велит! – прибавила она уже серьезно, глядя в глаза деду.
– Так ты и со всеми в мире живешь, Степанида Кирилловна? – спрашивал дед.
– Где мир – там и Господне благословение, – ответила девушка, задумчиво глядя перед собой.
– Ты, видно, их учишь слову Божию? – сказал дед, обратившись к Ирине Полуектовне и, видимо, довольный.
– В церкви они часто бывают; и Степанида крепко запоминает, что там слышит, – смущаясь, отвечала Ирина Полуектовна, сама не понимая, откуда развилась в дочери такая набожность.
Но мамушка Игнатьевна, стоявшая у входной двери, еще более вслушиваясь в разговор, думала: «Как бы чего и лишнего не сказала наша Степанида Кирилловна! Не прочувствовал бы дедушка, откуда в ней оно».
– Что же ты задумался, Алеша? – обратился к сыну Стародубский. – Вынимай гостинцы дедушкины, наделяй боярышень.
Молодой боярин вынул из дорожных сумок круглые лубочные коробки и ящики с пряниками, леденцами и сушеными фруктами, закупленными в Макарьеве.
Он открыл большую коробку с леденцами и пряниками, подошел было наделять боярышень, но Паша, шаловливо приподняв вдруг свои черные брови, с чуть заметной улыбкой подтолкнула вдруг всю коробку снизу и вышибла ее из рук неловкого мальчика. Он на минуту смутился, но тут же рассмеялся и бросился подбирать рассыпавшиеся на полу пряники; вместе с ним подбирали обе боярышни, и на помощь им сунулась и мамушка Игнатьевна; меж тем как старые бояре смеялись неловкости Алексея, не подозревая, что это были проказы Паши. Кроме сластей, боярин Савелов привез внучкам материй на шубки и хорошие четки янтарные из монастыря. Оделив внучек, он любовался их радостью и еще раз поцеловал их на прощанье и допустил их к руке.