Автор этой книги два года подряд читал по вечерам вслух ослепшему Борхесу. Ну как, уже интересно? Кстати говоря, чтение зародилось именно как чтение вслух: так читали не только другим, но и самим себе. Представьте только, какой гам стоял в студенческой аудитории! Чтение про себя вызывало удивление и казалось странным и непонятным.
Итак, Альберто Мангель и его удивительный труд "История чтения". Книга непростая, очень насыщенная информацией и фактами, но невероятно занимательная и однозначно заставляет задуматься! Единственное, о чем я сожалела - это отсутствие оригинальных иллюстраций (почему-то не получилось договориться о правах): они бы сделали эту книгу полнее и ярче.
Фрэнсис Бэкон говорил: "Некоторые книги смакуют, другие проглатывают, а третьи жуют и переваривают". Кстати говоря, гастрономическая метафора про чтение книг появилась в 6в до н.э. - вы вообще задумывались об этом? Я - нет. Но это же интересно!
Из этой книги вы узнаете, как читали Кафка, Колетт, Пруст, Чосер. Как Гуттенберг изобрел свой книгопечатный станок. Какая была система каталогизации в Александрийской библиотеке. Как появились покетбуки Пингвин и что о них думал Оруэлл. Как возникло чтение в постели, за что отвечают полушария мозга, а также какие бывают виды расположения текста на листе. Я вот не знала про бустрофедон - это когда строчки текста идут поочередно в разных направлениях.
А еще Мангель расскажет, кто был прообразом одного из хранителей книг у Брэдбери в "451F" и что Диккенс играл на сцене роль в совместной с Уилки Коллинзом повести. И заодно поделится своим мнением, зачем ему так много книг в личной библиотеке, если он вряд ли будет их перечитывать (спойлер - это от жадности).



История литературы, какой она предстает в школьных учебниках … – просто история чтенияа потому, что и в этом случае вариантов куда больше одного. Всеобщий хронологический принцип (1882 г. – «Принц и нищий» Марка Твена, 1883 г. – «Жизнь» Мопассана, 1884 г. – «Огнем и мечом» Сенкевича) можно отмести сразу,думаю причины интуитивно-понятны. Традиционно принято подразделение по странам, затем – по писателям, хотя не менее логичен был бы жанровый подход: так вместо того, чтобы сваливать в одну кучу прозу, драмы и поэмы Пушкина, можно было бы, например, рассматривать, как развивался драматический жанр в XIX веке: вот «Борис Годунов» Пушкина, вот «Ревизор» Гоголя, вот «Маскарад» Лермонтова. Примерно по этому же пути идет и Альберто Мангуэль, объединяя воедино информацию «по теме» из разных эпох,* так начав главу «Слушая чтение» на кубинских сигарных фабриках XIX века, он переносится затем на тринадцать столетий назад в эпоху основания бенедиктинских монастырей, а вот мы уже в XI веке, слушаем декламацию менестрейлей, с каждой страницей все приближаясь и приближаясь – через «Путешествие Марко Поло», Дон Кихота, Дидро и Джейн Остин – в XX век.

Понятно, что книга об истории чтения не может обойтись без упоминания Гутенберга, но… Но вот какая мысль посетила меня, пока я читал про его у Мангуэля. Главная заслуга изобретения Гутенберга – возможность набирать текст из отдельных литер, что позволяло имея комплект шрифта, печатать неограниченный ассортимент книг. Все это так, но надо признать, что особо большого разнообразия книг в то время и не требовалось – нужна была Библия и другая богослужебная литература, но в большом количестве. Принцип печати на бумаге в то время был хорошо знаком в Европе – гравюра, как вид искусства достигла тогда необычайного развития. Так что мешало вместо подвижных литер, печатать книги со статичных листов с нарезанными буквами? Получили бы что-то аналогичное современным печатям, только большого размера, но ведь и печати были известны в то время. так что мешало? Зачем нужны были именно подвижные литеры, если Библия, она и через три года Библия, текст ее неизменен, нарезал таких клише для каждой страницы книги, и печатай себе в удовольствие! Но почему-то так не делали, почему-то ждали Гутенберга и отдельных литер. Какой-то отзвук этих печатей-клише дошел и до нашего времени. И, я помню еще время, когда в типографии травили такие клише для рисованных заголовков, да и сам линотип, отливающий строку за строчкой тоже, по сути, изготовляет такое единое клише. Одна из строчек, которая выходит из линотипа показана на картинке:)
в письмах из этих мест не сообщай о том, с чем столкнулся в пути. но, шелестя листом, повествуй о себе, о чувствах и проч. – письмо могут перехватить…«Компания, когда у тебя под рукой не окажется книги», – повторяет Мангуэль слова своего учителя, говоря о заучивании стихов наизусть, и в тот момент я не мог не вспомнить это высказывание, прочитанное накануне. Есть определенный момент эйфории в том, чтобы знать наизусть любимые стихотворения, и в нужный момент прочитать нужные строки – не про себя, но – для себя.

Очень часто автор начинает свою жизнь в литературе не благодаря своей первой книжке, а благодаря своим будущим читателямдобавляем несколько имен, что у всех на слуху (Сократ, Редьярд Киплинг, Райнер Мария Рильке), немного «разбавляем» это разными вводными словами, и – оба-на, рецензия на три абзаца готова! Ну да, именно так и надо было поступить с самого начала, теперь же, когда у меня столько всего понаписано, мне остается лишь довести задуманное до конца:)

Создавая роль читателя, писатель подписывает себе смертный приговор, поскольку текст может считаться завершенным только после того, как писатель отступит, исчезнет*не приводит нас напрямую к «Смерти автора» Ролана Барта? И тэ дэ, например, не помешало бы хотя-бы несколько страниц о скорочтении. Все верно, но снова повторю что «нельзя объять необъятное»:)) Перед нами – не более чем частный взгляд автора, его собственное ви́дение вопроса истории чтения, и этим своим взглядом он хочет поделиться с читателями.


Читатель, открывший книгу Бранта, видел портрет самого себя – человека, сидящего в кабинете в окружении книг … Он и есть «Büchernarr», «книжный дурак», человек, глупость которого состоит в том, что он зарывается в книги.Хорошо когда есть повод снять книгу с полки, а сделать иллюстрацию к «Истории чтения» еще лучше:)
Думаю, хоть 10% того, что я хотел рассказать об этой книге, я все-таки рассказал:) Про десятую часть – это ничуть не преувеличение, а скорее наоборот, преуменьшение, потому что – если вспомнить пассаж про историю каждого читателя – значит и каждая моя история о чтении (в настоящий момент историй на лайвлибе у меня насчитывается 74 шт.) тоже в какой-то степени часть этой книги. И все написанные рецензии, и все рецензии и истории, которые я еще не написал, и эта рецензия, которую я сейчас дописываю – тоже часть этой книги. Конечно, мой личный опыт пока не идет ни в какое сравнение с опытом Альберто Мангуэля, но в любом случае, я стал одним из его читателей, составляя вместе со всеми остальными читателями, ворохом их эмоций и впечатлений от всех прочитанных книг – одну большую историю чтения «Истории чтения».*
==============
Аллюзии и примечания:
«Сумма технологий» – книга Станислава Лема, где он « провел уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций».
«…голову распирает от обилия креативных идей, которые просто требуют немедленной реализации» – в этом случае книга выступает как стимулятор или катализатор творческого процесса,как допинг, энерджайзер, в общем «Ключ поверни и полетели», как поет группа «Сплин».
«Память, говори!» – роман Владимира Набокова.
Все эти мысли сопровождают тебя все время, пока держишь книгу в руках – я на самом деле написал «держишь в руках», сработал стереотип для подобных описаний. На самом деле книга читалась с монитора, так что держать в руках особо-то и нечего было:)
«Объять необъятное» – полностью афоризм Козьмы Пруткова звучит так: «Нельзя объять необъятное», с некоторыми видоизменениями он повторяется несколько раз в его подборке афоризмов, снова и снова напоминая нам об этом.
Что же касается самого принципа «объять необъятное», то думаю, что вполне уместно будет вспомнить прочитанную недавно книгу – «Информация» Глика. Помимо схожей (местами – схожей до совпадения) тематики, эта книга тоже отличается попыткой глобального охвата очень широкого вопроса. Понятно, что в этом случае, неоднородность освоения материала и наличие «белых пятен» в изложении вполне предсказуемо. К слову говоря, это даже хорошо, потому что автору куда лучше сконцентрироваться на некотором круге вопросов и подробно разобрать их, чем гнаться за всеми зайцами сразу и в итоге – не поймать ни одного.
«Ведь Борхес даже про Вавилонскую библиотеку ухитрился написать всего на нескольких страницах» – речь идет о культовом эссе Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека», где он выводит образ глобальной и всеообъемлющей библиотеки, содержащей все возможные и невозможные книги.
Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита.«And what is the use of a book … without pictures or conversation?» – пассаж из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла: «И что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров».
«Profit!» – в данном случае не более чем буквальный перевод, «выгода».
«Популярный холивар "электронные книги vs бумажные"» – тут я задумался чего у меня больше – книг на полках, или книг в ноутбуке. Если честно, не знаю, не пересчитывал ни те, ни другие, но интуиция подсказывает мне, что даже если бумажных и больше, то накачать еще сотни и тысячи новых книг не составит особого труда. Проблема, и это на самом деле проблема, заключается в другом – собрать уйму книг совсем несложно, куда сложнее прочитать все это. Понять прочитанное еще сложнее.
В одной из глав («Кража книг») Альберто Мангуэль как раз разбирается с этим вопросом:
Но в глубине души я знаю, что главная причина, по которой я держу дома эту постоянно разрастающуюся кучу [книг] – это обычная жадность.В другой главе («Книжный червь», см. последнюю иллюстрацию), он разбирает патологическое накопление книг, описанное в «Корабле дураков» Себастьяна Бранта.
«Создавая роль читателя, писатель подписывает себе смертный приговор, поскольку текст может считаться завершенным только после того, как писатель отступит, исчезнет» – тема самосохранения путем перфекционизма детектед! :)) На самом деле, мысли Альберто Мангуэля, высказанные в этом пассаже, довольно близки мыслям Хорхе Луиса Борхеса, озвученные в интервью с Сьюзен Зонтаг:
С.З. Однажды Валери спросили, как он узнает, что стихотворение завершено, и он ответил: «Да когда приходит редактор и его уносит». Х.Л.Б. Меня всегда очень удивляет, когда речь заходит об окончательной редакции. Разве можно предположить, что автор когда-нибудь не посчитает неуместной какую-нибудь точку, эпитет? Это абсурд.Зная про эти слова Борхеса, победить перфекционизм внутри себя становится практически невозможно:))
«Если под словами "любимая книга" подразумевать не конкретное произведение, но конкретное издание» – если же говорить о произведении, то это «Собор парижской богоматери» Виктора Гюго и «Журавленок и молнии» Владислава Крапивина.
«Планов, мыслей и песен» – пассаж из песни «Неоплаченный проезд» группы «Теория насилия».
«Одну большую историю чтения "Истории чтения"» – которая никогда не будет закончена, как об этом и говорил Борхес (фрагмент интервью см. выше). На самом деле, так оно и есть:

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. “У нас не читают”, – сказала она строго. “Чего это вдруг?” – изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. “Так это же кафе, – говорила она медленно и раздельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. – Люди сюда приходят от-дох-нуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?” Слово “читает” она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке.
В эссе об искусстве обучения английский ученый XVI века Френсис Бэкон подвел итог: "Некоторые книги смакуют, другие проглатывают, а третьи жуют и переваривают".
Эту книгу нужно читать не только ради самого текста, который, кстати, не сильно заумный и наполнен разнообразнейшими фактами, но и ради сносок и списка литературы. Лично я навыписывала себе добрую сотню иностранных книг, которые хотела бы почитать в ближайшем будущем, и еще по ходу текста выделила около 30 фамилий новых (для меня) авторов и еще столько же фамилий просто занимательных исторических личностей.
Пока читаешь - пропитываешься еще большей любовью к книгам, понимая, через какие трудности, нелепости и восхваления они прошли за все время своего существования, чтобы предстать перед нами такими, какими они есть сейчас.
Если в чтении не существует такой вещи, как "последнее слово", никакой авторитет не сможет настоять на "правильном" прочтении.
Даже если автор не блещет глубиной и обилием мысли, неординарностью образов и увлекательностью сюжета, это не значит, что ему нечего сказать. Таково моё личное впечатление о книге Альберто Мангеля. Возможно, я и заснула пару раз на слишком подробных и обстоятельных экскурсах в античную историю или библейские сюжеты, но в целом было интересно, а порой даже увлекательно. Главную же мысль автора о том, что читать человеку жизненно необходимо я разделяю полностью, очень рада, что этот постулат выражен не в виде памфлета, назидания, лозунга, не преподносится в виде прописной истины с позиции морального превосходства автора. Удобоваримая форма сборника эссе позволяет в любой момент остановиться и продолжить через какое-то время без потерь.
Народным режимам нужно, чтобы мы потеряли память, и потому они называют книги бесполезной роскошью; тоталитарным режимам нужно, чтобы мы не думали, и потому они запрещают, уничтожают книги и вводят цензуру; и тем и другим нужно превратить нас в глупцов, которые будут спокойно воспринимать свою деградацию, и потому они предпочитают поощрять потребление бессмыслицы.
Нельзя назвать научной книгу, в которой все так просто и доступно рассказано. Но однозначно, что после прочтения в голове добавилось информации. Ценной, необычной, полезной. Интересно, не скучно, не слишком просто и не слишком заумно.
Судя по вышерасположенным простыням почти подробного пересказа книги Мангуэля, многие из нас изложения в школе писали на отличненько, с аналитическим чтением всё конечно гораздо сложнее.
Книга Альберто Мангуэля впервые была издана почти 20 лет назад, то есть самое малое, не было книг с электронными чернилами, в которых страницы можно «листать» схожим с обычной книгой образом. И в тексте это, пожалуй, единственный анахронизм, который бросается в глаза. В остальном эта книга не потеряет ни своей новизны, ни актуальности еще очень долгое время. Это ни в коем разе не учебник, и не сборник занимательных фактов о чтении. Это роман о любви к пожалуй, самому приятному для любого возраста занятию на нашей планете, к чтению. Только человек искренне увлеченный, посвятит чтению целую книгу.
Роман разделен на две части, в первой читатель познакомится с историей самого процесса чтения, и с видами чтения, сменявшими друг друга или существовавшими вместе на протяжении все истории человека. Во второй части рассказывается о читателях и той тайной власти, которую мы имеем над текстом, даже если не мы его написали. Библиотеки с их подчас странными системами каталогизирования; переводчики, меняющие текст до неузнаваемости; и сами читатели, обнаруживающие в тексте то, что либо было глубоко запрятано, либо никогда не существовало вовсе.
Мне кажется, Мангуэль подает нам пример, потому что каждый читатель может написать свой роман о чтении, где будет множество фактов, смыслов и наблюдений. Потому что чтение – как и человеческая жизнь, это безграничное путешествие.
«История чтения» для людей, читающих с детства, любящих литературу, с трепетом относящихся к чтению и прочих книгопоклонником и литературофанатов – своего рода бальзам на душу. Мало того, что читается эта книга довольно быстро, легко и приятно, так автор ещё и собирает всё, о чем ты давно думал, но не мог сформулировать, либо то, о чем ты давно хотел знать, но всё не мог спросить, и даже то, о чем ты, возможно, никогда не задумывался, на страницах одного литературного произведения. Вот у вас никогда не было такого: ты читаешь текст и думаешь «Да вот же оно! То неосязаемое, что давно крутится у меня в голове, но почему-то не хочет собираться воедино. Вот! Он будто бы взял и собрал «моё» и написал об этом»? И понимаешь, что сформулировано как нельзя хорошо, и лучше, пожалуй, вряд ли уже получится. Вот у меня точно не получится. Хотя многие вещи, о которых пишет автор, неоднократно обдумывались. О некоторых упоминалось вскользь в моих отзывах о прочитанном. О чем-то говорилось на встречах с единомышленниками по чтению. О чем-то, конечно, даже и не думалось… Но обо всём – по порядку. Вряд ли этот текст можно назвать рецензией на книгу. Вообще, это – своеобразный сюр – рецензия на книгу о книгах и о чтении. Ну что тут скажешь? Написано очень хорошо. Не смотря на то, что «История чтения» полна фактов и, на первый взгляд, скучных подробностей, Альберто Мангуэль преподносит это так, что даже самый скептически настроенный читатель вряд ли хоть раз зазевает или уснет над его книгой. Много метафор, отсылок, примеров и собственных мыслей автора не дают заскучать ни на минуту и скрашивают текст повествования. Вопреки содержащемуся в названии слову «история» истории как таковой здесь практически нет. Зато в избытке – попыток подытожить, рассказать собрату-читателю о том, что волнует. Да, это – не история, на мой взгляд. Это – биография чтения. Огромный плюс «Истории чтения» в том, что каждый найдет в ней что-то, близкое именно ему. Кому-то ближе рассуждения о переводах и переводчиках . Я, кстати, очень много думала о важности переводов и, наученная учебой на журфаке, знаю в некоторых случаях, какие переводы считаются кошерными, а какие даже в руки брать не стоит. Но, как человек, не читающий на языке оригинала в силу недостатка образования, разбираюсь в переводах как свинья – в катании на льду. И мысль о том, что каждый переводчик вносит в восприятие текста читателем что-то своё – это то самое, что, казалось бы, лежит на поверхности, но почему-то я об этом никогда так много не думала. «Вот оно, вот!», - снова хочется воскликнуть. Кого-то больше зацепит то историческое, что есть в «Истории чтения». Наверняка найдутся и те, кого очаровала причастность, приближенность автора к Борхесу (а это тоже отличный повод дочитать книгу до конца). Мне же, как латентному любителю читать вслух, было очень интересно мнение автора об этом процессе и факты на данную тему (да, теперь точно буду задумываться, прежде чем заставить кого-то слушать что-то в моём восприятии). Ну и, как латентный журналист, не могу не восхищаться несколько вскользь упомянутым Салманом Рушди. Напоследок нельзя не упомянуть о главном герое этого произведения – литературе. К раскрытию этого образа Альберто Мангуэль подошел ответственно. В истории чтения есть и эволюция главного героя, и прекрасно описанный характер, и конфликт, и разного рода спорные вопросы – короче, все составляющие, необходимые для создания прекрасного литературного произведения. Прививает ли «История чтения» любовь к чтению? Не знаю, но я думаю об этом с самых первых её страниц. Одно знаю точно – «История чтения» эту любовь укрепляет, воспевает, холит и лелеет. А это, друзья мои, тоже важная и ответственная миссия.
Книга оказалась легкой, приятной и ненавязчивой как идеальный собеседник. Никакого поучения и назидания, много милых литературных анекдотов, но серьезного и дающего пищу для размышлений - намного больше. Книга о читателях - обо мне, о тебе, о всех нас, кто погружается в мир черных абстрактных закорючек. Книга о том, как повезло мне, живущей в 21 веке - я умею читать, я могу читать, я могу пойти в библиотеку и взять пусть не любую, но великое множество книг, я могу купить книгу. Альберто Мангуэль - тот, кого принято называть библиофилом, тот, кого я зову книгоманьяком, человек, не мыслящий свой день без книги. Это скорее эссе, в котором замечательный книгочей, которому посчастливилось быть чтецом у великого Борхеса, создает ретроспективную картину книжного мира, останавливаясь более или менее подробно на всех его компонентах: - самой книге - от первых неумелых закорючек на камне до шедевров книжных мастеров; - читателе - кто таков, каковы повадки, дурные наклонности (да-да, кто не выносил из библиотеки заветный томик, пусть первым бросит в меня камень!), тайные радости (привет команде "С фонариком под одеялом"). - писателе (который и сам кончено же читатель); - цензоре (не к ночи будь помянут!); - чтении (вслух, про себя, публично, сидя,лежа, на ходу, во славу, вопреки); - переводчике (по-моему по-настоящему талантливых переводчиков на порядок меньше, чем талантливых авторов и это трагедия для многих текстов). В главе про переводчиков восхитителен эпизод про переводы Рильке, да это собственно глава про него!
Перевод - акт высшего понимания. Рильке полагал, что, когда мы читаем, чтобы перевести, нам приходится пройти через "чистейшую процедуру" вопросов и ответов, с помощью которой постепенно приоткрывалось это самое неуловимое из понятий - литературное значение.
Много -много раз я узнавала себя в воспоминаниях Альберто Мангуэля - чтение взахлеб, желание обладать конкретной книгой, страсть заставлять все пространство в доме бумажными томами, невозможность расстаться с вроде бы ненужной уже книгой. Часто я видела своих друзей - о, среди них не оказалось-таки ни одного стоящего литератора, но Теннисон - это просто-таки моя закадычная подруга Настя
Примерно в то же время Альфред, лорд Теннисон, начал терзать лондонские гостиные чтением своей знаменитой (и очень длинной) поэмы "Мод". Теннисон не жалел власти, как Диккенс, он скорее нуждался в аплодисментах, в подтверждении, что у его произведений есть своя аудитория. "Эллингэм, это будет отвратительно, если я почитаю "Мод"? Ты этого не вынесешь?" - спрашивал он друга в 1865-м.
С ней же я прочла за день по телефону Белянинского "Джека - Сумасшедшего короля", мы обе болели и развлекали друг друга как могли. А сейчас мои вечера наполнены сказками, рассказами про Тюпу и Томку, про Груффало и Страну Хохотанию - в стихах и прозе, с картинками и даже без - так мои дети обожают совместное чтение вслух, и старший уже читает самой младшей - это бальзам для моей книжной души. Вот и я, вслед за Мангуэлем сорвалась на личное - видимо доверительный тон автора располагает именно к этому смешению - истории человеческой и истории личной, ибо что может быть интимней чтения? Вы слышите меня, книжные вуайеристы, косящие свой глаз в мою книжку в метро?! И как вишенка на торте - немножко поэзии и прагматизма из глубины веков:
Согласно легенде IV века ученые -талмудисты Ханина и Хошайя однажды целую неделю изучали Сефер - Йециру и в конце концов, найдя нужную комбинацию букв, создали трехлетнюю телку, которую впоследствии съели на обед.
Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее море внутри нас
Из чего должна состоять история? Обычно это набор событий, расположенный автор в хронологической последовательности. Если же говорить об истории чтения, то перед нами встает дилемма. А о чем рассказывать здесь? Что будет чтением? Может быть, начать с самых первых рисунков на стенах древних людей? Или с глиняных табличек, на которых ребятишки учились писать? А может, чтение значит, не только читать, но и слушать? Истории люди рассказывали друг другу с незапамятных времен. А еще есть истории книги - это ведь тоже чтение...
Так и автор, не удовлетворившись каким-то одним аспектом, объединил в своей книге всю гамму самого важного для любого читателя:
В каком положении читать? Вот Аристотель читает, сидя на скамье. Мария Магдалина расположилась с книгой на лесной полянке. Сам автор, как и многие из нас, любит читать книги, лежа в постели. Но и здесь есть разница. Какие-то книги вполне удобно читать лежа. А какие-то, посмей взять их на кровать. будут с укором смотреть на тебя и раскрывать свой смысл, пока не займешь достойное сидячее положение. Книги ведь, как и люди, бывают разные...
Как читать? Вы знали, что раньше все читали исключительно вслух? И что чтение про себя было само по себе не вполне вероятным. Сейчас в это трудно поверить, но случайно прочитавший текст про себя Блаженный Августин был в изумлении от случившегося. В библиотеках древности всегда стоял шум, потому что читатели вслух проговаривали прочитанное. Это не сравнится с современными библиотекам, когда вместо шума слов появился ровный стук клавиш многочисленных компьютеров.
Читать картинки? Разве такое бывает? Это уж не чтение! Это просто просмотр иллюстраций, ведь что могут сказать картинки, когда рядом превосходный текст! Эх, не скажите... Луиджи Серафини в 1978 г направил в редакцию книгу, но вместо текста в ней - множество иллюстраций, изображающих странные несуществующие предметы. Теперь это "Кодекс Серафинианус" - энциклопедия воображаемого мира, смысл картин которого читатель должен понять сам. Картинки - дорога к чтению для любого читателя, эдакая универсальная книга для всех. Как и раньше, иллюстрированная библия создавалась для тех, кто не умел читать (в частности женщин), так и сейчас книги с картинками с удовольствием "читают" дети.
Еще о многом писал автор, Альберто Мангуэль, но описать все - значит отнять жизнь у такой прекрасной книги, полной интересных фактов и историй.
Как сказал Френсис Бэкон:
Некоторые книги смакуют, другие проглатывают, а третьи жуют и переваривают
Так вот, Историю чтения следует смаковать, но чем медленнее, тем лучше.
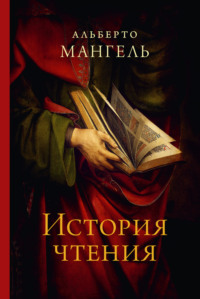
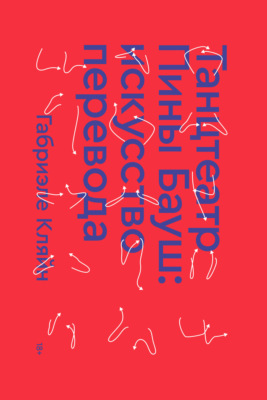
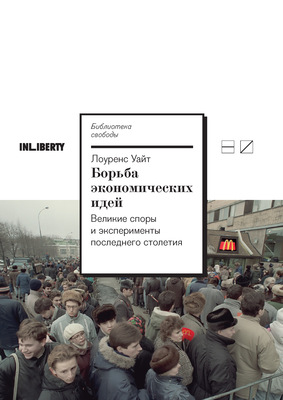
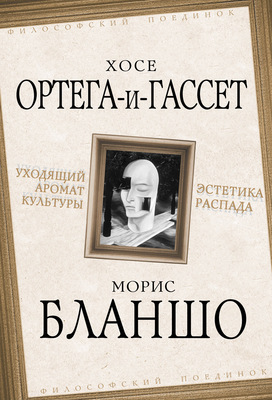

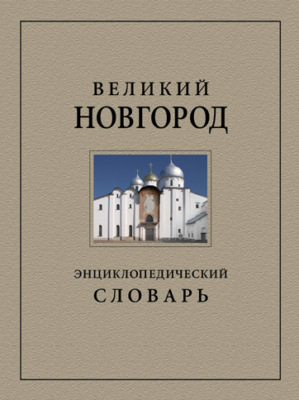
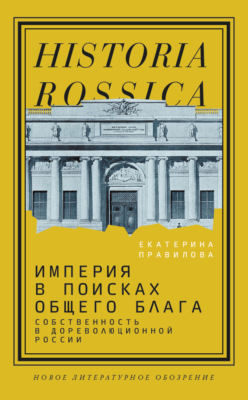
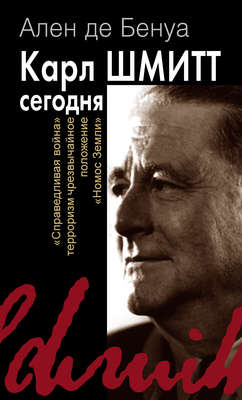
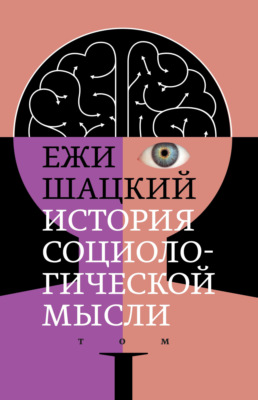

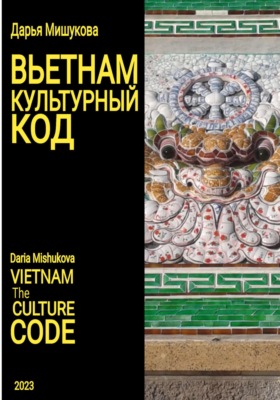
Arvustused raamatule «История чтения», lehekülg 3, 45 ülevaadet