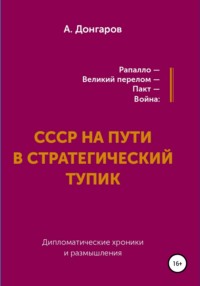Loe raamatut: «Рапалло – великий перелом – пакт – война: СССР на пути в стратегический тупик. Дипломатические хроники и размышления»
К читателю
История заключения Договора о ненападении с Германией и полутора лет его существования давно стала ареной идеологических боев без правил. Манипулирование относящимися к делу историческими фактами, передергивание причинно-следственных связей и искаженное масштабирование событий способны запутать кого хочешь. Вдобавок, роящиеся вокруг темы дилетанты и пропагандистские мухи засидели картину событий и смыслов уже до такой степени, что она практически неразличима.
Трудно назвать вполне удовлетворительными и многие честные попытки разобраться в вопросе. Проблема видится в неготовности их авторов выйти за давно очерченный круг многажды использованных исторических фактов и аргументов; но главный недостаток, на наш взгляд, состоит в неумении поместить исследуемый вопрос в общеисторический контекст, учитывающий все обстоятельства тогдашнего существования СССР, – международные, внутриполитические, экономические, военные и идеологические, – в их многосторонних взаимосвязях. А бывает и так, что в сторону от истины уводит избранный авторами маршрут, отмеченный вехами давно опровергнутых жизнью главных мифологем советской историографии вроде классового характера межгосударственных отношений и т. п., которые за своей древностью продолжают восприниматься многими как аксиома.
Наконец, о внешней политике пишут люди, которые не являются в этой области специалистами, а потому покорно повторяют вслед за своими историческими героями и друг за другом заезженные суждения, скользящие по поверхности событий и не раскрывающие их истинный смысл и значение.
Если же, дорогой читатель, Вы все же взяли в руки и открыли очередную книгу на эту тему, то Вы – неисправимый оптимист! Да воздастся Вам по Вашей вере.
* * *
Автор выражает глубокую благодарность:
Александру Сергеевичу Ципко за проявленную им в отношении автора цеховую солидарность и ценные замечания;
Ури Миллеру за проделанную им большую редакторскую работу в плане фактологии и русского языка;
Ирине Александровне Митрошиной за моральную поддержку и серьезную техническую помощь;
Владимиру Борисовичу Паничу и Елене Герасимовне Донгаровой, без содействия которых эта книга могла и не состоятся.
Предисловие. «Наш ответ» фальсификаторам истории
В сборнике мифов и легенд, оставленных по себе советской властью, совершенно особое место занимает история заключения 23 августа 1939 г. договора о ненападении с фашистской Германией («пакта Молотова – Риббентропа»).
По версии хранителей советских исторических мифологем, оно стало полнейшим экспромтом, результатом дипломатического сальто-мортале, трудным с моральной точки зрения, но не имеющим альтернативы, а потому единственно верным, спасительным для страны решением.
В подтверждение этой версии предшествовавшие подписанию пакта события выстраиваются ими в следующую цепочку. После прихода к власти в Германии Гитлера с его идеями реванша на Западе и завоевания «жизненного пространства» на Востоке правительство СССР, стремясь к сохранению общеевропейского мира, взяло курс на создание системы коллективной безопасности. В рамках этой внешнеполитической программы весной 1935 г. был заключен советско – французский договор о взаимопомощи. Он, однако, остался политическим жестом, поскольку взятые сторонами друг перед другом военные обязательства не были никак конкретизированы. Вскоре в Париже и Лондоне вообще сочли более уместной политику умиротворения Германии за счет согласия на ее притязания к соседям сначала в центре, а затем и на востоке Европы. В результате этого курса, апофеозом которого стала дипломатическая капитуляция Франции и Великобритании перед Гитлером на Мюнхенской конференции в сентябре 1938 г., к Рейху были присоединены Австрия и Судетская область Чехословакии.
Оказалось, однако, что эти уступки не могли удовлетворить германские аппетиты. Весной 1939 г. Гитлер захватил всю Чехию, из Словакии сделал протекторат и отторгнул от Литвы г. Мемель с областью (ныне г. Клайпеда и Клайпедский край). Следующей в очереди жертв германского экспансионизма стояла Польша – главный союзник Франции и Великобритании в Восточной Европе, замыкающий построенную ими систему кругового сдерживания Германии.
Вызывающий характер действий Берлина продемонстрировал крах «политики умиротворения» и необходимость возврата к идее коллективной безопасности. По дипломатическим каналам Лондон и Париж сигнализировали в Москву о готовности начать трехсторонние военно-политические переговоры. 17 апреля 1939 г правительство СССР выступило с ответным предложением заключить тройственный договор о военной взаимопомощи и совместном гарантировании безопасности ближайших западных соседей Советского Союза: Румынии, Польши, трех прибалтийских государств и Финляндии.
После начала англо-франко-советских переговоров выяснилось, однако, что в Париже и, особенно, Лондоне видели в них скорее средство давления на Германию в надежде сдержать ее агрессивные намерения на западе континента одними разговорами о возможности коалиции с СССР, не идя на ее фактическое создание. Со своей стороны, уверяют нас, советское правительство искренно стремилось к достижению тройственного соглашения, и только выявившаяся к середине августа 1939 г полная бесперспективность дальнейших переговоров с англо-французской дипломатией заставила его принять германское предложение о заключении Договора о ненападении.
Официальная советская позиция по истории данного вопроса была изложена в 1948 г. в подготовленной на самом верху знаменитой Исторической справке «Фальсификаторы истории». Справка стала «нашим ответом» на публикацию на Западе трофейных документов МИД Германии о советско-германском сотрудничестве в 1939–1941 гг., в том числе секретных протоколов к Договору августа 1939 г., существование которых СССР категорически отрицал. В ней, в частности, говорилось: «Было бы грубой клеветой утверждать, что заключение пакта с гитлеровцами входило в план внешней политики СССР. Наоборот, СССР все время стремился к тому, чтобы иметь соглашение с западными неагрессивными государствами против немецко-итальянских агрессоров в целях осуществления коллективной безопасности на началах равенства. […] Если СССР добивался соглашения о борьбе с агрессией, то Англия и Франция систематически отвергали его, предпочитая вести политику изоляции СССР, политику уступок агрессорам, политику направления агрессии на Восток, против СССР. […] Понятно, что при таком положении дел в Европе Советскому Союзу оставался один выход: принять предложение немцев о пакте. Это был все же лучший выход из всех возможных выходов» [1, с. 53–54].
Как уверяла официальная историография, этот выход был лучшим потому, что благодаря подписанному с Берлином соглашению удалось отсрочить фашистское нашествие на СССР на полтора года, которые были использованы для подготовки советских вооруженных сил к отражению агрессии. Указывалось и на увеличение глубины стратегической обороны на 150–250 км в результате воссоединения с СССР захваченных ранее Польшей западно-белорусских и западно-украинских земель, возвращения Бессарабии, аннексированной Румынией в годы гражданской войны, а также присоединения к Советскому Союзу (румынской) Северной Буковины. И, конечно, на добровольное вхождение в СССР трех прибалтийских государств, позволившее создать в этом регионе новый рубеж обороны.
Спустя 80 лет аргументация остается примерно той же; правда, пришлось сдать важную позицию: признать существование знаменитых секретных протоколов о разделе сфер влияния в Восточной Европе, являвшихся частью Договора о ненападении и подписанного через месяц в его развитие Договора о дружбе и границе. В свою очередь, это признание поставило под сомнение добровольный характер вхождения Прибалтики в состав СССР, а также подняло вопрос о морально-этической стороне акции по присоединению к Советскому Союзу восточных польских (западно-украинских и западно-белорусских) территорий в том виде и в том международном контексте, в которых она была осуществлена.
Хотя на протяжении пятидесяти лет в СССР отрицалась прямая связь между названными территориально – политическими изменениями и договорами с фашистской Германией, абсолютным большинством наших соотечественников она все же смутно угадывалась. Запоздалое признание факта существования секретных протоколов нисколько не скомпрометировало в глазах этого большинства советско – германские договоренности 1939 г., но, напротив, придало им дополнительную политическую легитимность. «Конечно, – с легким сердцем признает это большинство, – секретный сговор за счет соседей есть вещь некрасивая; однако отодвинутые на запад границы вкупе с отсрочкой нападения стали слагаемыми нашей Победы. Следовательно, с всемирно-исторической точки зрения все было сделано абсолютно правильно!»
Существует, однако, и иной взгляд на описываемые события.
Часть I. От Рапалло до пакта
Глава 1. «Дух Рапалло», или запланированный экспромт
А был ли экспромт?
Если заключение пакта и выглядело как кульбит, то исключительно на фоне продолжавшихся с середины июня 1939 г. трехсторонних англо-франко-советских переговоров. Однако в более глубокой ретроспективе кульбитом были сами эти переговоры. Соглашение же с Берлином стало возвращением в главную, хорошо наезженную за двадцать предыдущих лет политическую колею, известную под названием «использование межимпериалистических противоречий в интересах советской власти». Колея берет начало еще до появления этой власти на свет, в далеком 1905 году, когда партия большевиков вошла в контакт с представителями воевавшей тогда с Россией Японии на предмет получения помощи деньгами и оружием для борьбы против общего врага – царизма. Следующим примером этого рода стала знаменитая сделка Ленина с кайзеровской Германией в годы Первой мировой войны.
После захвата большевиками власти в октябре 1917 г. стратегия использования «межимпериалистических противоречий» из партийной становится партийно – государственной. Именно она легла в основу знаменитого Декрета о мире – практически говоря, о сепаратном выходе страны из продолжавшейся мировой войны. Провозглашенный декретом нейтралитет «новой» России послужил фундаментом виртуозной политики лавирования между Антантой и германским блоком с целью не быть раздавленными этими жерновами. Задачу уцелеть Ленин решал так: удерживал Германию от оказания чрезмерного давления на его правительство угрозой возобновить военный союз с Антантой, а попыткам последней вернуть Россию в войну с Германией противопоставлял угрозу полномасштабного союза с Берлином. Таким образом, главным ленинским приемом стал отказ от формального заключения союзнических соглашений с державами первого ранга ради сохранения возможности использовать противоречия между ними в свою пользу – и он сработал. Ввиду своей успешности этот прием был возведен советским руководством в ранг основной стратегии его международной деятельности на годы вперед, тем более что она строилась на идейном фундаменте непоколебимого убеждения первого поколения большевиков в классовом характере отношений советской России с окружающим капиталистическим миром, исключавшим возможность длительных союзов.
Вместе с тем, – объективно, – у формального советского нейтралитета 1917–1918 гг. был сильный прогерманский уклон: «срединный» курс Петрограда – Москвы приносил дивиденды Берлину, поскольку Россия вышла из числа его противников, а на долю Парижа и Лондона по той же самой причине приходились исключительно издержки. Благодаря прекращению боевых действий на Восточном фронте в результате подписания в марте 1918 г. Брестского мирного договора между советской Россией и Германией, последняя смогла перебросить более миллиона солдат на Западный фронт. В результате чаша весов в продолжавшейся мировой войне начала склоняться в ее пользу, и если бы не подоспели американские войска численностью 2 млн. человек, в европейской истории могла наступить эпоха pax germanica.1 Кроме того, репарационные платежи золотом и хлебом, которые по условиям Брестского договора Россия производила в пользу Германии, были важным фактором поддержания крепости ее тыла.
В ответ последовала интервенция сил Антанты с целью восстановления Восточного фронта усилиями несоветских правительств, действовавших на территории бывшей Российской империи, а также для ограничения возможностей Германии пользоваться российскими ресурсами. Политика «использования межимпериалистических противоречий» переместилась на национальную почву и была помещена в дипломатический формат, где приняла форму тайных советско-германских договоренностей о т. н. «параллельных действиях» против англо-французских экспедиционных сил и союзного им Белого движения.
В 1920–1921 гг. в Кремле принимается решение об уже стратегическом партнерстве с Берлином – до следующей мировой войны. Курс на советско-германскую солидарность в борьбе с версальскими триумфаторами2 был оформлен соглашением, подписанным сторонами 16 апреля 1922 г. в итальянском городке Рапалло, где остановились делегации обеих стран, прибывшие для участия в работах Генуэзской экономической конференции по послевоенному восстановлению мирового хозяйства.
Приводить текст рапалльского соглашения не имеет смысла, поскольку его политическая бесцветность способна ввести в заблуждение относительно исторической значимости этой договоренности. Из пяти сущностных статей в двух говорилось о взаимном отказе от претензий на возмещение убытков и расходов, возникших в связи с мировой войной и последующими военными действиями, а также вследствие встречной национализации и конфискации собственности граждан одной страны в силу постановлений правительства другой. Важные для своего времени, эти статьи не были обращены в будущее. Еще в двух статьях провозглашалась готовность развивать хозяйственные отношения и строить их на принципе наибольшего благоприятствования – типичные положения любого соглашения о торговле. Единственная сугубо политическая статья предусматривала возобновление дипломатических отношений после непродолжительного периода разрыва (т. е. никакого прецедента признания большевистской власти договор не создавал) [73, с. 223–226]. Подобных соглашений советская России заключит десятки. Такова была «буква» рапалльского документа, и не удивительно, что история международных отношений ее забыла.
Иное дело – «дух Рапалло». Этот «дух» витал над Европой без малого двадцать лет, приводя в движение армии, стирая с политической карты континента целые страны, передвигая государственные границы… Он возник в результате реакции синтеза двух разрушительных энергий – германского реваншизма и советского агрессивного мессианства. Их смычка создавала в Европе совершенно новую геополитическую реальность. Союз дореволюционной России с Антантой имел целью сохранение существовавшего миропорядка путем пресечения германских попыток взорвать его ради передела в свою пользу. Советская же Россия предлагала Берлину полную поддержку в достижении этой цели, потому что сама стремилась к переделу мира, только под лозунгом мировой пролетарской революции, постепенно трансформировавшимся в суперидею строительства всемирной красной империи.
Надо, однако, иметь в виду, что для обитателей Кремля, начиная с Ленина, разжигание революционных войн и насаждение социализма в Европе довольно быстро из миссионерского подвига превратилось в средство борьбы за собственное сохранение у власти в политически неуютной для них крестьянской России. Приобретение классового союзника в лице победившего пролетариата мощных и богатых европейских государств рассматривалось в Москве как гарантия незыблемости режима. Таким образом, это была двуединая цель. В зависимости от международной обстановки и внутреннего положения в самой стране на первый план попеременно выходили задачи подталкивания европейской (и не только) революции или обеспечения внешнего спокойствия как условия внутреннего развития. Дихотомический подход в духе «мировая революция или строительство социализма в отдельно взятой стране» в данном случае неуместен, поскольку одна из этих целей была, одновременно, средством достижения другой, и наоборот. Все решала политическая конъюнктура.
Для советской России, нацеленной на разрушение существующего миропорядка, стоявшие у нее на пути Великобритания и Франция – эти столпы – гаранты Версальского мира и метрополии колониальных систем, охватывавших две трети земного шара, стали смертельными врагами. Но силы были слишком не равны, и чтобы успешно бороться с ними, Москва нуждалась в сильном союзнике, которым могла стать только Германия. Однако после поражения в войне эта страна лежала в экономических и политических руинах. Поэтому содействие ее возрождению становится одной из важнейших задач советской внешней политики 20-х годов. Понимали ли в Москве, что в случае успеха замысла сразу обоим «братьям по Рапалло» в Европе, особенно Восточной, станет тесно, и выяснения отношений по межгосударственной или социально – политической линиям не избежать? Трагедия 22 июня была в самом общем плане предначертана.
Ввиду революционно-реваншистского характера задач создаваемого альянса его основой стало военное сотрудничество между двумя странами. В феврале 1921 г. состоялось подписание секретного оглашения о восстановлении немецкой военной промышленности на территории СССР, в развитие которого 11 августа 1922 г. заключается Временное соглашение о сотрудничестве между Красной Армией и Рейхсвером. В результате Германия получила возможность, – в обход ограничений, наложенных на нее Парижским мирным договором, – производить на принадлежавших ей концессионных предприятиях в СССР, а также приобретать у него самого авиабомбы, самолеты, химическое оружие, танки и т. д. В учебных заведениях Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и собственных военных училищах в Липецке, Казани и Вольске Рейхсвер готовил высшие командные кадры армии, танковые экипажи, летчиков ВВС и специалистов по ведению химической войны. В 1926 г. в рамках этого сотрудничества осваивалась треть годового военного бюджета Германии, порядка 150 млн. золотых марок. Оказанная СССР помощь существенно двинула вперед дело возрождения немецкой армии.
В действительности значение этой кооперации выходило далеко за рамки чисто военной сферы. Уместна аналогия послевоенной Германии со старой Пруссией, о которой было сказано, что она – это армия, имеющая собственное государство. Не меньшим было значение Рейхсвера для германской государственности 1920-х гг.; поэтому на его сотрудничестве с РККА, по словам германского посла в Москве Г. фон Дирксена, стояло все политическое здание русско – германских отношений, а генерал фон Сект и Рейхсвер вообще «были самыми стойкими и надежными приверженцами дружбы с Россией» [4, c.74, 122]. Свое политическое кредо генерал – фактический командующий Рейхсвером – выразил в следующих словах: «Разрыв версальского диктата может быть достигнут только тесным контактом с сильной Россией. Нравится нам коммунистическая Россия или нет – не играет никакой роли. Что нам нужно – это сильная Россия с широкими границами – на нашей стороне. Итак, никаких Польши и Литвы между нами…» [цит. по: 62, с. 8].
Подкармливая зализывавшего раны германского тигра, за собственную безопасность в Кремле не опасались. Там полагали, что единственный путь, на котором Германия могла решить задачу возвращения в клуб великих держав, лежал на запад, через борьбу за освобождение от оков Версаля и новый колониальный передел. Москва считала, кроме того, что обладает таким безотказным инструментом умиротворения Берлина, как совместная борьба с польским государством вплоть до его нового раздела. Рецепт преодоления возможных в будущем противоречий между СССР и Германией за счет дележа Польши предлагался, к примеру, в обзорном письме о европейской политике за 1924 год, направленном тогдашним наркомом по иностранным делам Г. В. Чичериным членам Политбюро ЦК РКП (б). Двоим из этих адресатов наркома, – И. В. Сталину и В. М. Молотову, – предстояло принять подобное решение в августе 1939 г.3
Политический расчет Кремля, как указывалось выше, строился на предположении о неизбежности войны реванша Германии с западной коалицией. Однако под давлением политико-экономических реалий Берлин со временем все больше склонялся к достижению своих целей путем нахождения компромисса с вчерашними врагами. Поэтому когда в феврале 1925 г. Москва предложила Германии заключить военный союз против Польши, что было равносильно созданию советско – германского альянса против союзных Варшаве Великобритании и Франции, из Берлина последовал отказ.
В Лондоне и Вашингтоне также стала побеждать точка зрения, которую им удалось навязать Парижу, что Германия понесла достаточное наказание за развязывание войны и что пора разрешить этому блудному сыну, вернее блудной дочери, вернуться в семью цивилизованных европейских народов. В 1924 г. был принят «План Дауэса» о содействии возрождению германского народного хозяйства, а на следующий год на конференции в швейцарском Локарно произошла, по существу, международно-политическая амнистия Германии в обмен на признание ею незыблемости установленных Версалем ее западных границ. Эти события позволили Берлину сбалансировать внешнюю политику и уйти от односторонней ориентации на СССР. В качестве компенсации за платоническую измену Германия заплатила Москве «омоложением», по выражению фон Дирксена, рапалльского соглашения путем заключения в 1926 г. Берлинского договора о нейтралитете.
Договор о нейтралитете
«24 апреля 1926 г.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Германское правительство […] пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях.
Статья 1
Основой взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией остается Рапалльский договор.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Германское Правительство будут и впредь поддерживать дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов политического и экономического свойства, касающихся совместно обеих стран.
Статья 2
В случае если одна из договаривающихся сторон, несмотря на миролюбивый образ действий, подвергнется нападению третьей державы или группы третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.
Статья 3
Если в связи с конфликтом упоминаемого в статье 2 характера, или же когда ни одна из договаривающихся сторон не будет замешана в вооруженных столкновениях, будет образована между третьими державами коалиция с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из договаривающихся сторон, другая договаривающаяся сторона к такой коалиции примыкать не будет.
Статья 4
Настоящий договор подлежит ратификации, и обмен ратификационными грамотами будет совершен в Берлине.
Договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и действителен в течение пяти лет.
Заблаговременно до истечения этого срока обе договаривающиеся стороны согласуют между собой дальнейшие формы своих политических взаимоотношений» [33, с. 250–252].
С формально – правовой точки зрения договор был, разумеется, двусторонним. Однако с учетом реалий 1926 г. в политическом смысле он представлял собой одностороннюю гарантию Германии неучастия в возможных враждебных Советскому Союзу комбинациях ее новых партнеров по Локарно. Одностороннюю, потому что никакие международные комбинации с участием СССР против Германии в 1926 г. и в течение последующих пяти лет действия договора не просматривались.
Если рапалльское соглашение заключалось в ожидании революционного прилива, то Берлинский договор подписывался в обстановке отлива сил европейской революции. Во внешнеполитических расчетах Кремля, однако, Германия, – все равно какая, революционная или империалистическая, – сохраняла роль форпоста, за которым советский режим надеялся пересидеть, если Европу сильно заштормит. Менялись только средства достижения цели.4 Теперь ставка делалась не на революционизирующую роль Германии в разжигании пан-европейской социальной войны, победа в которой пролетариата решит раз и навсегда проблему внешней безопасности СССР, а на отвлечение сил англо-французской коалиции и ее восточноевропейских союзников с московского направления на берлинское ввиду постепенного восстановления могущества их недавнего врага. Иными словами, на знаменитые «межимпериалистические противоречия».
Значение германского политического и военного фактора в деле обеспечении внешней безопасности «советской власти» не может быть правильно оценено, если упустить из вида, что на протяжении 1920-х и первой половины 1930-х гг. у этой власти, по существу, не было боеспособной армии. Вооруженная трехлинейками неграмотная, недисциплинированная и относительно немногочисленная толпа с неуютной для властей политической ориентацией под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», не могла быть эффективным инструментом европейской политики Кремля.5 И хотя никто не собирался нападать на СССР, коммунистическим доктринерам, застрявшим в окопах гражданской войны и интервенции, угроза империалистического «крестового похода» мерещилась повсюду. Насколько незащищенными они чувствовали себя можно судить по тому факту, что в опасных противниках числили Румынию, Польшу, Финляндию. Судя по документам, в 1925 г. Наркомат обороны был не уверен даже в том, что СССР сумеет выстоять в оборонительной войне с прибалтийскими государствами [59]. В этих условиях квазисоюзная Германия, восточный фланг которой выходил в тыл лимитрофных государств6, а западный оттягивал на себя военные, финансовые и политические ресурсы англо-французской коалиции, была едва ли не главной надеждой Москвы на безопасное существование.
Вот почему «предательство в Локарно» рапалльского брудершафта вызвало бешеную ярость Кремля. А поскольку все правительства Германии во второй половине 1920-х гг. либо были сформированы социал – демократической партией самой или с ее с участием, либо пользовались ее поддержкой в вопросах внешней политики, то гнев Кремля обрушился именно на нее. Еще одним «грехом» социал – демократов была их борьба за «республиканизацию» Рейхсвера, т. е. за его реальное, а не формальное подчинение политическому руководству страны. Это, опасались в Москве, разрушит рапалльский фундамент, поскольку именно сотрудничество армий было его цементирующим элементом. Сказалась, конечно, и внутривидовая борьба на левом фланге.
Тотальное столкновение Кремля с германской социал-демократией спровоцировала серия статей о тайном сотрудничестве Рейхсвера с Москвой, опубликованных 4–7 декабря 1926 г. центральным печатным органом СДПГ газетой «Форвертс». Имея в виду подавление армией восстаний германского пролетариата, газета бросила Кремлю тяжелейшее обвинение в том, что он «подстрекает немецких рабочих на выступление против пулеметов, начиненных русскими боеприпасами». В ответ Правда» обозвала германских социал-демократов «социал-Иудами» и «лизоблюдами английского империализма» [ «Правда». – 1926. – 5 января]. Последней каплей, переполнившей чашу московского терпения, стало инициированное фракцией СДПГ в конце декабря 1926 г. парламентское расследование Рейхстагом деятельности Рейхсвера в СССР. Публичное раскрытие тайн советско – германского военного сотрудничества, осуществлявшегося в нарушение международных соглашений об ограничениях на вооружение Германии, грозило уже конфликтом Москвы с Лондоном и Парижем и вынудило СССР в авральном порядке отказаться от всех нелегальных форм этого сотрудничества, которые, конечно, были его сутью.
В отместку под давлением Сталина Коминтерн объявил европейскую, прежде всего, германскую социал-демократию главным врагом мирового пролетариата и его классовой родины – СССР. Война против нее продолжалась в течение многих лет и начала стихать только ближе к середине 30-х годов. Например, выступая по этому вопросу на 16 съезде ВКП (б), Молотов назвал усиление борьбы с социал-демократией «главной задачей компартий в теперешних условиях» и призвал «к усиленной борьбе против социал-фашизма по всей линии». [48, с. 419–420, 427].
Союзницами Кремля в начатой им войне против социал-демократической Германии стали две другие – коммунистическая, готовая выполнить любой приказ Москвы, и национал-социалистическая, возведшая войну реванша против англо-французской коалиции в ранг главной национальной задачи. (Оговоримся: в области внешней политики. Между тем, российский философ А. С. Ципко совершенно прав, обращая наше внимание на то, что первопричиной фашизации ряда стран послевоенной Европы была их реакция «на существование ленинского Коминтерна». Конкретно же для германского национал – социализма внутриполитическая задача борьбы с коммунизмом была равновелика внешнеполитической задаче борьбы против Версаля). Помимо прочего учитывалось, что именно эти две партии могли усилить свои электоральные позиции за счет пролетарского и мелкобуржуазного избирателя СДПГ.
Чтобы оттеснить от власти социал-демократических и прочих пацифистов и поставить на их место сторонников реванша, Москва заставила немецких коммунистов на протяжении пяти лет фактически блокироваться с национал-социалистами при решении важнейших внешне – и внутриполитических вопросов жизни страны. Операция удалась, и в 1933 г. во главе германского правительства, а вскоре и страны, встал А. Гитлер.7 Историк Р. Медведев справедливо назвал раскольническую линию сталинской верхушки в международном рабочем движении «главным «подарком» для германского национал-социализма» [107, с. 141].
Москва поспешила заверить новые власти в Берлине в том что, несмотря на антифашистскую риторику советской пропаганды, здесь не драматизируют произошедшие в Германии перемены. О стремлении СССР иметь с новой Германией хорошие отношения в беседах с немецкими представителями высказывались Председатель ВЦИК М. И. Калинин, нарком обороны К. Е. Ворошилов, нарком иностранных дел М. М. Литвинов, заместитель наркома обороны маршал М. Н. Тухачевский и др. [см.: 5, с. 24–25]. Летом 1933 г. в неформальной беседе с послом Германии в СССР Гербертом фон Дирксеном секретарь ВЦИК СССР А. Енукидзе передал ему мнение Сталина, что «национал-социалистическая перестройка германского государства может иметь положительные последствия для германо-советских отношений» [121, с. 95].