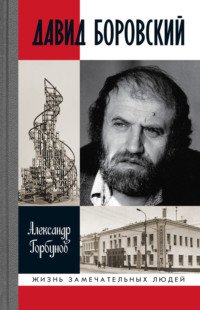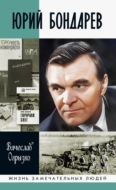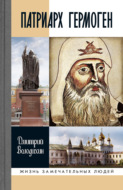Loe raamatut: «Давид Боровский»
© Горбунов А. А., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Предисловие
Если согласиться с постоянными ссылками Давида Боровского на «везение» и «Его величество Случай» – так он частенько объяснял свои грандиозные успехи, заставлявшие театральный мир замирать от восторга, – то уж театральному миру-то как повезло с появлением в нем художника-мыслителя, самого заметного сценографа второй половины ХХ века.
Он прошел путь от ученика декоратора в киевском Театре имени Леси Украинки, в котором начинал работать в четырнадцатилетнем возрасте, оказавшись в «волшебной коробочке» в общем-то случайно, до общепризнанного реформатора современной сцены мирового уровня, поменявшего взгляд на театральное искусство в целом и поражавшего неслыханной яркостью своих идей.
В знаменитом театральном словаре Патриса Пави – имена трех представителей отечественного театра: режиссеров Всеволода Мейерхольда и Константина Станиславского и сценографа, благодаря которому произошли тектонические сдвиги в сценическом искусстве, Давида Боровского.
Понятно, что в Киеве во второй половине 1950-х годов и в первой половине 1960-х никто и предположить не мог, что за работами Давида Боровского скрывается будущий выдающийся сценограф мирового уровня, мастер, в значительной степени, по характеристике Юрия Роста, «определивший современные направления этого искусства».
Одно из основных достижений Давида Боровского – полное изменение устоявшегося представления о роли сценографа в создании спектаклей, всегда считавшегося «подсобной фигурой». Боровский, называвший спектакли плодом совместного, командного сочинительства, в котором принимают участие все имеющие отношение к постановке «действующие лица и исполнители», добился, по определению театроведа Аллы Михайловой, уникального соединения «острейшей условности с пронзительной жизненной правдой».
«С уходом Боровского, – считает режиссер Лев Додин, – мы потеряли мощный не только художественный, но и интеллектуальный, нравственный центр. Философ, мудрец, которого в театральном нашем мире за глаза и в глаза звали Ребе, – он был не только самым честным человеком, что сегодня, когда быть нечестным вроде бы нормально, особенно важно. Он саму работу не представлял себе вне нравственных категорий».
Боровский обладал редким для театрального человека качеством – безошибочным нравственным чутьем. Он всех соединял, не прилагая к этому малейших видимых усилий: одним только своим существованием.
Боровский, которому Создатель ввел сыворотку против лжи, признавал только простые и честные отношения между людьми, только правду. Он – для себя – делил людей на тех, кто, толкая тяжелую дверь, идет, не оглядываясь, дальше, и на тех, кто, пройдя, дверь придерживает ее, чтобы она не ударила идущего следом.
Боровский, оформивший более 150 спектаклей в разных странах, работал со многими режиссерами, в частности, с Ириной Молостовой, Владимиром Нелли, Михаилом Резниковичем, Анатолием Эфросом, Георгием Товстоноговым, Олегом Ефремовым, Иштваном Хорваи, Галиной Волчек…
И конечно же, с Леонидом Варпаховским, встреча с которым в Киеве стала для Давида едва ли не самой решающей в профессии и в жизни; с Юрием Любимовым, для которого Боровский стал полноправным соавтором в создании знаменитого Театра на Таганке; Михаилом Левитиным, с которым было сочинено немало спектаклей; со Львом Додиным, тандем с которым стал ярчайшим событием в театральной жизни страны.
«Художник и режиссер, – говорил Давид Боровский, – должны работать вместе и понимать друг друга. В идеальном случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, собственно: кто чьи интересы отстаивает»
Сотворчество Любимова и Боровского, создателей «золотого века “Таганки”», таким идеальным случаем и оказалось. Оно началось со спектакля «Живой», два десятилетия запрещавшегося к показу властями, но все равно остававшегося шедевром на все времена. Среди несомненных совместных таганских шедевров Любимова и Боровского – «А зори здесь тихие…», «Гамлет», «Товарищ, верь!..», «Деревянные кони», «Обмен», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Владимир Высоцкий»…
Сценография высокого уровня включает в себя ощущение бесконечности. «…художник-иллюстратор старого театра, – говорил Марк Захаров, – начал на наших глазах обретать функции современного режиссера-постановщика. Что бы делал Юрий Любимов без Давида Боровского? Нашел бы другого Боровского?.. Скорее всего, бедствовал бы продолжительное время, и эстетика “Таганки” формировалась бы не столь успешным образом. Боровские просто так, как грибы после дождя, не растут».
* * *
Бесценным подспорьем в работе над этой книгой, не театроведческой, а биографической (не только для героя биографической, но и для театров, в которых он блистал, и для людей, с которыми работал), стали, конечно же, рассказы Давида Боровского из «Убегающего пространства», десятки его блокнотов, большей частью самодельных, с вклеенными страницами, карманного формата, переполненных карандашными записями, связанными с подготовкой спектаклей, номерами телефонов, фамилиями, сведениями о перемещениях по миру…
Выборка из них – заметки о людях, спектаклях, поездках, рисунки, портреты, наброски, часть из которых, никогда прежде не публиковавшихся, использована автором, – заслуживает, несомненно, отдельного издания, ставшего бы весомым дополнением к трем совершенно уникальным фолиантам, с любовью подготовленным к печати сыном Давида Львовича Александром Боровским: «КОСТЮМЫ», «МАКЕТЫ», «РИСУНКИ».
Подспорьем в работе стали, разумеется, и многочасовые разговоры с Александром Давидовичем Боровским, ярким продолжателем дела отца, одним из лучших художников мирового театрального искусства.
Несомненную помощь автору оказали основательные работы Виктора Березкина, Аллы Михайловой, Риммы Кречетовой о творчестве Давида Боровского, его спектаклях в драматическом и оперном театре; статьи Анатолия Смелянского, Константина Рудницкого; свидетельства и суждения Эдуарда Кочергина, Льва Додина, Сергея Бархина, Юрия Роста, Вениамина Смехова, Михаила Левитина, Нинель Исмаиловой, Алексндра Галина, Александра Тителя, Анаит Оганесян, Владимира Оренова…
Глава первая
Одесса – Сталинабад – Киев
Второго июля 1934 года в Одессе в семье Боровских-Бродских – Льва Давидовича и Берты Моисеевны – родился мальчик, получивший библейское имя Давид. Почему фамилия оказалась двойной, неизвестно. Под ней тем не менее жил Давид – она фигурировала во всех касавшихся его личности документах. Под ней живет и его сын Александр. Как-то Саша поинтересовался у отца о природе двойной фамилии. Давид молча пожал плечами.
Объясняя свое почтительное отношение к числу 13, Боровский записал в блокноте: «Родился я в Одессе на улице Успенской в доме № 13 и женился на Марине Писной, рожденной в марте 13 дня».
Когда Давид родился, улица, на которой жили его родители и сестра Татьяна (она была старше на три года), носила имя известного советского дипломата, многолетнего наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина. В начале же эта улица была Успенской, в честь собора Успения Пресвятой Богородицы. Название изменили спустя несколько лет после революции, а пришедшие в Одессу в 1941 году румынские власти переименовали ее в «улицу Антонеску». «Чичерин» вернулся в первый послевоенный год, а «Успенская» – в 1994-м, через несколько лет после того, как Украина стала независимым государством.
Время раньше исчислялось так: родителями Давида – «до» революции и «после» нее, Давидом и его сверстниками – «до» и «после» войны. Давид вспоминал («Вот, что помню про свое “до войны”») довоенную поездку с мамой в 1940 году из Одессы в Москву и покупку там небольшого детского двухколесного велосипеда – незабываемое событие для шестилетнего мальчугана, которому (и жене) отец, провожая их на вокзале, говорил: «Без велосипеда не возвращайтесь!..»
Ездить на велосипеде Давид научился быстро. Поначалу, правда, отец сзади придерживал за седло (спустя десятилетия Давид – и тоже поначалу – поступал так же, когда учился кататься Саша, а потом уже – в новом веке – опять же поначалу, велосипед придерживал Саша, когда за руль сел маленький Давид).
«По-моему, – рассказывал Давид, – я был один такой велосипедный счастливец на всю улицу. И бесконечное – дай покататься! И мне нравилось “угощать”. Что было особенно приятно – давать покататься и показывать, как работает главная прелесть велосипеда – звонок на руле. Как на взрослом велосипеде».
Одесский двор… Четкий, квадратный, окруженный четырех- и трехэтажными домами. Чугунная колонка воды в центре двора. Боровские жили в доме со стороны улицы Чичерина. Окна квартиры выходили во двор, со всех сторон замкнутый домами. «Каждый день своей довоенной жизни, – вспоминал Давид, – я видел эту колонку, возле которой постоянно крутились взрослые и дети. Вокруг нее кипела жизнь». Где бы потом Давид ни видел – в Киеве, Херсоне, Венеции или Париже – водяные колонки, называл их «родными». Они появлялись и в оформленных им спектаклях, в частности, в «Медее»…
Еще из довоенных событий – переезд семьи Боровских-Бродских (говорили: на год или больше) в присоединенную Бессарабию – Льва Давидовича отправили туда по работе. И – скорое, на последнем пароходике, возвращение в Одессу: началась война, отменившая все планы. «В небе, – рассказывал Давид, – гул самолетов. Бомбы. Взрывы. Крики растерянных людей, бегущих в поисках бомбоубежища. Уход отца на фронт. Считалось: месяца на два или четыре. Так говорили почти все».
Запомнились мальчугану воздушные тревоги. После одной из них, когда мама, сестра и он оказались в бомбоубежище, исчез его велосипед. Во двор завезли песок – гасить «зажигалки», которые бросали с самолетов. Самые маленькие (и Давид в их числе), гордые полученным заданием, ходили по квартирам собирали чулки и носки, набивали их песком, завязывали и волокли эти «ноги» на чердак, откуда ребята постарше переносили «изделия» на крышу.
Сухой и жаркий дух чердака – от раскаленной крыши – Давид помнил всегда. И – «болванки»: набитые песком чулки и носки. Помнил и хотел однажды («Я все еще не могу дождаться», – говорил) повторить на сцене и «ноги» с песком, и белые женские береты, выстиранные и надетые на тарелки.
Да не все то, что сверху, – от Бога,
И народ «зажигалки» тушил;
И как малая фронту подмога —
Мой песок и дырявый кувшин.
«Балладу о детстве» Владимир Высоцкий, с которым Давид подружился, когда работал на Таганке, исполнил однажды у Боровских дома. Это было первое исполнение только-только написанной песни. Давид рассказал тогда Владимиру о своей «малой фронту подмоге»… Высоцкий пел и про его, Давида, детство.
Берта Моисеевна рассказывала сыну, как они в панике покидали Одессу, когда немцы были уже в двух шагах от города. С сумкой с документами и самыми необходимыми вещами и лекарствами в одной руке и с детьми – в другой, она металась между перронами вокзала, внутри огромной толпы перед закрытыми вагонами, с которых срывали задвижки и в которых обнаруживали подготовленные к вывозу из города заводские станки в опалубке, какое-то железное оборудование.
В отчаянии Берта Моисеевна – ей исполнилось тогда 39 лет – бегала вместе со всеми от вагона к вагону и едва не опустила руки, в один из моментов остановившись. Она бы и опустила их, но помог какой-то крепкий мужчина. Без лишних слов он поднял в вагон Таню и Давида, а потом – Берту Моисеевну. Они забились между станками и отправились в долгий путь.
О вагоне-теплушке Давид рассказывал писателю Михаилу Рощину, с которым жил в общежитии в Москве. Рощин в 1973 году написал пьесу «Эшелон». «Когда Боровский, – вспоминал Анатолий Эфрос, ставивший в 1975 году «Эшелон» во МХАТе, – делал декорации к спектаклю, он говорил мне, что это его долг перед памятью матери. Он сам ехал когда-то в таком эшелоне и что-то до сих пор тревожит его память. И вот он сделал макет, который создан его сосредоточенным чувством, чувством по поводу именно этого конкретного случая, а не потому, что такая мода, такое течение и так далее. В том, что он делает, есть конкретное тепло».
Фрагмент вагона-теплушки военных лет Давид разместил на сцене. Жестокий военный быт – возможная причина жесткости макета. Быт этот художник до отказа заполнил точными деталями, навсегда – свойство экстремальных ситуаций – застывшими в детской памяти.
Из 600-тысячного населения Одессы, седьмого по численности города в СССР, к середине августа 1941 года в городе осталось чуть более 300 тысяч человек. Остальные ушли на фронт или, как Боровские, эвакуировались из осажденного города, подвергавшегося постоянным бомбардировкам и пулеметным обстрелам из самолетов.
До Сталинабада (ныне – Душанбе) добирались несколько недель. С пересадками в Новосибирске и Ташкенте.
Сталинабад той поры описан в дневнике Евгения Шварца, приехавшего в столицу Таджикистана по приглашению Николая Павловича Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего в этом городе в период эвакуации. «Сталинабад, – записал Шварц, получивший в театре должность заведующего литературной частью, – поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится… На крышах кибиток растет трава».
В Сталинабаде Таня и Давид пошли в школу. Давид – в первый класс. Местные дети собирали для приехавших детей белье, одежду, обувь, учебники. Срочно созданная «Сталинабадская городская чрезвычайная комиссия по определению ущерба, причиненного гражданам СССР немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками» принимала заявления граждан, эвакуированных в Сталинабад, о причиненных им убытках. Берта Моисеевна заявление подала, и Боровские получили компенсацию – деньгами, одеждой и продуктами.
Ни город, ни школа Давиду не запомнились. Город – разве только арыками и фруктами. А школа – грандиозной домашней поркой, устроенной мамой.
Берта Моисеевна все бросила на то, чтобы дети были накормлены, напоены и одеты и, порой выбиваясь из сил, работала в двух, а то и в трех местах – занималась уборкой, стиркой, подрабатывала преподаванием русского языка. Однажды в школе, в которой учился Давид – уже во втором классе, – объявили сбор средств для Красной армии. Кто сколько сможет. Дети должны были сообщить об этом родителям. Давид маме не сообщил. Он знал, где у нее лежат заработанные ею деньги, взял всё и отнес в школу. И был выпорот, запомнив «экзекуцию» на всю жизнь. Не затаив в глубине души обиду, а – запомнив. Как важный урок.
В Сталинабаде Боровские столкнулись со сложностями эпидемиологической обстановки, возникшей из-за наплыва беженцев, – более 140 тысяч человек со всей страны! – и вызвавшей угрозу паразитарных тифов, дизентерии, гриппа, вирусного гепатита и малярии. Первая вспышка сыпного тифа и дизентерии была зафиксирована в столице республики в декабре 1941 года. В январском постановлении горсовета «О мерах борьбы с распространением инфекционных заболеваний в городе Сталинабаде» говорилось: «Все граждане, приезжающие в г. Сталинабад, обязаны пройти санобработку при городской бане № 2, причем установить, что без справки прохождения санобработки им запрещается проживать в гостиницах, общежитиях, на частных квартирах. За невыполнение настоящего решения виновные подвергаются штрафу в размере до 100 рублей или исправительно-трудовым работам до 30 суток…» В Душанбе были спешно организованы круглосуточные бани, дезинфекторы и прачечные; места общественного пользования обрабатывались, людей в буквальном смысле слова проверяли на вшивость, а больных с лихорадкой и температурой – изолировали.
Берта Моисеевна, Таня и Давид, несмотря на то что они уже проживали в городе – в бараке на улице Чехова, – до момента появления этого постановления, прошли в школе необходимую санобработку. И – проскочили (одно из любимых слов Давида).
Поначалу из эвакуации Боровские собирались вернуться в Одессу. Выяснилось, однако, что единственным неуцелевшим домом на Чичерина был дом 13: возвращаться было некуда. Льву Давидовичу к тому же предложили в Киеве работу, связанную с восстановлением города, – по строительной части (в армии он был инженером-строителем). Потому и остались там жить.
Первый раз после войны Давид приехал в Одессу из Киева летом 1953 года. Довольно долго оттягивал визит во двор своего детства. Объяснений этому не было. Пошел только перед самым отъездом. Тихая зеленая улица. Нашел дом. Не тот, в котором жили, а отстроенный новый. Двор не изменился. Колонка с капающей водой была на месте. На лавочке возле подворотни сидели, вспоминал Давид, «три пожилые дамы». Он знал, что в Одессе к женщинам обращаются «мадам». Так и обратился. И стал расспрашивать о довоенных соседских мальчиках-сверстниках. Давида дамы после наводящих вопросов вспомнили. «Вспомнили, – рассказывал он, – мою маму – “мадам Боровскую”. Продемонстрировали, перебивая друг друга, мой – “частый”, как они его назвали, – крик-просьбу, обращенный со двора в открытое наше окно третьего этажа: “Мам! Хлеб с маслом и вареньем!..” Мама готовила это “пирожное”, и я бегал за ним по лестнице. Есть его полагалось во дворе. Медленно. Удивительно, но во взрослой своей жизни я к сладкому остался довольно-таки равнодушен».
Запомнилось Давиду довоенное лакомство: хлеб с маслом, поверх которого обильно накладывалось абрикосовое или вишневое варенье («Варение варенья, – говорил Давид, – было особым одесским умением…»). Дома стеклянные цилиндры с вареньем с завязанными белой бумагой горловинами прятались в серванте на недоступной (даже если встать на стул) высоте.
Однажды где-то за границей Давида, рассказывал он, «дернуло памятью, как электричеством»: за завтраком в гостинице на хлебе смешались масло с джемом, и он молниеносно вспомнил себя, шестилетнего. Память вкуса или вкус памяти?
По Байрону: «Ощущение прошлого даже со всеми скорбями и печалями неизбежно сентиментально».
Давиду удивительно было узнать о том, что это лакомство, хлеб с маслом и вареньем, – tartine de beurre et confiture – обожают французы. «Ничего, впрочем, – смеялся, – удивительного в этом нет: ведь Одессу основал, так, во всяком случае, считают сами одесситы, многолетний генерал-губернатор города, француз герцог де Ришелье…»
Всякий раз, приезжая в Одессу, Давид Боровский непременно шел на родную улицу. В блокноте за 2000 год помечено: 2 мая, вторник, Чичерина, 13. Боровский прилетел тогда в город – один из самых театральных в России до революции – на три дня по делам в Русский драматический театр. В тот приезд он узнал о возвращении улице ее исторического имени («во внутреннем флигеле осталась надпись «Чичерина, 13»), заметил, что «колонку воды во дворе убрали», а от гигантского каштана остался лишь ствол метров в пять высотой – «памятник».
Когда я стал интересоваться «биографией» улицы, на которой родился и несколько лет жил Давид Боровский, в одном из справочников обнаружил рубрику «Известные жители». В ней фигурирует лишь один человек, проживавший в доме № 127, – «Исаак Гроссман, известнейший одесский футбольный болельщик».
Давид о таком «соседстве» не ведал, но о Гроссмане, достопримечательности города, был наслышан и рассказывал мне о «потрясающем футбольном болельщике», которого знала «вся Одесса», называвшая его «королем болельщиков». Гроссмана считали таким же знаменитым, как ведущих игроков местных команд. Каждый, наверное, посетитель одесского стадиона был осведомлен о том, кто постоянно – раз и навсегда – занимает седьмое место в пятнадцатом ряду на трибуне № 38.
«Дерибасовской как улицы, – записал в 2000 году Давид, – больше нет. Есть зона. Пешеходная дерибасовская зона. Чуть-чуть “Versaci”, чуть-чуть “Cristian Dior”. Большой “Макдоналдс”. Игровые автоматы стоят на тротуарах. Dolche vita. Бродит старый музыкант с саксофоном. Играет блюз. Затем с банкой, бренча мелкими деньгами, обходит часть улицы». Звонивший Давиду в гостиничный номер по телефону человек говорил: “Слушай сюда”».
В отеле «Пассаж», в 335-м номере которого Давид жил, его «достал» запах карболки. Он называл его «запахом социализма». Одесса не была бы Одессой, если бы на стекле центрального гастронома не была бы начертана надпись: «Внезапно низкие цены». И чуть ниже – «Наши гири самые тяжелые».
Он рассказывал, как в грустном состоянии поздно вечером один ехал на трамвае, механически отдал женщине-кондуктору денежки за проезд и так же механически спросил: «А билет?» И был счастлив («Так хорошо стало на сердце от осознания того, что Одесса еще живет»), когда получил в ответ: «Вам нужен билет или поехать?..»
В начале мая 2004 года Боровский лежал в берлинской клинике – проблемы с сердцем. Тогда же в одном из его блокнотов появился вопрос: «Сколько осталось жить?» Это вовсе не проявление мнительности, а желание – для себя – понять: сколько? что задумывать?.. Да и раньше вопрос этот возникал – в Венгрии, в октябре 1988 года, после осмотра у профессора Золтана Сабо («Он удивился, – рассказывал мне Давид, – когда я поинтересовался у него, не родственник ли он знаменитого футболиста киевского “Динамо” Йожефа Сабо? Стал про динамовца расспрашивать. Но – не родственник…») и процедуры коронарографии в Институте коронарной и сосудистой хирургии.
Три четверти окна его больничной палаты № 3 в клинике в Берлине закрывал киевский каштан, усыпанный свечами белых соцветий. «Ничего удивительного, – записал Давид. – В начале мая каштаны всегда свободно обряжаются – чуть нахально и похотливо. Удивительно, что каштан – в Берлине».
Рядом с Давидом в палате Владимир Алекси-Месхишвили, «великий кардиохирург, профессор». Он, ироничный в жизни, предельно серьезен: «Вдохни… не дыши… дыши…» А под окном, рядом с каштаном волновалась Марина. «Ужас как волновалась!» – записал Давид в дневнике. И послеоперационный анекдот от Алекси-Месхишвили, возглавлявшего в единственном числе группу поддержки Давида, записал: «Доктор – больному: курить бросить, пить тоже, никаких женщин. Больной: но я же мужчина! Доктор: бриться можно…»
Операция была сложной, волнение Марины «ужас как!» вполне объяснимо, и, к счастью, все тогда и в Берлине, и после него прошло удачно.
Дни, когда его беспокоило сердце, Давид помечал в блокноте небольшим нарисованным сердечком или же – «хрен. день».
«Два месяца назад, – записал Давид в блокноте в мае 2000 года, – умерла соседка из квартиры рядом, справа. Вчера умерла соседка из квартиры напротив, слева. “Вилка”, как говорят артиллеристы».
…В начале мая 1945 года под таким же каштаном в Киеве лежал кирпич – кон с кучкой мелких денег. Метров с шести мальчишки, и Дэвик среди них, швыряли тяжелую монету – «биток», стараясь угодить как можно ближе к кону. Игра называлась «коци».
Из окон дома, в котором жил Давид, стали кричать: «Победа! Войне конец! Над Берлином красное знамя!»
Неподалеку от дома, на Бессарабской площади, был крытый рынок. «Я, – записал Давид в берлинской клинике, – с пацанвой часто подбирал у рыночных ворот картошку под грузовиками. Мы, хоронясь от охранников, отдавали ее пленным немцам, разбиравшим развалины Крещатика… А вчера немецкий доктор Штефан Дрейссе “ремонтировал”, помогая мне, мои коронарные сосуды: в трех основных коронарах, в пяти местах. Устранял опасные сужения, как сантехник на улице в открытом люке канализации стальной проволокой пробивает закупорившуюся трубу. Сердцу должно стать легче…
Мне хочется думать, что тогда, 59 лет назад, его отцу я тоже помогал выжить…»
Крещатик, его развалины, пленные немцы вспоминались, по рассказам Давида, в Германии постоянно.
Как-то Любимова и Боровского пригласили в Оперный театр Нюрнберга для постановки оперы Луиджи Ноно «Под солнцем яростным любви». Речь шла о повторе спектакля, созданного в 1975 году для «Ла Скала».
Юрий Петрович и Давид Львович прилетели на десять дней – познакомиться с театром и договориться о сроках. «В последний вечер, – рассказывал Давид, – мы были званы на дружеский ужин. К нам присоединился и режиссер оперы. Он оставил свой “мерседес” у театра, и мы зашагали по узким улицам в кабак.
Выглядел этот режиссер замечательно. Ладная фигура. Черный мягкой кожи пиджак. Седой ежик волос рифмовался со светло-серым тонкой шерсти свитером под горло. Кожа и замша были в те годы вожделенной мечтой режиссеров, артистов, художников…»
Поздно ночью возвращаясь из ресторана, заговорили о футболе. Давид упомянул киевское «Динамо», которое в те годы, обыграв в Суперкубке УЕФА1 знаменитую мюнхенскую «Баварию», получило известность на континенте. И добавил с гордостью, что сам он – из Киева.
«Тут мой красавец, – вспоминал Давид, – застыл. “О Киев! – воскликнул он. – О плен!” И рассказал, как разгребал завалы на Крещатике. Вспомнил и рынок. И всё с восторгом… Восторгом! Он просто трепетал от радости.
Тут наступила очередь обомлеть и мне. Сколько пленных там с киркой ковырялись в кирпичах… Может быть, я его видел… Может быть, давал ему картошку, подобранную у рынка… Его кожаный пиджак перепутался с пленными немцами, картошкой, дворовыми друзьями на погорелище Крещатика…
Подошли к театру. Пожелали друг другу спокойной ночи. Седой ежик сел в свой “мерседес” и укатил. Мы двинулись дальше, в гостиницу».
Накануне в костюмерной нюрнбергского театра долго искали ткань, похожую на русское шинельное сукно. Вдруг шеф мастерской не без гордости бросил на огромную плоскость стола маленькую солдатскую шинель. «Настоящая! Настоящая! – все повторял он. – Дас ист руссиш!» А Давид смотрел и смотрел на старенькую, пропитанную землей и гарью… Где этот солдатик? Ведь костюмерная – в Оперном театре Нюрнберга. Ни в какой другой костюмерной…
«Я вот сейчас вспоминаю и думаю, – размышлял Давид: – вполне возможно, что среди пленных, которых я видел каждый день, был и десантник, убивший Женю Комелькову». Из «А зори здесь тихие…».
Неизгладимое впечатление на одинадцатилетнего Давида произвела публичная казнь в центре Киева, на площади Калинина (сейчас площадь Независимости – майдан Незалежности. – А. Г.) нацистских преступников.
Подсудимых было 15. Суд проходил с 17 по 28 января 1946 года в киевском окружном Доме офицеров. 12 человек приговорили к смертной казни через повешение, троих – к каторжным работам: от пятнадцати до двадцати лет.
«Вся площадь Калинина была тогда заполнена, – вспоминал Давид Боровский. – Море голов, все, кто мог, находились здесь (на площади и примыкавших к ней улицах – свыше 200 тысяч человек, согласно официальным данным. – А. Г.). Казнь притягательна. Такой жестокий театр. И ведь мало кто в ХХ веке может сказать, что присутствовал при публичной казни на площади. Война недавно закончилась, и антинемецкие настроения были еще настолько сильны, что перевешивали все человеческое. А потом, это ведь были не те несчастные, которые разбирали развалины на Крещатике. Эти сами отдавали приказы, и скольких по этим приказам тогда перевешали…
Ритуал потрясающий. Театральный. Виселица была как у декабристов – одна с двенадцатью секциями. Петли уже были приготовлены. Мы, пацаны, с Крещатика наблюдали, как все это строилось. Зима. Промерзли. Но уйти было невозможно, место удобное займут».
Давиду запомнилось, что подъехали 12 «студебекеров». На каждом – один приговоренный. В наручниках. Все в серо-зеленых шинелях. Каждого держали двое солдат, одетых в белые полушубки.
«Студебекеров» на самом деле было шесть. Машины подъехали под площадку с виселицами. В кузове каждой машины на соломе лежали двое приговоренных. Их подняли.
«Один солдат, – рассказывал Давид, – сидел на перекладине виселицы и ногой пробовал крепость веревки. На всю площадь через усилители зачитали приговор. На немецком языке – тоже. Солдаты нацепили на каждого петлю. Как только прозвучало: “Приговор привести в исполнение”, – машины синхронно отъехали…
Любопытство пересиливало все. Мало того. К вечеру пацаны разнесли слух, что одного немца раскачали и он рухнул. И мы опять побежали смотреть. Но опоздали. К тому времени все исправили».
На самом же деле веревка не выдержала тело подполковника Георга Труккенбрада. Оборвалась. С давних времен по неписаным правилам такому приговоренному, под тяжестью которого оборвалась веревка, даровали жизнь («Расстреливать два раза уставы не велят!» – пел Высоцкий). Но только – не в этом случае. Многотысячная толпа не поняла бы – разорвала бы даровавших… Быстро достали новую веревку и еще раз повесили военного коменданта Первомайска, Коростышева и Коростеня.
…Купаться на Днепр, на левый берег которого желающих поплавать и позагорать переправляли на баржах, Давид с дворовой своей компанией не ходил. Жара между тем вынуждала их искать в городе воду для того, чтобы окунуться, и они облюбовали для себя фонтан возле Театра имени Ивана Франко – единственный в то время действующий фонтан в городе. Родители были спокойны: на Днепре постоянно тонули, особенно дети.
«Говорили, – рассказывал Давид, – о коварном дне. Дно, изрытое воронками от взрывов и заваленное военной техникой, водоворотами затягивало ныряющих… А мы барахтались, пока кожа не становилась гусиной и не стучали зубы… Сушились и загорали рядом, развалившись на декорациях, часто лежавших у театра. Деревянные конструкции, обитые фанерой, от солнца нагревались, и мы блаженствовали, пока нас не сгоняли. Мог ли я тогда, лежа на декорациях с закрытыми глазами, знать, что придумывать и строить именно их станет моей профессией со счастливым поворотом судьбы… Смешно было много-много лет спустя, проходя мимо этого фонтана, видеть довольно-таки маленькую тарелку с вазой в центре, заполненную мусором и сухими листьями…»
Давид вспоминал, как рядом с фонтаном, во дворе, он, исполнитель-декоратор соседнего с франковским Театра имени Леси Украинки, подрабатывал, освежая спиртовым лаком мебель из спектакля «Сирано де Бержерак» для гастролировавших в Киеве вахтанговцев. И часто видел, как толпы киевлян и киевлянок караулили популярных московских артистов. Особенно охотились за Целиковской. «Так вот, – рассказывал Давид. – На том самом месте, где мы пляжились на декорациях, стоял Юрий Любимов, любимец народа, обаятельнейший Ромашишка из фильма “Беспокойное хозяйство” (Любимов в фильме Михаила Жарова сыграл роль французского летчика Жана Лярошеля. – А. Г.), окруженный восторженными театралками… Мог ли я, нанося на старую мебель глянец, знать, что настанет время, когда мы с Любимовым в Риме будем бросать монетки в фонтан Треви, загадав хотя бы еще разок вернуться в этот Вечный Город…» (В «Сирано…» тогда, поставленном в театре в эвакуации в Омске, Любимов не играл; его ввели в спектакль – в роли Сирано – в 1951 году.)