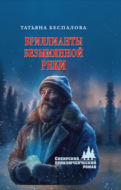Loe raamatut: «Пороги»

Художник Макс Олин

© Косенков А.Ф., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Часть первая
Хлеб 1946 года
Приговор
У коновязи, во дворе здания райсуда тесно стояли лошади. Шел четвертый час пополудни, было жарко, над крупами вздрагивающих лошадей густо гудели мухи. Лошади часто взмахивали хвостами и косились на мужиков, которые, пристроившись на старой перевернутой водопойной колоде и откупорив по случаю пребывания в райцентре поллитровку, только что мелкими глотками выпили теплую водку и теперь закусывали круто посыпанной солью отварной картошкой. Чуть в стороне кружком стояли и негромко переговаривались бабы, то и дело с любопытством взглядывая на грязные окна, за которыми уже второй час шло заседание суда.
Но вот заскрипела входная дверь, и на высокое крыльцо повалил из помещения потный раскрасневшийся народ. Мужики на ходу закуривали, бабы, которых было не в пример больше, шумно обсуждали случившееся.
– Федор-то, хоть бы словечко в конце сказал, – перекрыл всех высокий, словно плачущий, старушечий голос.
– Отговорился старый хрыч. Малец с за него, хламона лысого, биографию на оставшуюся жизнь покалечил.
– Степка тоже малохольный. Нет сказать – мое дело сторона, в подчинении находился, да и все тут, – туда же: – «Недоглядели». Получай теперь недогляд.
– Надежда плакать уже не могёт, изубивалась вся.
– Тебе бы так – не изубивалась? Степка сроду безобидный, толку, что с зарод вымахал. Пропадет теперя в лагерях.
Председатель колхоза «Светлый путь» Николай Перфильев боком протиснулся сквозь толпу, прихрамывая, подошел к коновязи, отвязал лошадь, неловко забрался в двуколку. Поднявшись с колоды, к нему шагнул конюх.
– Слышь, Иннокентич… – Он шумно выдохнул и, отводя глаза от председателя, замолчал.
– Ну? – Лицо Перфильева перекосила болезненная гримаса. – Начал – рожай. Чего, как девка на гулянке, морду воротишь? Отметили уже такое событие, не дождались.
– Это самое… – Конюх тяжело переступил с ноги на ногу и, словно за подмогой, повернулся к бабам. – Кто ж знал, что так-то обернется? Не дело это… Не по справедливости.
– Что «не дело»? Что «не по справедливости»? Советский суд не по справедливости? Думай, что говоришь, думай!
Перфильев зло натянул вожжи, лошадь попятилась. Но конюх взял лошадь за узду, остановил. Двуколку окружили бабы. Все смотрели на председателя. Тот с нарастающим раздражением от собственного бессилия и мучительной головной боли, не проходившей с утра, оглядывал лица односельчан, ждал, когда еще кто-нибудь заговорит, задаст вопрос. Но все молчали. За чьей-то спиной всхлипнула старушка. Не выдержав молчания, Перфильев резко, так, что звякнули ярко начищенные медали на вылинявшей гимнастерке, спрыгнул на землю и шагнул к бабам. Те попятились.
– В деревне-то остался кто? Все собралися, представление им тут устроили. На покос никто не удосужился, забыли по поводу такого случая…
Дарья Московских, до слез жалея председателя, лицо которого пошло красными пятнами, а лоб заблестел от предобморочного пота, все же не выдержала несправедливости и веско, как всегда, отрезала: – Трава не просохла еще. Сам знаш – неделю дожжь шел.
– Людей зазря гонять… – пользуясь тем, что от Перфильева его заслонил широкий зад Дарьи, пробасил от колоды собутыльник конюха.
– Так собираться, готовиться… Что вы тут – поможете? Любопытство одно…
Голос Перфильева сорвался. Он знал, что несправедлив, знал, что собравшиеся понимают это, понимают даже то, что он знает, что несправедлив. Но сказать ему сейчас было нечего, и сознание собственного бессилия и несправедливости было для него мучительнее самой ожесточенной ругани.
– Может, бумагу какую от колхоза? – спросил конюх и, снова шумно вздохнув, оглянулся на баб.
– Как дети малые! Ну, первый раз на свет родились, – тихо сказал Перфильев, вытирая покалеченной ладонью пот со лба.
– Неужто и председателю силы нет никакой? – прохрипел с соседней телеги незнакомый безногий мужик.
Лицо председателя снова перекосила болезненная гримаса.
– При чем здесь председатель?! – закричал он. – Вы поперед всего об законе соображение имейте, а не об председателе. Сахар потопили? Потопили! Отвечать должны? Должны! При чем тут председатель?!
– Так потопили, а не пропили, как там записали! – тоже закричала Дарья, повернувшись к окнам суда и явно надеясь, что кто-нибудь из записавших такое расслышит ее сильный уверенный голос. – Недогляд у мужиков вышел, что теперь, жизни им за это калечить?
Державшаяся до того в стороне у крыльца мать только что осужденного Степана не выдержала, растолкав баб, рванулась к председателю, ухватила за руку, словно боялась, что он не станет слушать.
– Карбас-то почто дырявый дали? Не знали, что продукты везть? Колхоз такой карбас дал, колхоз пусть отвечает.
От того, что говорила она явно не свои, а чужие слова, голос ее был неуверенным и тихим, срывающимся от сдерживаемых слез. Ничего более мучительного для Перфильева не могло сейчас случиться, чем слышать этот срывающийся голос. И уже почти не владея собой, он тоже закричал не свои, чужие, недавно услышанные слова:
– Ну да! Колхоз водку пил, колхоз незнамо где без памяти два дня валандался!.. Кончай, Надежда, это дело! Люди поумнее нас разбирались. – Но как только выкричались чужие слова, он тихо и виновато, обращаясь к конюху, лишь бы не смотреть в выцветшие от слез глаза Надежды Малыгиной, пробормотал: – К кому только не колотился… Раз так вышло, отвечать тоже надо. И это… На покос… Погода вон какая. С утра чтобы все, как один…
Дважды сорвавшись ногой со ступицы, он забрался в двуколку, хлестнул лошадь и выехал за ворота.
Бабы молча смотрели на Надежду, у которой без всхлипа потекли по щекам тихие слезы, но в это время на крыльцо в сопровождении начальника милиции и мальчишки милиционера вышли осужденные.
Федор Анисимович Щапов – невысокий лысоватый старик, с виду довольно еще крепкий, заросший жесткой седовато-рыжей щетиной, подслеповато щурясь, вглядывался в лица подступивших односельчан. Невнятная виноватая улыбка кривила его пересохшие губы. Степан, долговязый нескладный парень шестнадцати с небольшим лишком лет, тоже конфузливо улыбался и не сводил глаз с болезненно-тучного начальника милиции, который, выйдя на крыльцо, сразу же натянул по самые глаза новенькую форменную фуражку и строго оглядел двор, толпу, понурых лошадей, настежь распахнутые ворота, за которыми грязная мимоходная улочка круто сворачивала к реке. Из-за реки, всем южным краем неба наползали густые облака, обещая к вечеру, если не потянет из-за сопок прохладный свежак, духоту и полуобморочную предгрозовую недвижность окрестных пространств.
«К ночи, глядишь, саму ее сволоту натянет, – подумал главный милиционер района с непонятным самому себе безразличием. – Позавчера гроза, поза-позавчера. Ежели и эта наползет, до покосов незнамо сколько тогда не добраться, не начать. Травы перестоят… Да черт с ними с травами! Сводку вот-вот в область отсылать о скошенных гектарах, а посылать даже для отмазки нечего – никто и браться не думал из-за таких вредительских погод, наползающих не то от далекого Байкала, не то от еще более далеких, прокаленных июльским солнцем забайкальских степей».
– На кого ж ты, ирод недотепанный, оставляешь-то нас? Куда я теперь с девками, много наработаю? – Надежда протолкнулась к Степану и тянула его куда-то за собой. Ее обычно негромкий голос в наступившей внезапно тишине был слышен не только во всем немалом казенном дворе, но даже с улицы заглянули да так и остались в воротах две какие-то никому не знакомые бабы и белобрысый пацан лет семи-восьми. Надежда спохватилась, стала совать в руки сыну узелок с харчами и чистой старой рубахой, которую выстирала и прихватила, сама не зная на кой ляд.
– Держи… Молока маленько, картохи… Да держи ты… Проститься дадут или как? – оставив Степана, поворотилась она к начальнику милиции.
– Напрощаетесь еще, – очнувшись от невеселых размышлений, буркнул тот. Потом, подчеркивая важность изрекаемого, нахмурился и, тыча толстым пальцем в плечо старику Щапову, стал давать последние наставления: – По возрасту, по совокупности содеянного, а также согласно определенного судом сроку, будешь за старшого. И смотри у меня! Исчезнете где или притаитесь – все одно отыщем. Да еще по стольку добавят. Так что лучше наперед соображение имейте, гуси-лебеди. Сопроводиловку, смотри, не потеряй. Спрашивать станут, что и по какому случаю – показывай. Обязаны будут оказывать содействие. А пакет на месте отдашь. Поняли, гуси-лебеди?
Еще раз строго оглядев вытянувшихся в струнку Федора Анисимовича и Степана, двор и всех собравшихся, начальник милиции и милиционер зачем-то вернулись в помещение.
Односельчане плотно обступили Степана и старика Щапова.
– Понял или нет чего? – толкнула конюха локтем Дарья. Не дождавшись ответа, подступила к Щапову. – Это за какие такие заслуги, Федор Анисимович, в командиры тебя определили? – с притворной ласковостью в голосе поинтересовалась она. Ее высокая грудь уперлась старику чуть ли не в самое лицо, заставив того попятиться к шаткой балясине крыльца.
Сделав вид, что задумался над ответом, Федор Анисимович высказался не сразу. Дождавшись, пока все обратили на них внимание, громко объявил:
– Ты, Дарья, со своим евстеством так и не обучилась, как тому следует обращаться. Вопросы задаешь с подковыркой, а титьку в нос суешь, как дитю малому. – Он ловко поднырнул под упертую в бок Дарьину руку и, оказавшись перед мужиками, кивнул на Дарью. – Ни фиговинки они, бабы, не понимают в военной субординации.
– Ты, дядя Федя, толком объясняй, не чеши языком, – угрюмо сказал конюх. – И так дела, как сажа бела, а ты зубы скалишь. Без кузни деревню оставляете в самое, можно сказать, необходимое время.
– А я что, не объясняю, жизнь наша переменная? Дед был казак, отец – сын казачий, а я – хвост собачий. Дашка сроду чинов не различала. Нашла командира. Вот она – вся наша команда: я первый, да Степка второй. Правду мамка-покойница говорила: «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою». Нету, объявляют, для вас сопровождающих. Дуйте, сказывают, своим ходом до Тулуна, до пересыльной, значит, тюрьмы. А там вас добрые люди куда следует наладят.
– Это ж сколь идти? – изумился конюх не столько решению милицейского начальства, сколько неимоверной, по его разумению, сложности поставленной перед осужденными задачи. Не дождавшись ответа, убежденно сказал: – С голодухи подохнете!
– А сопроводиловка на что? – не согласился старик. – Во… читай… Положено ночлегом и едой какой ни на есть обеспечивать.
– Нету тут про еду, – растерянно сказал конюх, прочитав короткую бумагу, заверенную смазанной лиловой печатью и витиеватой подписью.
– Имеется в виду, – не согласился Федор Анисимович, забирая бумагу. – Мы теперь люди казенные, об нас мир заботиться должон. Не чеши, Степка, за ушами, проживем, жизнь наша переменная.
– Ты мне Степку не тронь, прокут старый! – не выдержав, закричала Надежда. – Чего с парнем-то исделал? Из-за тебя все, анкоголик недотепанный! Совесть-то у тебя есть? Не пущу с тобой! Что хотите со мной делайте, не пущу! Он его вовсе до конца доведет, вовсе тогда возврата не жди.
Федору Анисимовичу, хоть и чесался язык, подобающего ответа на ум так и не пришло. Слава богу, мужик, все еще сидевший на колоде, достал из-за голенища сапога еще одну бутылку и окликнул его:
– Дядя Федор, давай, что ль, со сроком. Много припаяли?
Федор Анисимович отозвался не сразу, повременил, словно был выбор, подошел, не торопясь взял протянутый стакан.
– Уважили старость да службу непорочную, – громко объявил он, поворотясь к односельчанам. – Уполовинили срок. Только и дали, что пять годков. Степке по малости лет да по глупости маленько помене…
– Ежели по глупости помене давать, тебя и вовсе без последствиев отпустить надо было, – не выдержала Дарья и, отобрав у разливальщика стакан, одним глотком осушила его.
Анисимович дождался, когда она сунула в рот картофелину, и снова оборотился к односельчанам:
– На всех инстанциях подробно объяснял: не троньте Степку, мой недогляд. Куда там. Не пожелали принять во внимание.
Он выпил водку и тяжело вздохнул. Мужик, у которого Дарья реквизировала приготовленную для употребления порцию, перед тем как хлебнуть прямо из бутылки, заинтересованно спросил:
– Так и подадитесь до казенной квартиры? В срок-то хоть зачтут?
– Чего ж не зачтут, – охотно отозвался старик. – Только особо нет смыслов тянуть. По всем расчетам за месяц с привеском должны объявиться на конечном пункте.
– Путь не малый, что и говорить, – посочувствовал кто-то из толпы.
– Теперь-то куда? – все еще не мог осмыслить случившееся охмелевший после второго стакана конюх.
– А до дому, – весело объяснил окончательно пришедший в себя Федор Анисимович. – В баньке отмокнем ото всех грехов, да и ходу. Слыхали, что начальник толковал? Заеду, говорит, узнаю, когда ушли. Колька-то Перфильев куда подался?
– В райком поехал за вас дуроломов просить, – уверенно заявила Дарья, стараясь, чтобы ее услышали сидевшие в стороне Надежда и Степан. – В первый раз его сегодня со всеми орденами разглядели. Точно в райком, больше вроде некуда.
Степан пил молоко и внимательно прислушивался к разговору. Надежда глядела на него и утирала концом платка слезы.
– Пустое дело, – махнул рукой Федор Анисимович. – Судья что говорит? Ладно бы пьяные не были. А раз пьяные, то могли, конечное дело, сахар замочить, а могли и пропить. Где, мол, деньги на водку брали? Докажи, что за пазухой вез, жизнь наша переменная. Как докажешь?
«Смешная история»
А приключилась вся эта дурацкая история, за которую теперь мужикам пришлось держать суровый ответ, в точности так, как не раз и не два рассказывал Федор Анисимович и председателю, и молоденькому следователю из соседнего района (своим до сих пор так и не обзавелись), и всем знакомым и незнакомым, кто интересовался, за какие такие грехи и растраты старика и, можно считать, еще совсем мальчишку поместили вдруг под такой серьезный надзор в крохотную милицейскую каталажку, неудачно пристроенную к райкомовской конюшне.
Лето 1946 года еще только начинало отсчитывать тогда свои первые, не сказать, что ненастные, но и не так чтобы изобильные солнечным теплом деньки, когда из района дали знать, что если срочно не получить со склада райпотребкооперации отпущенный под осенний заезд охотников в тайгу кое-какой провиант, в числе коего значились и те самые горемычные полтора мешка сахару – богатство почти бесценное по нищему послевоенному времени, – то через день-два можно будет и не беспокоиться насчет полноценного обретения отписанного. Дыр и прорех в обессиленном недавней войной районном хозяйстве было, как говорится, куда ни ткни, а потому полки и закрома склада опустошались с почти молниеносной быстротой по заказам, требованиям и просьбам одна неотложнее другой. А в «Светлом пути», как на грех, ни лошадей, ни кладовщика, которого всегда в таких случаях отправляли за получением. Лошадей, измотанных до костей только что закончившимся севом, отогнали на дальние выпаса в заречную тайгу. Колхозную полуторку еще неделю назад отправили на ремонт в МТС. Кладовщик же, решив воспользоваться предстоявшей в хозяйственных делах передышкой, отпросился в областной центр к дочери, от которой недавно пришла телеграмма о случившемся днями прибавлении семейства и о желании видеть новоявленного деда на гулянке по поводу возвращения из роддома. Тут и оказия подоспела в виде полудохлого тракторишки до дальнего леспромхоза, откуда баржой можно было сплавиться до Ангары. А там уж как повезет – пароходом или другой какой попутной холерой. В общем – ни кладовщика, ни лошадей. А подаваться следовало незамедлительно. Председатель за голову схватился – хоть пешком отправляйся. Так ведь восемнадцать километров не ближний свет. Да и не на горбу же переть мешки и ящики.
Федор Анисимович, позванный из кузни в правление в числе прочих помороковать над свалившейся на голову загвоздкой, чуть ли не с ходу предложил мигом принятый всеми выход – спустить на воду предназначенный для перевозки с островов накошенного сена карбас, спуститься на нем налегке до райцентра, загрузиться всем, чем положено, а обратно, не спеша, как и раньше велось, бечевой дотащить до деревни, где и передать доставленный товар под председательскую, до возвращения кладовщика, сохранность. А поскольку в кузне, по причине только что закончившегося сева и полного выполнения и перевыполнения поставленных на повестку дня задач, тоже обозначилась временная трудовая передышка, предложил Федор Анисимович в руководители карбаса себя, а в качестве тягловой и развлекающей дорожную скуку силы посоветовал – не без сомнений, впрочем, – своего помощника по кузне Степана. На том и порешили, радуясь удачному выходу из, казалось бы, безнадежного положения. Знать бы тогда, чем вся эта затея закончится…
Федор Анисимович вины с себя не снимал и никакими ссылками на случайности, рассохшийся от старости карбас и некстати разгулявшуюся дождливую непогодь не отговаривался, хотя и случайности, и все остальное вышеперечисленное было в полном наличии и сыграло, в конечном счете, свою решающую, можно даже сказать, роковую роль.
А началось все, если на первый взгляд рассуждать, с чистой случайности. Впрочем, Анисимович случайностью это признавать не желал. Более того, когда много позже старик вздумал всерьез поразмышлять над случившимся, то не иначе как заранее продуманным и вроде бы даже почему-то необходимым и неизбежным изворотом своей ранее незамысловатой судьбы не называл эту негаданную встречу.
Заглянули они со Степаном, можно сказать, совсем не по делу в сторожку при складе. И неожиданно в сидевшей на лавке у самого входа тамошней сторожихе Анисимович, не сразу, правда, признал еще перед прежней войной подавшуюся из деревни вместе со всем семейством деваху. То ли по нужде, то ли с надеждой на бог весть какую более складную и удачливую жизнь Мирошниковы снялись с насиженного места, и с тех пор не было от них ни слуху ни духу, пока кто-то, незадолго уже до следующей войны, не притартал1 из райцентра весть, что вроде узнали Григория, старшего сына из мирошниковского семейства, в тихом, старавшемся казаться неузнанном мужике, ожидавшем по большой воде у старенького дебаркадера оказии «в любую», как он с трудом выдавил из себя, «сторону, лишь бы подальше от этого сучьего, паскудами и придурками испоганенного места». Притартавшему эту весть не все поверили, а потом в начавшемся вскоре всенародном бедствии и вовсе не до судьбы бывших односельчан оказалось. У каждого свою долю понесло по кочкам, и неизвестно было, где и когда окончится этот страшный бег, да и окончится он когда-нибудь…
Когда-то горластая, развеселая, крепкая телом, но неподатливая на скорую любовь деваха, превратилась в толстую, болезненно неуклюжую бабу, испуганно взглядывавшую на засуетившегося Федора Анисимовича. Да и он ее, по правде, вряд ли признал, если бы не прежние ярко-синие, ничуть не выцветшие глаза, россыпь веснушек на щеках и шее, да взгляд исподлобья, прежде зазывно-веселый, насмешливый, а сейчас испуганно ускользающий, ни на чем и ни на ком долгое время не задерживающийся.
– Эхма! Марья Семеновна, жизнь наша переменная. Знал бы наперед, раскрыл бы рот. Были слухи, что вы где-то поблизости обитаетесь, а все руки-ноги не доходили конкретно поинтересоваться. По причине застарелого вдовства могли бы возникнуть серьезные намерения…
Он запутался не столько в словах, сколько в своих по подобному неожиданному поводу заторопившихся мыслях и, поворотясь к сгорбившемуся в низких дверях Степану, искренне подивился на то, что делает с людьми нелегкое и, несмотря на эту нелегкость, стремительно уносящееся в небытие время.
– Не образумлюсь никак с таких неожиданностей, Степан Ильич. Така девка была. Запоет – на том берегу пальники с веток валились от изумления. Я с-за нее чуть жизнь свою не покончил с огорчения по причине суки-разлуки, а теперь вот гляди… И сам с усам, и они без особого барыша, если по первому взгляду посудить. Вдовствуете, Марья Семеновна, или как?
– Всяко разно, – хрипло и не сразу отозвалась та и тяжело ворохнулась на грязной скамье. – А вас каким ветром?.. – Она хотела было назвать имя своего бывшего неудачливого ухажера, но оно напрочь вылетело из ее беднеющей памяти. Помолчав, старуха безнадежно махнула рукой: – Чего теперя говорить. Отпелась, откуковалась Мария Семеновна. И хуже могло быть, да некуда. Не та беда, что во двор зашла, а та, что со двора не идет.
– Наше дело: что же делать, ваше дело: как же быть, – не согласился невесть почему чуть ли не до нервного расстройства взбудораженный встречей Федор Анисимович. – Степка, дуй в магазин. Сообрази «сучок» и пряников с полкила. Держи вот… – он протянул Степану смятые тридцатирублевки.
Пока Степан по причине деревенской стеснительности убоявшийся поинтересоваться у немалой очереди, ожидавшей у магазина возможного подвоза хлебушка, не отоваривают ли водкой и пряниками безо всякого ожидания, проторчал перед раскрытыми настежь дверьми торговой точки не менее получаса, Федор Анисимович слово за слово выпытывал у неразговорчивой, то и дело оглядывавшейся на дверь сторожихи, незамысловатую историю год за годом опустошаемой жизни, в которой несчастья и потери с лихвой перевешивали горстку если и не счастливых, то хотя бы временно спокойных, не обремененных безнадегой и болями дней.
Родители Марьи сгинули в одночасье. Из ее односложных ответов Федор Анисимович так и не добился понятия, что за беда – болезнь или иное какое привычное для тех лет событие обрушилось на некогда крепкое трудолюбием, жизненной силой и неизбывным весельем семейство. Братья тоже попропали кто куда – ни весточек, ни следов не обозначилось и до сих пор. Подозревала Марья, что война ни одного из них не пощадила, если только гораздо раньше не снесли под корень их по-деревенски нерасторопные и глупые молодые жизни обстоятельства ничуть не менее страшные и безжалостные, чем захлебнувшаяся в крови безнадежная атака или методичная бомбежка неумело залегшей вдоль дороги колонны необстрелянного сибирского пополнения. О себе Марья поначалу и вовсе говорить не желала, отделываясь односложными «да не» или «ну», из которых неотвязный расспрашиватель так толком и не разобрал, когда и при каких обстоятельствах и в каких примерно направлениях затерялся на веки вечные ее первый, законным образом оформленный в мужья, расторопный, говорливый и работящий парень, фартовый охотник, один из первых в этих местах заводила не то соревнования по сверхплановой добыче «мягкого золота», не то движения в защиту «катастрофически редеющего пушного поголовья». О притулившемся к ней ненадолго перед самой войной сожителе Марья и вовсе слова не сказала, махнула только бессильно рукой – чего, мол, говорить о том, о чем и вспоминать никакой охоты не было. В последнее время она уже почти и не вспоминала болезненным чадом накатывающее пьяное неразборчивое бормотание, перемежаемое истеричными пьяными криками, боль от непонятно за что перепадающих побоев, похмельные слезы и животный страх перед неизбежным возвращением туда, откуда его невесть по какой счастливой случайности или ошибке вышвырнули, с правом проживать как можно дальше от тех мест, которые и во сне, и в пьяном бреду мерещились ему постоянно.
Беременела она несколько раз, но дети не держались, умирали в первые же месяцы, а то и дни своей еле теплившейся жизни. И до сих пор ей было невдомек – ее ли или иная какая вина обрывала чистое детское дыхание каждый раз прямо у нее на руках, из которых она подолгу потом не хотела выпускать остывающее, невыносимо хрупкое и почти невесомое детское тельце.
– В другом разе в голову придет: может, и слава богу, что так-то все с имя?
– Это вы об чем, насчет бога, Марья Семеновна? – не понял старик и снова попытался заглянуть в глаза упорно смотревшей в сторону собеседницы. Поскольку та молчала, решил осторожно изложить только что пришедшее в голову рассуждение: – Лично у меня такое соображение, что этот самый бог или что там еще, ежели имеется, длительное время в полной растерянности и даже недоумении находится. По причине всего на свете происходящего. А потому отношения к этой нашей переменной во всех направлениях жизни не имеет. Или не желает иметь, как я понимаю, что более соответствует.
– Слава богу… – словно не слыша его, продолжала женщина, и в ее хриплом голосе явно обозначились не то слезы, не то сорвавшееся от волнения дыхание. – …Что померли мои детки, слава богу, говорю. Зачем им это? Разве выдержишь? Мужику каленому не выдержать, в головешку свернется. А детки светлые, легонькие… Волосики, как пушок. Дыхнешь – они шевелятся, шевелятся…
Федор Анисимович от этих ее слов не то чтобы растерялся или не понял чего, а просто с мгновенной, самого его испугавшей прозорливостью, вдруг не то нутром, не то тем, что раньше называли душой, догадался, что еще и году, пожалуй, не минет, как сойдет на нет эта, давно потерявшая опору и не имеющая возможности хоть за что-то зацепиться в своем медленном скольжении к небытию, жизнь. И ему вдруг неизвестно отчего показалось, что именно у него, тоже одинокого, безо всякой семейной опоры прозябающего на этом свете некорыстного и незлого человека, может отыскаться невеликое, но вполне достаточное для недолгого сугреву количество тепла и заботы, которое могло бы помочь этой почти умершей женщине удержаться в окончательном отречении от того страшного мира, в котором она, как ни старалась, но так и не смогла отыскать ни участия, ни счастья.
– Значит так, товарищ Мария, бывшая гражданка Мирошникова… Извиняйте, не знаю вашей на настоящий текущий момент фамилии. Постановление общего собрания будет такое… Прошу занести в протокол и не забывать из виду. Эх, знал бы наперед, раскрыл бы рот. А поскольку жизнь наша полностью переменная, то из беды не за бедой бежать, а маленько отдышаться требуется и в себя по возможности сил прийти. Я что в настоящий момент на полном серьезе излагаю и прошу такое же полное, по возможности, внимание проявить. Дом-пятистенка, если еще помните по бывшему соседству, в полной сохранности. Картошка и всякая там чепухня по нонешней погоде дуром прет. Корову или телку, если приложить соответствующее усердие и объединить возможные сбережения, тоже, это самое… Вполне даже вероятно… По нонешнему времени можно не помереть, а очень даже наплевать на всякие там… Мало ли чего у кого сейчас в жизни. Горе подсчитывать – вовсе от него не отцепишься. А если насчет переезду какие трудности или сомнения, это дело полностью несущественно.
Мария на всю эту сбивчивую и торопливую словесную трескотню поначалу ровным счетом никак не реагировала. То есть абсолютно. Сидела, безучастно глядя себе под ноги, и только опухшие ее руки с какой-то излишней тщательностью разглаживали на коленях выцветший ситец старой, чуть ли не до пят юбки, которую даже в настоящее бестоварное время не каждая бы старуха на себя надела. Федор Анисимович даже засомневался – слышала ли она вообще его запутанное и неожиданное предложение. И потому, помолчав немного, снова сунулся с уговорами.
– Ежели сумнения насчет характеру и всего остального, чтобы, значит, насчет семейного спокойствия и безопасности – понятное дело, обжегшись, на сырую воду дуют, – то в деревне вам, Марья Семеновна, каждый подтверждение выдаст, что дядя Федор Щапов, хотя отчасти жизнью переменной покалеченный и здоровья, можно сказать, половинного, по причине чего был отстранен от воинской повинности на отечественных фронтах, пальцем в своей жизни никого не трогал и трогать не собирается. Выпить, конечно, могу, но исключительно в подходящей компании и исключительно по уважительной народом причине. Ну а детки, поскольку речь была… У меня, положим, их тоже не осуществилось. И ничего тут уже не поделаешь. Не та беда, что во ржи лебеда, а то беды, что ни ржи, ни лебеды. В настоящий момент в голову приходит, как бы все могло ловко сложиться, если бы тогда еще спохватиться. До вашего непонятного отъезду. – Он помолчал немного, затем осторожно поинтересовался: – Какое вы насчет этого всего соображение имеете, Марья Семеновна?
Та наконец словно очнулась от сумеречного беспамятства, удивленно глянула на беспокойно ерзавшего Федора Анисимовича, нахмурилась, с усилием восстанавливая в памяти смысл только что услышанных слов. Видимо, суть их так и не сложилась для нее в то очень понятное и простое предложение, которое, по своему обычаю, старик запутал ненужными торопливыми словами, и она неожиданно поняла их, как ехидную похвальбу счастливо сложившейся жизнью перед ее совершенно не сложившейся и теперь уже неисправимо заканчивающейся. Ну а последний намек на то, что все могло сложиться иначе, будь она в то дальнее-дальнее время посговорчивее и подальновиднее, резанул ее по сердцу той вроде бы правдой, которая на самом деле правдой быть не могла, потому что не случилась и потому что, как это ни странно, но ни разу, сколь немилостива ни была к ней судьба, ни разу в жизни не пожалела она о том, что когда-то насмешливо отклонила несмелое предложение рыжего нескладного парня поехать с ним с ночевой на ближнюю заимку. Да что там – ни разу она не вспоминала ни о нем, ни о его предложении.
А тут еще, споткнувшись о высокий порог, ввалился Степка и, ни слова не говоря, брякнул на шаткий стол бутылку и рассыпавшиеся из ветхого газетного кулька закаменевшие мятные пряники.
– Чего бог не нашлет, того и человек не понесет, – сказала она неожиданно сильным молодым голосом.
После долгого молчания, во время которого никто даже не шевельнулся, Федор Анисимович осторожно спросил:
– Возражениев, конечно, не имеется, все так и получается. Желательно только… Как бы это… В голову чего только не придет, когда понятия ясного не имеется. Я, Степан Ильич, – поворотился он за поддержкой к Степке, – в настоящий момент, может быть, всю свою дальнейшую жизнь решаю. Поскольку Марья Семеновна бесповоротно должна объявить… Решайте, Марья Семеновна, чтобы окончательно. Поскольку так проживать, как вы в настоящий момент, не имеет никакого, можно сказать, политического и прочего смысла.
Степка, приоткрыв рот, медленно опустился на лавку и, ничего не понимая, переводил взгляд с дяди Федора на грязную, как ему сразу показалось, неуклюжую и явно больную, не в себе, старуху, которая вдруг потянулась за стоявшей в углу за дверью винтовкой, неумело, по-бабьи перехватила ее поперек и полукругом повела стволом, обозначая путь к незакрытой двери.