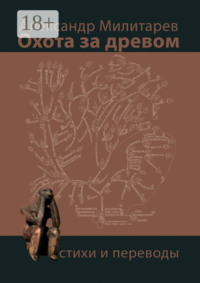Loe raamatut: «Охота за древом. Стихи и переводы»
Любимой тетушке Зайке,
заставившей меня собрать
и опубликовать эту книгу
© Александр Милитарев, 2017
ISBN 978-5-4490-1445-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

С сыном в доме Эдгара По в Бронксе
Об авторе
Александр Юрьевич Милитарев (род. в 1943 г.) – лингвист-компаративист, представитель Московской школы дальнего языкового родства, ученик и соавтор И.М.Дьяконова и С.А.Старостина, один из авторов этимологического словаря семитских языков, автор нескольких книг, ряда популярных и полутора сотен научных статей по языкам и культурам Ближнего Востока, Северной Африки и Канарских островов, по применению лингвистических методов в реконструкции этнокультурной истории, разработке единого генеалогического древа языков мира, библеистике, еврейскому феномену в истории. Доктор филологических наук, профессор-консультант кафедры истории и филологии Древнего Востока Института восточных культур и античности РГГУ, многолетний участник российско-американского проекта «Эволюция человеческих языков» в Институте Санта Фе (Нью-Мексико). Читал лекции во многих университетах Европы, США и Израиля. Переводчик поэзии с английского (в частности, сонетов Шекспира, опубликованных в Литературных памятниках. М., 2016) и испанского. Автор книг «Стихи и переводы» (Наталис, М., 2001) и «Homo tardus (Поздний человек)» (Критерион, М., 2009)1.
Краткое авторское предисловие
Я давно вышел из того – признаюсь, затянувшегося – возраста, когда сильна иллюзия своими руками и головой заметно изменить к лучшему мир (страну, город, отношения между людьми, et cetera) или, скажем, внести нетленный вклад в науку (культуру, литературу, открытие иноязычной поэзии и т.п.). Omnia transeunt… Предлежащий сборник я составил из груды опубликованных, неопубликованных и начерканных на подвернувшихся поверхностях стихов и переводов почти за шестьдесят лет из своей неожиданно долгой жизни с главной целью: когда сын-подросток и юная внучка, а то и их – мое – потомство войдут в возраст пробуждающегося интереса к своим предкам, к своему древу, для них будет открыта возможность путем заглядывания в эту книгу что-то, не лежащее на поверхности, про данного предка узнать, а, может, и понять. Поэтому, кроме кондиционных стихов и переводов, я и напихал сюда все накопившееся – от юбилейных посвящений и юношеских стишков до вольных переводов и откликов коллег и друзей. Если что-то из написанного покажется еще кому-то интересным, хорошо. Но для меня это не особо важно.
Автор благодарен за дружескую помощь Елене Бернштейн (в форматировании книги) и Марине Готсбан, Ирине Лившиц и Савве Митуричу (дизайн и оформление обложки).
«Открытье требует отрытья…»
Открытье требует отрытья,
а память вкрадчива как крот.
Уже назначен час отплытья,
уже не время для острот,
уже отринуты советы,
придушен стропами багаж:
словарь, будильник, пистолеты
и пара ношеных гамаш,
галет сундук, воды канистра
да спирт, начало всех начал,
и надо, не прощаясь, быстро
взойти на брошенный причал,
отдать концы, смотать швартовы,
поднять под днищем якоря,
чтоб вдруг понять, что все готово
и про отбой мечталось зря,
что брошен лот и нет возврата,
и продолженью не бывать,
а если брат пошел на брата,
здесь просто не с кем воевать.
Так, значит, надо отправляться
в совсем неведомый маршрут
и ничему не удивляться —
там будет все не так, как тут.
Так, значит, в путь! А птицу-веру
в то, что вернуться суждено,
под птичье слово утром серым
по сквозняку пустить в окно.
(1960—2002, Москва)
Из книги «Стихи и переводы»
Сонеты
«За все, чем жил, чем жив, благодарю…»
1.
За все, чем жил, чем жив, благодарю:
за кров и кровь, за притчу и за пищу,
за пирров пир, за крезов короб нищий,
за власть и казнь, приставшие царю.
Твоих даров уже не раздарю,
не разорю спаленного жилища —
под черным перегноем пепелища
пущу росток и лягу ждать зарю.
Но клонятся календы к ноябрю —
негодный срок для сева и для тризны:
голодная, неплодная страда.
И белыми губами говорю
слова любви, ни слова укоризны:
не даждь зерну умрети без плода.
(1983)
«Не научились даже умирать …»
4.
Не научились даже умирать —
oтбыв свое, откланяться прилично.
Уходит жизнь. Как зло. Как непривычно.
Как тать в ночи. Как тать в ночи. Как тать.
А думали, что рождены летать!
Что куплены баландой чечевичной
свобода и ангажемент столичный.
Но сорок – срок. Не век его мотать.
И предкам нашим проданным под стать,
в судьбу не веря и беды не чуя,
живем, покуда чуть не на виду
напитанную вермутом звезду2
трубой воззвав, невидимая рать
последнюю готовит аллилуйю.
(май 1986)
«Не меден как грошик и щит …»
5.
Не меден как грошик и щит —
сентябрь невозможно серебрян.
Варьянтов набор не перебран,
оркестрик аллегро бренчит.
А кровь еще в меру горчит,
По-царски питая церебрум,
и кожа неломаным ребрам
еще из надежных защит.
Отмерено было сполна
мне нежности женской и детской,
беседы мужской и труда,
но чаша пита не до дна
египетской, царской, стрелецкой,
и благо не ведать – когда.
(сентябрь 1986)
«Песок застлал руины Йерихона…»
7.
Песок застлал руины Йерихона.
Я быть устал. Страна моя пуста —
потоптана конями фараона,
по горло морем красным залита.
С обломков стен глядят как бы с холста
глаза родных на своего Харона.
Последний бык горящего моста,
я ухожу, паромщик похоронный.
На западе – Сахары рыжий дым
и белые фантомы гор Хоггара.
Зачем меня, прожженным и седым,
и в этот раз выносишь из пожара?
Но вновь почти не различим ответ:
народ… песок морской… на склоне лет.
(1990)
«Прекрасной Франции холмы…»
8.
Илье Смирнову
Прекрасной Франции холмы
ломают линию долин,
и птиц грассирующий клин
в табличке неба – знак зимы.
Здесь пляшут белые дымы
над кровлей из карминных глин
и жизни ток неодолим,
но на Востоке смертны мы.
О, этот птичий говорок,
обычай местных недотрог
благоволить, скользя!
Водой бы влиться в водосток,
но за спиной горит Восток,
и не уйти нельзя.
(1992)
«Мне мало дня – переползти висячий…»
10.
Мне мало дня – переползти висячий
мост. Над провалом времени вися,
чье чрево поло, вижу: сзади вся
окрестность поросла травой удачи,
посохшей, ставшей сеном, сном. Тем паче
назад, где наспех, вкривь и вкось кося,
прошла красотка с бельмами, нельзя
коситься, как и вниз, в пролет – иначе
до ночи не дойти, и темнота,
раскачивая колыбель моста,
добьется реверсивного эффекта,
и переход когда-то — никогда
зальет по темя темная вода,
и в тень одну войдут никто и некто.
(1992)
Два сонета из венка
* * *
11.
Металличен аттический рок,
безразличен актер и теоним —
тот, кем бесов сомненья изгоним,
заготовленных автором впрок.
Третий акт доиграется в срок,
режиссер – знаменитый аноним.
Текст домямлим, героев схороним
и нашарим в штанах номерок.
Но на вечность закрыт гардероб,
альфа театра и жизни омега —
золотое сгинело руно.
Размозжить напоследок бы лоб,
да окутала ватная нега —
в чаше черепа сладко вино.
«В чаше черепа сладко вино…»
12.
В чаше черепа сладко вино.
Пей же, нежная, пей, Маргарита:
жребий брошен, срамное обрито
и смешное забыто давно.
Что недодано, будет дано,
где схоронено, будет разрыто,
а топтаться не нам у корыта:
чрево сыто и сердце полно.
Под юпитером всяк – королева,
но не здешних лесов наше древо,
так не бойся, не верь, не проси,
ты вещунья, невежда, невеста.
А конец, он един на Руси —
кол осинный в причинное место.
(1992)
«Вот я, Аврам. Я выйду ночью рано…»
13.
Вот я, Аврам. Я выйду ночью рано,
покуда Иштар3 светится во мгле.
Под тенью пальм сладка вода Харрана4,
но я – арам5, кочевник на земле.
Печать зари затрет твой путь, Инанна6:
он кругл и вечен и застыл во зле.
Но мед и млеко в реках Кенаана7
текут наверх как новый сок в стволе.
Мой дед Адам был выгнан из Эдема,
Терах8, отец, ушел из Ура9 сам.
Не вижу, кто меня позвал в дорогу.
Но это был не междуречный демон,
чей голос был бы слышен только там.
Тот зов шел от неведомого Бога.
(1998)
«Я – ИсраэльИсраэлькудурру. Я не боролся с Богом…»
14.
Я – Исраэль10. Я не боролся с Богом.
Писец-потомок из имен извлек
событий смысл, которых знать не мог
(он был поэтом и этимологом).
Я ночь как пес провел перед порогом
взбесившейся речушки Яаво́к.
Я – Яако́в11, что значит «Бог сберег».
Тот был силач, но я уперся рогом.
Он не хотел пускать меня туда,
где мой народ, кому я имя дал,
таился за рекой и смерти ждал,
как после, как в Исходе, как всегда.
Сил Сильного хватило до утра.
И вброд я вышел – с вывихом бедра.
(1999)
«век бродячей собаки недолог…»
16.
век бродячей собаки недолог
дать ответ не успеть на семь бед
докажи им немой что не волк
выблюй хищник кровавый навет
за кормежку за вывод на свет
благодарствуй великий кинолог
только руку лизать нам не след
дом он пахнет иначе чем долг
а что суки щенятся в краю
где так много бездомного зверя
что задешево здешнее мыло
так за это в собачьем раю
где у дома не заперты двери
нам ведь скажут зачем это было
(январь 1998 – январь 1999)
Из цикла «Одиссея»
«Последние метры в проливе сирен…»
Последние метры в проливе сирен,
последней агонии стон,
и если канат
не удержит колен,
я буду на дне погребен.
Глухая команда пьяна без вина,
и семеро виснут на мне,
об мачтовый кедр разбита спина,
а голос поет в тишине.
А голос про хаос извечный поет,
про то, как седой океан
в объятиях душит лазоревый свод,
безбрежен, безумен и пьян.
И водную бездну вздымая до звезд,
ревет он, вселенский Силен,
и рушится навзничь,
невинен и прост,
и дремлет под пенье сирен.
Хвостатые девки не краше, чем псы,
и мне ль их пугаться рулад?
Но хаос, но хаос,
гармонии сын,
я раб твой,
я враг твой
и брат.
И зов этот бешен,
и вечен наш бой
как вечны свобода и плен!
Завяз я навеки
во мзге голубой,
в проклятом
проливе
сирен.
(1990)
«Гони женихов, Пенелопа!..»
Гони женихов, Пенелопа!
Скажи им, что ты не одна,
что будет для буйного скопа
последнею эта война.
Рукою, привычною к стилю,
рулю и тугой тетиве,
легко я их, нежных, осилю
ослабших от страсти к тебе.
Мне тошно, что меч обагрится —
самим бы умерить им прыть,
мне жаль, что покроют их лица,
что мне своего не открыть.
Грози им копьем Телемаха —
игрушечным детским копьем:
стрелу, долгожданную сваху,
мы пустим с мальчонкой вдвоем.
Я встану за белой колонной,
мне лук Одиссеев – трава.
Не слушай, царица, их стоны,
ведь смерть не бывает права.
Я знаю, что некуда деться,
что местью питается честь!
Но разве не трогали сердце
их грубые шутки и лесть?
И совесть не жгли ли, царица,
угрюмые взоры раба?
Ну что ж, им воздастся сторицей,
а бабья природа слаба…
Так стоит ли плакать: за что же
то пламя безжалостный рок
на вдовьем соломенном ложе
моею рукою разжег?
Не ведома ль гордой царице
натуры над разумом власть?
Так лучше огню покориться,
чем жертвою оводов пасть.
Поправь же, хозяйка, доспехи
под рваной рубахой раба:
уж скоро начало потехи
протрубит царева труба.
Ворота спиною закрою
и лук напрягу до конца,
и потом смертельного боя
пахнет по покоям дворца.
Пусть залы заляпаны кровью,
прорублены шлем и броня,
не лучше ль заняться любовью?
Война утомляет меня.
К рассвету дворец опустеет
от шумных докучных гостей.
Но слушай… на ложе Цирцеи
проснулся твой муж, Одиссей.
(1989)
Разное
«Помнишь…»
Помнишь:
безумство сирени
в майский ворованный час,
пальцы твои и колени,
губы, свечение глаз.
Алые сполохи страсти
с мерным рефреном разлук,
трепетной цели во власти
тела натянутый лук.
Бледные зори прощаний,
поздних объятий беда,
горечь немых обещаний,
что никогда… никогда…
Слово – молчания проще,
слабый кивок головы,
судеб невидимый росчерк,
вписанный в темень травы.
(1989)
«Боинг курс спрямил на Канары…»
Боинг курс спрямил на Канары,
вмерз я в кресло, не мертв, не жив.
Все же я не такой уж старый —
не старее, чем Вечный Жид.
А когда небеса гуанчей12
этот облачный дым, тигот13,
был пронзен – но не мигом раньше! —
мне открылось скопленье вод.
С вышины, меж спиралей пены,
над пучиной чужой судьбы
я следил Острова Блаженных14,
восстающие из синевы.
Тенерифе, Ченерфе, Чинет!15
Я две эры тебя искал,
средь задохшихся слов покинут
как среди твоих голых скал.
Все воронки твоих барранко16
зорким вороном разгляжу,
давней распри гадючью ранку
на груди твоей залижу.
Спят герои твои, сокрыты
в черных дырах годов и гор.
Что ж таить на меня обиды?
Я – печальный конкистадор.
И сейчас здесь иное племя17 —
золотая пора плодов!
Разве род их не зачат теми,
кто родился от ваших вдов?
Хоть не верю я в байки эти
об испанской Большой Резне,
только клялся мне попгенетик:
ваших генов в крови их нет.
Значит, всех унесла зараза18:
был к вам бог ваш, Акоран19, крут.
Врет про смысл богослов-пролаза,
и бездарен бытийный круг.
…Вот и скрылись снега Ла Тейде20.
В кафкин китеж лечу – домой!
Мне б портвейну фугас
и к Фрейду:
залечил бы мне комплекс мой.
(1993, Тенерифе—Мадрид—Москва)
«Невероятна Барселона…»
Невероятна Барселона,
ее красоты не забыть.
Жизнь, как цветок, растет из лона,
и тянет быть, а не не быть.
От моря тянется Ла Рамбла —
такой здесь на сердце уют!
Вы не поверите, но там для
народа птичек продают.
И их не гонят и не губят —
ни тварь летучую, ни вас.
Там люди спеть и выпить любят
под каталанский перепляс.
Там даже мусор не отвратный —
его Шанелью душат, что ль?
Но резко хочется обратно:
пожить – о да! А жить – уволь.
И эта дурь необъяснима —
всем Каталунья хороша…
А что же жизнь? – Проплыла мимо,
и плоть живучей, чем душа.
(1993)
Из книги «Homo tardus»
(«Поздний человек»)
«Поэту нищенство – венок…»
Памяти Осипа Эмильевича Мандельштама
Поэту нищенство – венок,
его словарь – сума да милость,
ему не так постыла стылость
земли под плоскостопьем ног.
И прободенный язвой бок,
и плоть, что над трубой дымилась —
все облачится в слог, как в милоть21,
но речь простую слышит Бог.
Остались: астма, чернь дорог,
червь в сердце, смерчи пересылок,
барак, утрата веры в рок,
ночь, пламя, босховские рыла,
расплевка с музой, бред, могила —
чтоб столь кристален был итог.
(1983)
«Я не пошел в Севилье на корриду…»
Сереже Старостину
Я не пошел в Севилье на корриду,
хоть мясо ем (и выпить не дурак;
был бит и сам не сторонился драк —
с годами, впрочем, забывал обиду).
Тореро, стой! не упускай из виду:
бык не партнер по зрелищу, а враг.
Смешно от смерти пятиться как рак
(а верить в рай – как сплавать в Атлантиду).
Но резать скот – не наше ремесло.
Да что нам надо? Нам немного надо:
успеть прожить, удерживая зверя.
А если что-то делаем назло,
прости, отец, покинутое чадо —
так трудно помнить о тебе, не веря.
(1998)
Из цикла «Филология»
Стихи о русской поэзии ушедшего века
Поэтов русских высота,
полет – стены отвесней,
и тень погнутого креста
над лебединой песней.
(из юношеских стихов)
Аське
Стихи – бесстыдное занятье
людей, стыдливых до забав,
кому невместно скинуть платье
при всех, хоть в койке у шалав.
Ах, что судьба! Судьба – индейка,
рифмовок кармовая клеть.
А вот свобода-иудейка
в том, чтоб и стыд преодолеть.
Не со стыда ли брили пейсы
и оба Оси, и Борис?
(Ведь только с геном эритрейца
легко ходить на снежность риз.)
Чего уж говорить о дамах!
В слезах проходят, обе две:
ну как задрать подол до самых…,
как век стоять на голове?
Как доносить стихотворенье
под сердцем, черным от растрав?
Одной – петля, другой – старенье.
О, Боже правый, ты не прав.
Да, об эпохе, жизни, лямке
что говорить? Ну, не свезло.
А что никто не вышел в дамки,
так это было западло.
Вон: агнцем по волчарне рыща,
звеньев опущенных кузнец,
поэтов царь, надменный нищий —
ведь доигрался, наконец.
Другой, запрятавшись беспечно
в природу, в переводы, в тень,
решил: мне жизнь – сестра навечно.
Что он скопил про черный день?
(Лишь самый младший был везучий —
бежал он, ободрав бока.
Но горше нет его созвучий,
и невский лед его строка.)
А в след колес, из-под турусов
влетев, поспел ли, как в кино,
с тураевской шпаргалкой Брюсов
сыграть в кровавом казино?
И сквозь слезу не зрит ли око:
сокрытой камерой заснят,
над неподвижным ликом Блока
болотный венчик бесенят?
А председатель угорелый,
дерзнувший оструктурить бред?
А симулянт безумья белый?
От всех остался красный след.
А долговязый возмутитель?
Все до плеча, всё по плечу:
я – новой жизни возвеститель!
я рифмы бритвою точу!
А визави его кудрявый,
любимец муз, хлыстов и баб,
и наше всё догнавший славой?
Как все, он оказался слаб.
Вот если б из-под пули выжил
последний рыцарь, дивный враль,
когда б потомком не унижен
да пожил – вот кого бы в рай!
Но формула неотменима:
направо – потеряешь честь,
налево – ум, а прямо – мимо
судьбы, к стихам, что ни прочесть,
ни переврать не будет шанса
у интернетова писца
(и нобелевского венца
в дурном изводе иностранца
не схлопотать, а до конца
рядиться в тельник голодранца).
Поэтому легко поэту —
шпарь, не заботясь о судьбе!
у ней засолены ответы.
Но надо стыд убить в себе.
Мы алчем ласки муз? Не верьте:
мы озабочены лишь тем,
чтоб снять табу еще до смерти
с запретных рифм, с заветных тем.
(2002, Бердянск)
В файл «Альбом.doc»
«Я десять лет не понимая…»
Я десять лет не понимая
тлел не горел
я был слепой а ты немая
и вот прозрел
я думал он с годами высох
в душе тот след
и рифм на адрес хмурых лысых
не пишут нет
глаза мне застил мутный фокус
былых грехов
но катаракту съела окись
твоих стихов
и вот пишу по паутине
из-за морей
и размышляю о причине
зачем еврей
спешу вернуться в край любимый
мной не тобой
с его шальной невыносимой
родной судьбой
зачем ныряю в этот морок
сплав без плота
где жизнь ни в грош покой не дорог
все маета
зачем готов чем ближе к точке
жить за тире
когда весь банк давно на бочке
опять в игре
согреть в горсти и бросить кости
на новый кон
и вновь спешить домой как в гости
допить флакон
я возвращаюсь возвращаюсь
delete печаль
экран тускнеет тьма прощаюсь.
К утру встречай.
(2002, Санта Фе – Альбукерке)
«Твоим стихам, написанным не рано…»
Твоим стихам, написанным не рано,
пролившимся как солнце из тумана,
как кровь из вены,
твоим стихам, посеянным в молчаньи,
расцвеченным палитрой увяданья,
мазками тлена,
твоим стихам, бессильным как моленье,
как заговор от боли и забвенья,
я знаю цену.
(2002)
Бывший экспромт
«Постмодернизм – дедок попсы…»
Постмодернизм – дедок попсы.
Он схож с искусством без обмана
как онанизм через трусы
схож с ночью страсти в пик романа.
Коль смысл смешон, а жизнь – копейка
и под луной всяк акт – не нов,
сподручней руки греть с ремейка,
не вынимая из штанов.
(2003)
«Поэтике мешает этика…»
Поэтике мешает этика,
а этике мешает жизнь.
Попробуй, поживи на свете-ка
и неподсудным окажись.
А здесь, где rusica-sovetica
в костер плеснет то кровь, то шизь,
как ни зверька, ни человечека
не оттолкнуть, хоть размозжись?
Как экзистню до экзистенции
поднять, презрев и стыд, и быт,
когда по лавкам дети спят?
Так:
в убывающей каденции,
когда заранее убит,
встать – и копье метнуть в распад.
(2007)
«От постмодернистской оттяжки…»
Вяч. Вс. Иванову – по прочтении его
брошюры «Наука о человеке. Введение
в современную антропологию»
(курс лекций). М., 2004
От постмодернистской оттяжки
как бомж от кутюр далеки,
замшелы как наши замашки,
нечитаны наши стихи.
Нам срока отпущено мало —
его не хватает всегда,
и еле видна из подвала
мельчайшая наша звезда.
Порой нам смешна наша вера
в непознанный императив
и в то, что взойдет ноосфера,
вселенную смыслом снабдив.
Но бельма нацеля слепые
и цель без промашки разя,
куражится мать энтропия,
и брать отпускные нельзя.
Не считано, сколько осталось
в жидеющих наших рядах
и сколько придет – эту малость
восполнить в грядущих родах.
Завидуя релятивистам,
заведуя только собой,
мы с тихим отчетливым свистом
ведем свой расчетливый бой,
рассчитанный на неудачу,
заложенный на неуспех.
А славы подкупим на сдачу
с бессмертья.
Там хватит на всех.
(2007, Москва—Бронкс)
Детям
«Наденька, ветчинку, будь добга, сюда.
А хлеб – детям, детям!»
(из Ленинианы)
Написана масса на свете
всего о страстях роковых,
но чувства, что будят в нас дети,
прочней и светлей половых.
Я не о подросших – о детях,
о малых, всамделишных, сих,
о тех, за кого мы в ответе
из-за беззащитности их.
Любой романтической дури,
любому оттенку страстей
дань отдана в литературе,
но мало в ней видно детей.
Самца соразмерного поиск
забот материнских первей.
Ложатся под дрянь и под поезд
дурехи всех стран и кровей.
Любовь, с феромона балдея,
делить норовят на двоих
(одна проявила Медея
заботу о детях своих).
Как доблесть воспетая ревность —
на деле сплошной эгоизм,
ползущий в дремучую древность
хвостатый такой атавизм.
Эмоций возвышенных маску
с той ревности снять – а под ней
узришь скопидомскую тряску
купца над кубышкой своей.
А эти – мессиры да доны,
кому что алтарь, что альков,
сей орден Святого Гормона,
что враз причаститься готов
всей дамскою плотью наличной.
А первым чтоб прыгнуть в кровать,
привычно и даже прилично
подельнику глотку порвать.
И ладно махалось когда бы
друг с дружкою это урло,
но Трою урыть из-за бабы?
А сколько народу легло!
Но светел иною любовью
кто ею живет или жил:
с детьми мы повязаны кровью,
что в жилах течет – не из жил.
Пленительно женское тело
(про душу молчу уже я),
и слиться с ним – милое дело,
а все же не смысл бытия.
Но данного тела приметы
у всех на слуху и виду —
ваганты, гриоты, поэты
в одну только дуют дуду.
Подчас и тончайшим из этих
жрецов Купидона и муз,
уж если и вспомнят о детях,
то лира изменит, то вкус.
В безмерном Шекспира наследстве
сюжета заметнее нет
о чуде природы, о детстве,
чем страсти с тринадцати лет.
За знание женской натуры
Толстому хвала и почет:
скок, Анна, под поезд! Амуры
закончились. Дети не в счет.
А есть ли манерней у Блока
стихи, где он смерть описал
ребенка в бесчувственных строках
про карлу, что вылез к часам?
И в средневековом искусстве
не сыщешь детей днем с огнем.
Там все о младенце Иисусе,
о детстве – так, значит, о нем.
В смущеньи смотрю я на эти
причуды великих людей —
как будто бы нету на свете
родительских чувств и детей.
Без них, обрастая коростой,
стать может культура сплошной
игрою жестокою взрослой
по правилам зоны блатной.
Но, может, у предков безличен
инстинкт этот был, как у рыб,
и был он к малькам безразличен,
наш вид, до недавней поры?
Условны морали основы,
и нечего душу томить,
и легче родить было новых,
чем этих, чумазых, отмыть.
Отсев шел в процентах, и снова
бах-трах! и рожали подряд.
Детей, вон, сменили Иову,
а он оклемался и рад!
Во время, наверное, о́но
и мать что кукушка была!
Вон, та – на суде Соломона
ребенка другой отдала.
Детей, верно, меньше любили —
обратно количеству их.
…Но нет утешенья Рахили,
что плачет о детях своих…
(В наш век, правда, в обществе стала
забота о детях расти,
но это все – мир капитала:
с тем миром нам не по пути.
Особый наш путь. И родимых
сироток, приютскую голь,
мы ценим и не отдадим их
во вражьих объятий юдоль.
Осу́ждена нашим народом
и думой клеймлена навек
поганого Запада мода
на детушек наших калек.
Детей – наши фьючерсы – все мы,
встав в строй, не дадим отнимать!
Но я отклонился от темы,
чуть вспомнилась родина-мать).
Мир скроен не с детского сада,
и нюни к чему разводить?
Но лирою к детям бы надо
чувств добрых побольше будить.
Мне скажет сосед-культуролог:
«Ты эти кунштюки забудь!
Сам знаешь, извилист и долог
прогресса культурного путь.
У каждой науки свой метод,
и в область специальную лезть
с профанным подходом, как этот,
тебе, брат, не делает честь».
Напомнит про школы и стили,
про смену и связь парадигм
(ну, что-то и мы проходили,
хоть это давно позади).
Интертекстуальность отметит,
к большим отошлет именам.
«А смерть, там, любовь или дети,
так это, прости уж, не к нам.
И жизнью поверить культуру
нельзя – там другой алгоритм,
а тот, кто не верит в структуру,
пусть пламенем синим горит.
И дискурс твой контрпродуктивен,
пусть даже как творческий ход».
О Боже, зачем мне противен
родимый научный подход?
Когда ты на собственной шкуре
проверишь, что жизни – в обрез,
к вояжам, науке, культуре
слабеет былой интерес.
Любви разнополой терзанья
(с другой я, пардон, не знаком)
уходят – приходит сознанье,
что главное в чем-то другом.
Становятся брачные узы
у многих с годами, увы,
привычкой, рутиной, обузой
и тянутся из головы.
И только одно остается —
смех детский и жалобный плач.
От них только сердце забьется,
а горечь былых неудач
и мелких удач эйфория
уйдут вместе с пеной страстей.
И жизнь удалась бы, умри я
без страха за судьбы детей.
(июль-август 2008, Бронкс)