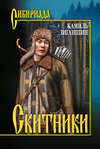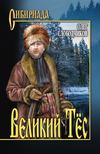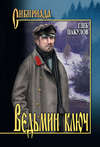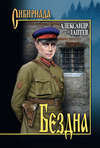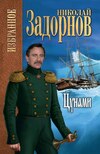Loe raamatut: «Князь-раб. Том 1: Азъ грѣшный», lehekülg 3
Не безродного предводителя войска послал китайский богдыхан император Канси, чтобы отнять у русских Аргунский острог. Послан был именитый маньчжур, четвертый сановник в государстве! Но «пришед к месту» и, как гласит летопись, «увидя русских людей житье доброе и поревновав тому житию», вернулся воин в Китай, велел женам и детям и всему роду своему сбираться в путь. Полтысячи человек привел он с собой в русские пределы. Чего только ни предпринимал богдыхан, чтобы вернуть утеклеца: сулил место третьего сановника, слал подарки, войско, наконец, за ним посылал. И даже был такой козырь у маньчжурской стороны на нерчинских переговорах, когда было сказано Федору Головину посланниками цинского правителя Сонготоу, Дунгувеганом и Лантенем: «Верните перебежчика. Наш он». На такое требование русский посол Головин ответил, ерничая: «Это того, который четыре года назад принял православный Христов закон и теперь зовется Петром? Дак его уж нет, помер в Нарыме. А вот сын его, тот и до Москвы дошел, и в дворянское звание пожалован, занесен в книгу по Московскому списку. Теперь он князем Павлом Гантимуровым, сыном Петровым зовется. Царь его подарками жаловал да, с Москвы отпуская, наказал: вернешься в те земли под Нерчинском, что твоими теперь записаны, сразу же из своих семи жен избери одну, сведи к попу, соблюди закон христианский, а остальных отпусти. Так что ныне не желает ворочаться князь Гантимуров к богдыхану. Вот разве что женки его, каких отбраковал, вернутся…»
Нелегко дались нерчинские переговоры стольнику и воеводе Федору Алексеевичу Головину. Иначе быть и не могло. Он пришел к даурским острогам, имея пять сотен московских стрельцов, да еще столько же было приверстано к Головину в Тобольске. Прочие сибирские города и остроги – Верхотурье, Тюмень, Пелым, Епанчин, Березов, Томск, Енисейск и Якутск – наскребли всего-то тысячу степных стрельцов, казаков и казачьих детей. Так что всего с Головиным было не более полутора тысяч воинов. С маньчжурской стороны к месту переговоров подошло десятитысячное воинство с артиллерией. Были с маньчжурами еще два воина из войска Христова: иезуиты француз Жербийон и португалец Перейра, имевшие миссионерские цели в Пекине. И хотя не дошло тогда под Нерчинском до прямого воинского дола, но два европейца в черных балахонах навредили русскому послу изрядно. Едва заходила речь о том, что на Амуре поставили русские поселения еще Василий Поярков, а затем и Ерофей Хабаров – уже полвека миновало, как маньчжуры удалялись на совет к иезуитам. Дошло в конце концов до разворачивания карт, и тогда главный маньчжурский мандарин, глядя на русскую карту, провел рукой по Лене и заявил: «Все, что к солнцу от этой реки, – наше!» Тут уж и Головин не сдержался и на какое-то время даже перестал выходить из своей палатки, прервал всякие разговоры, отвергая маньчжурскую наглость. Наглость нависала нешуточная, поскольку мандарин заявил: «Перебьем всю твою охрану, а там и Нерчинск возьмем». Отбросив речи о границе по Лене, вынужден был посланник московский на сдачу маньчжурам Албазинской крепости согласиться, но остального Даурского края не уступил. В той неравносильной пограничной тяжбе маньчжуры получили весь верхний и средний Амур. Несколько лет ни они, ни монголы русских острогов, в том числе и Нерчинска, не тревожили. К осторожности их вынуждали вовсе не гарнизоны русских крепостей. Мирными по отношению к северным соседям их делали соседи западные – джунгары. Вот с кем предстояло смертельно схватиться властителям Великой Поднебесной империи.
Головин осенью 1689 года отправился в Москву, оставив на воеводстве в Нерчинске Федора Скрипицына, а в «Ыркуцком», как гласит Сибирский летописный свод, сели «стольник князь Иван да князь Матфей княжеские Петровы дети Гагарины». Матвей ходил в товарищах у старшего брата. Кто знает, сколь бы длилось такое товарищество, если бы не воинский случай. Прилетел в Иркутск гонец от Федора Скрипицына с тревожной вестью: на противоположном берегу Шилки «мугальское10 войско стоит скопом, готовится воевать острог». Иркутский воевода срочно снарядил на Шилку под Нерчинск две сотни казаков во главе со своим товарищем – Матвеем Гагариным. В Нерчинске он просидел с конца марта до середины апреля, пока не ушли «мугалы», распоряжаясь острожными делами наравне со Скрипицыным. Но двух воевод в одном остроге долго быть не могло. Как Гагарин сковырнул Скрипицына – бог весть. Но в 1693 году летописный свод Сибири пополнился такой записью: «В Даурах на границе китайской, в Нерчинску, на Федорове место Скрипицына столник князь Матвей Гагарин, переведен из товарыщев из Ыркуцка…»
В те годы, распоряжаясь Нерчинским воеводством, Матвей Гагарин не думал, не гадал, что судьба полтора десятка лет спустя заставит его перебирать в памяти все подробности не только малого угла Сибири, «зовомого Даурами», но и всей трудновместимой в сознание земли, Сибирского царства, границы которого на юге были весьма и весьма призрачны, если они пролегали не по берегам рек. Да и как проводить границу, коли всего три крепости – Нерчинск, Красный Яр да Кузнецк – обозначили: далее земли к полуденной стороне Белому царю не подвластны. И не только держать все внутренние события в памяти пришлось Гагарину, но и чутко следить за южными соседями, так же чутко и пристально, как это делал со своей стороны император цинский Канси, монгольские подданные которого переводили его имя весьма велеречиво, но неточно – «мирное спокойствие». Неточность заключалась в том, что на протяжении шестидесятилетнего царствования Канси вел почти непрерывную войну с Джунгарским ханством.
Воины этих двух государств в конце XVII века весьма часто находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, случалось, джунгары подступали к Пекину; случалось, маньчжурские войска теснили джунгар почти до берегов Или. Для Цинской империи джунгары были бичом, особенно на северных и западных ее окраинах, населенных монголами и тибетцами. Канси писал о джунгарском хане Галдане: «Он так далеко распространил свои победы, что в западной и северной стороне живущих многих владельцев, а именно: Самархань, Бухар, Хасак, Бурут, Еркень, Сайрам, Турфань и Хами – под свое владение подбил и покорил». Завидуя такому усилению Галдана, маньчжурский император тем не менее не терял надежды, что оно шатко. И он не ошибся. Когда Галдан, ввязавшись в очередное сражение с маньчжурскими отрядами, оторвался от своих основных сил и вознамерился завоевать и обложить данью Халху11, маньчжуры напрочь разбили пятидесятитысячное войско джунгар, и хану Галдану пришлось с остатками своих воинов укрываться в урочище Ага-Амтатай. Китайские известия – это не единственная версия событий, предваривших гибель Галдана. Монгольская летопись «Эрдэнийн эрихе» излагает подробности тех лет несколько иначе. Ожидая сына из Хами, куда он отправил Сетеньбалчжура за провиантом, Галдан рассорился со своим соратником Данцзилой. Сына по пути в Хами скараулили маньчжуры и схватили, Данцзила сбежал в Ширхагоби, и в дополнение ко всем бедам племянник Галдана Цеван-Рабтан, сколотив войско, засел у Алтайских гор, чтобы подкараулить мечущегося дядюшку, схватить его и передать императору Канси. Загнанный в урочище Ваий Ундур Галдан принял яд. Данцзила спешил доставить ко двору императора труп Галдана, просясь в маньчжурское подданство. Но, пока гонец Данцзилы ходил ко двору с такой вестью, Цеван-Рабтан напал на Данцзилу у гор Алтайских и, отняв у него подарки, предназначенные Канси, передал их как собственный вступительный пай, чтобы считаться подданным Поднебесной империи.
В каком урочище погиб Галдан, неизвестно, но известно содержание письма, полученного им накануне от Канси. Письмо было кратким: «Сдавайся». Галдан знал обычай Цинской империи выставлять голову врага на позор всему столичному люду. Принимая яд, обреченный приказал: «Труп мой сжечь». Увы, без Галданова трупа Цеван-Рабтану не с чем было явиться под руку Канси. И тайша Цеван-Рабтан стал контайшой, получив от императора право владеть землями от Алтая до реки Или всего лишь за то, что прислал Канси ступу с пеплом Галданова тела. Глашатаи маньчжурской столицы под вопли толпы рассеивали пепел некогда грозного врага, а Цеван-Рабтан получил краткое замирение в войне с Цинами. Он надеялся – спокойствия на востоке ему хватит, чтобы расправиться со своими врагами на западе. Тем более что казахи сами подали повод к расправе. Прикинувшись покорным Рабтану, прикрываясь отцовскими чувствами, казахский хан Тауке умолял нового контайшу вернуть ему сына, захваченного в плен в результате неудачного набега казахов на джунгарские улусы. Подчеркивая свою высокую приверженность ламаизму, Рабтан только что принял титул хана, и Лхаса признала его, он отправил столь именитого пленника в подарок далай-ламе. Просьба хана Тауке подоспела, когда Рабтану было еще жарко на востоке. А тут представилась возможность заручиться миром с казахами. И Рабтан решил вернуть сына хану Тауке. Из Лхасы неудачливого барантача сопровождало пятьсот джунгарских конников.
Тауке «отблагодарил» джунгарский конвой – все пятьсот были перебиты. Вдобавок хан Тауке увел в свои кочевья более сотни кибиток урянхаев, плативших дань Цеван-Рабтану. И этого было мало. Люди Тауке напали на караван, идущий в Джунгарию с Волги от калмыцкого хана Аюки. Ладно бы обычный джунгарский купеческий караван, хотя и такой караван казахи перехватили тоже. Нет, в том караване с Волги была одна кибитка, которую Цеван-Рабтан ожидал с вожделением. В ней везли очередную невесту джунгарскому контайше. Невеста была дочерью самого хана Аюки. Этот повод и положил начало затяжной полосе сражений между джунгарами и казахами, которая сошла на нет только к 1725 году.
Конечно же, междуханская распря шла не из-за невесты в кибитке. И джунгарский, и казахский ханы пытались срочно оседлать желанного коня – великий шелковый путь, торговый путь из Китая в Среднюю Азию. Оказавшись на одном крупе лицом к лицу, джунгары и казахи пытались свалить друг друга на землю всеми возможными и доступными способами.
Широка Великая степь, а не разминуться, не разъехаться!
Джунгария в это время оказалась зажатой в роковом для нее треугольнике: на востоке – Цинская империя, на западе – три мощных казахских жуза и каракалпаки, на севере – готовая к беседе, равно как и к отпору, Российская империя. И если в XVII веке Джунгария находилась в состоянии непрерывной войны и с маньчжурами, и с казахами, а успех в соперничестве был переменчив, то весь этот период для Москвы и Джунгарии был отмечен лишь мелкими пограничными неурядицами и обменом послов.
В самом начале XVIII века прошел через Тобольск на Москву посол Цеван-Рабтана зайсан Абдул-Еркей. Встречали и провожали его с подобающими почестями: дипломатический порох никого не опалил. Цеван-Рабтан к тому времени сидел в седле довольно прочно, что и побудило Канси отозваться о нем: «После того как был уничтожен Галдан да одержал он победу над „хасаками“ и получил некоторое число военнопленных, он начал мало-помалу переменяться…» И вскорости уже более резко выразился Канси: «Он час от часу становится надменнее». Пожалуй, это замечание вырвалось у императора Поднебесной после того, как Цеван-Рабтан из-под носа у маньчжур увел с верховий Енисея более десяти тысяч кибиток и переселил их в свои владения на Иссык-Куле. Для невеликого, но дальнего переселения контайше потребовалось всего-то две с половиной тысячи конвойных всадников. Верхушка Цинской империи снова заволновалась – не только увел киргизов Цеван-Рабтан, но еще и восстанавливает нарушенное Галданом, послал на Волгу хану Аюке в жены свою дочь Дармабалу. Если сомкнутся две родственные силы, джунгары станут непобедимы. Мандарины зачесали темя, а нет ли способа воспротивиться намечающемуся объединению? Император Канси выжидал несколько лет, пока обменявшиеся дочерями ханы, оба наследники великих ойратов, начали мелко враждовать даже на расстоянии.
И вот русского купчину Худякова, прибывшего в Пекин с очередным государевым караваном, приглашают на беседу в императорский дворец и просят сообщить в Тобольск, а уж там и в Москву о намерении императора Канси направить послов на Волгу. Пропустит ли русский Чагань-хан, так на маньчжурский манер перевели мандарины титул Петра I, китайское посольство на Волгу, к хану Аюке?
С разных сторон света, из разных земель наблюдали за Цеван-Рабтаном Канси и Гагарин, но их мнения о надменности контайши сходились. Гагарина к такому заключению склоняли воеводские доношения. Из Кузнецка писали, что только-только срубили крепостешку на слиянии Бии и Катуни, как явились контайшины люди и после недолгой битвы разорили крепостцу дотла. Чернолуцкий казачий голова с Иртыша доносил, что из тех же «зюнгорских улусов» повадились люди воровски брать алман с барабинских татар. А с кузнецких татар ясак требуют соболями и железом.
В Тобольске такое не задерживалось, вести дошли до царя Петра.
* * *
Тарский казачий голова Иван Чередов вернулся из Тобольска хмурый и неразговорчивый. Долгой отлучки будто и не было, он был вроде как и не рад встрече с домочадцами, мимоходом сунул ребятишкам гостинцы, и те, чутко улавливая настроение вернувшегося батьки, не ожидая привычных забав, отхлынули в кутний угол избы, к матери. Укоряя себя за черствость, молча постоял казак перед занавеской, за которой выжидающе замерла лавина нежности и тоски по отцовским дурашливым словам и шлепкам, где ребятня вопросительно поглядывала на мать – как дальше встреча повернется. И не качнул Чередов занавески, отошел. Поскрипев жестким поясом, повесил саблю на стену – нескоро теперь понадобится, окликнул жену и, глядя в сторону, сказал:
– Вели баню топить. Сбирай мне сухари, мяса вяленого достань поболе да сала. Бельишка исподнего смены три.
Не удивилась жена – мало ли срочных разъездов по Иртышу было, но на всякий случай спросила:
– На Ямыш? Али в степь?
– На Ямыш, – как-то нехотя и вяло ответил Чередов.
Баня приспела к вечеру. Выжидая, пока выдохнется угарный дух, Чередов обошел двор, заглядывая в такие закутки, куда он давным-давно не заглядывал. В сыром, припахивающем плесенью подвале нашарил за дверью кожаную сумку и отнес ее в дом. Проходя двором, отметил: еще над несколькими подворьями, за крепостным палисадом, курились-докуривались дымы. «Ну вот, не четверток подошел, а тара в бани снаряжается…» Чередов посидел в накаленных до звона стенах бани дольше обычного, призывая не раз казака: «Еще поддай, еще охлещи!» Припадая к полку, кряхтел сквозь зубы, ожидая в истоме всем телом каждой горячей волны и жгучей влажности веника. «Экой он сегодня ненасытный, – удивлялся парильщик. – Неужто в Тобольску все бани погорели?» После пятого захода азарт иссяк. Ополоснув голову щелоком, пахнущим березовой золой, Иван окатился из лохани колодезной водой и пошатываясь вышел на низкое крыльцо бани. Уже стояла плотная темь над Тарой, и только чуть повыше крепости, на берегу иртышской протоки, горели костры – у дощаников мелькали силуэты казаков, пофыркивали еле слышно кони.
Против обыкновения, Иван не потребовал после бани двойного12 вина и молодых грибков, а, наскоро поужинав, подсел поближе к красному углу. Достал из-за божницы кожаную сумку и положил ее перед женой:
– Тут наше нажитое. Я тебе не показывал – случая не было.
– Нынче что за случай? – недоуменно прошептала жена.
– Случай не случай, а все же еду не на заячью охоту. В степи, говорят, больно живо стало. В Казачьей орде люди промеж себя секутся, а ну как мы в это самое «промеж себя» угодим ненароком. Не приведи господь. Одно слово, забери и спрячь. Тут всего-то нажитого – сыновьям коней к службе справить да еще кой-что выкроится.
– Так при чем степь-то, Ваня? Ты ж к Ямышу, говорил, пойдете…
– А не твоего бабьего ума дело, куда пойдем, – отмахнулся Чередов и достал из кожаного баула, побывавшего с ним в Тобольске, узкий сверток. Снял нагар со свечи, развернул хрусткую бумагу и стал читать, чуть-чуть шевеля губами. Он знал, что написанное – не обычное письмо князя Гагарина. Тяжелая отворчатая печать13 в нижнем углу листа придавала какую-то незнакомую весомость и бумаге, и ему, казачьему голове, дотоле не знавшему никаких государевых забот, кроме береговых доездов до Иртышу. А тут бумага из самой губернской канцелярии гласила: «По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца и по приказу губернатора сибирского Матвея Петровича Гагарина, татарскому казачьему голове Ивану Дмитриевичу сыну Чередову велено ехать из Тобольска в калмыцкие улусы к контайше…»
Иван прервал чтение и взглянул поверх листа. Напротив сидела жена и разглядывала мужа недоуменно. Чередов, однако же, не заметил растерянности в лице жены и снова опустил глаза к листу: «…и как приедет к его улусам, то, не доехав его, контайшина, улуса, послать ему наперед себя толмача с ведомостью от себя и велеть сказать ему, что по указу Великого государя, Его царского преосветленного Величества, губернатор Сибирский князь Матвей Петрович Гагарин прислал к нему, контайше, из Тоболеска с листом его, казачьего голову Ивана Чередова, и он бы, контайша, приказал, где ему, Ивану, его, контайшу, видеть…»
Наконец жена спросила:
– Не в себе ты. Письмо виновато?
– И это не бабье дело, – ответил Чередов и стал сворачивать бумагу в трубочку.
Утром на Иртыше жена Чередова увидела, что к берегу от съезжей избы приближаются три калмыка на своих низеньких лошадях. Казачий голова приветливо поздоровался с калмыками и даже заговорил с одним, ласково называя его Деркемушкой:
– Скоро, скоро все сладится, скоро тронемся в путь.
Тогда и екнуло бабье сердце.
– Ты скажи, Ваня! В калмаки пойдешь?
Он невесело посмотрел в настороженные глаза жены, обнял ее и, плохо скрывая ложь, успокоил:
– На Ямыш-озеро, на Ямыш. Что-то ты вся взметнулась… А ну-ка, закуси губу да смотри весело.
Слова эти не ускользнули от провожавших, и по толпе баб и ребятишек прополыхнула тревога переглядов. И когда семь прогонистых дощаников отурились от берега, когда мужики дружно ударили тяжелыми гребями и приплесок закипел, заходил воронками за кормой последнего дощаника, тут-то и взвыли тарские бабы, осеняя воздушными торопливыми крестами и правый берег, и воду, и все менее и менее различимые лица и спины мужиков. Плач стоял над широкой излукой до тех пор, пока дощаники, удаляясь, не превратились в легонькие, подрагивающие на воде скорлупки. И там, на судах, его тоже слышали до тех пор, пока не сравнялась с верхами сосен тарская крепостная колоколенка.
Выход каравана дощаников на Ямыш-озеро для Тары был делом обычным. Тара посылала туда своих добытчиков, почитай, уже лет сто, с тех пор как оборотистые казачьи разъезды проведали на правом берегу Иртыша богатое соляное озеро. И соль там была добро камениста и чиста. За ней приходили из Тобольска и даже из Сургута и прочих понизовых городов. Да и вся окрестная степь, разметнувшаяся на сотни верст, тянулась конными и верблюжьими караванами к богатой сибирской солонке, которой хватало на всех. Из Тары за солью ходили в конце лета, выждав, когда неуемная жара пропарит озеро, когда можно будет взять пласт подальше от берега, а чем дальше, тем чище будут сиять и переливаться на августовском солнце окаменевшие слоистые глыбы соли. Провожая ежегодный караван за солью, тарские бабы никогда не ревели в голос. На сей раз их насторожили калмыки, или, как тогда их называли простолюдины, калмаки. Кое-кто называл их и зюнгорцами – не привык русский язык к жесткому, как ременный жгут, слову «джунгары». Слово «калмаки» обронила на причале жена Чередова, и бабий переполох истолковал это упоминание на свой лад – утаили мужики правду о том, куда пошли. А вдруг все дощаники вовсе не за солью, снарядились? Иртышу конца краю нет, где лежит его изголов, там никто из тарских не бывал.
Вывершив речную волну до устья малоприметной речки Преснухи, впадающей в Иртыш справа, отоспавшись вволю под навесами на дощаниках, Иван Чередов с пятью казаками не вдруг вышел в степь. Уже и сентябрь присеребрил первыми заморозками посохшую траву на берегу Ямыш-озера, а его спутников, калмыцких посланцев Деркема и Лоузана, все не было. Из Тары они шли правым берегом, к вечеру поспевая в то место, где притыкались к берегу на ночевку дощаники. Но вот за неделю до выхода к Преснухе калмыки сказали, что уходят дальше степью на несколько дней и выйдут прямо к озеру. Миновала неделя, Деркем не появлялся. Тарские мужики каждое утро выезжали к озеру, лезли на отмелые места, бухали ломами по дну – ломали пласт. Уже оставалось нагрузить солью два дощаника. Пять других тяжело приосели в воду, готовые отправиться вниз по Иртышу, а провожатые, чередовские, не появлялись. Казачий голова все глаза проглядел, насмотрелся на левый, низкий, берег, строя догадки: может, люди из Казачьей орды перехватили зюнгорцев? Но левый берег был пуст, безлюден. Чередов слонялся по окрестностям озера, поминая недобрым словом Деркема. В один из вечеров, особенно ясный и тихий, даже ковыль не дрогнет, не шелохнется, даже залетная иртышская чайка не пискнет, засиделся Чередов у озера до самого заката. Сидел на сухом теплом песке, забыв о досаде на зюнгорцев, постругивая таловый прут, срезанный на берегу Преснухи. Давно ушли к палаткам и шалашам добытчики соли, ни звука над озером. И чем глубже в край неба западало солнце, тем явственней и гуще наливалось озеро малиновым цветом. Тяжелая и плотная вода, словно очарованная закатным преображением, была недвижна. Цвет, казалось, издавал еле уловимый звон – до того он был ощутим, что постепенно заполнил уши и поглотил Ивана своим неумолимым нарастанием всего, без остатка. «Господи, и как же такое чудо содеяно?! Ведь в нем нет и малой живинки, а ведь озеро-то живое, замерло, вздохнуть боится!..» – думал, забывшись, Чередов.
И лишь когда последний отблеск заката слабо отразился на лезвии присмиревшего чередовского ножа, тогда и сдул неожиданный ветерок и малиновый цвет и звон, превратив зеркало в мелкую, на глазах тускнеющую серебряную рябь. Иван повертел в руках таловый прут, уже почти в потемках сделал из него маленький крест. Выбрал место, где мужики выломали соль – нескоро сюда с ломиком кто-нибудь вернется, и погрузил крестик в темную воду. «Если крест никто не порушит, вернусь из калмыцких улусов – заберу с собой», – загадал Чередов и уже в прохладной сутеми двинулся к берегу Иртыша.
Еще неделю ходил казачий голова к озеру, уже и крестик его, видный в прозрачной стоячей воде, покрылся крупинками соли, и не подумаешь, что деревянный, а зюнгорцы все не появлялись. Они прибыли, когда Чередов уже решил – завтра сам уйду, без провожатых. Деркем, не слезая с лошади, постегивал камчой по борту дощаника, в котором спал Чередов, и монотонно тянул:
– Айда, Иван… Айда, Иван…
По-русски получалось: «Ай да Иван», и это разозлило Чередова, как будто он виноват, а не «зюнгорец», что две недели псу под хвост выброшено.
Деркем приехал к Иртышу не один. Поодаль, вокруг Лоузана, вертелось на конях человек двадцать незнакомых калмыков, и у каждого была еще и вьючная лошадь. «Эге, – смекнул Чередов, – понятно, где твоя некрещеная морда пропадала». Он разглядел среди конников нескольких барабинских татар. От последней русской крепости в Чернолучье Деркем пошел к востоку степью. И, видно, не впустую сходил – кого успел, объясачил. Какая же ему вера, такому послу? И эти, что пришли с ним, видно, где-то в условном месте ждали Деркема. Вот тебе и купцы-посланцы! Ясак дерут с наших татар. Вслух ничего не сказал казачий голова – уж чему-чему, а учтивости в обращении с зюнгорцами Чередова в Тобольске наставляли долго.
«Этак с тороками, набитыми в Барабе, долго мы до контайши будем ехать», – размышлял Чередов, проверяя свои походные вьюки, подтягивая подпругу. Но, вопреки чередовским ожиданиям, пошли они очень споро. Деркем отделил десяток человек из столпившихся возле огня калмыков, и те, с легкой ноги, взлетев в седло с высокой лукой, затрусили вперед, поджидая казаков. Два дня конного хода по правобережью Иртыша не сулили Чередову незнакомого – он бывал здесь и раньше, знал, что скоро выйдут к Калбасунской башне. Она и показалась вдали на исходе вторых суток. Оплывшее от времени глиняное строение было когда-то капищем для кочевых жителей этих мест, но, видно, это были не калмыки и не барабинцы, потому что и те и другие миновали башню, даже не взглянув в сторону заросших полынью, сглаженных дождями зубцов уцелевшей стены. Калмыки протрусили к берегу и стали устраиваться на ночлег. Рядом разожгли костер казаки Чередова.
– Как же они в седле на одном затуране держатся? – недоумевал молодой казак Андрей Бородихин. – Я с утра – шмат сала да в обед еще шмат. Вечером – варево. А они что же, так на одном толокне да на соленом кипятке до самого своего улуса дотянут?
– Ты днем приглядись – они изо рта курт не выпускают. Насушили им дома этого курта на всю дорогу, – растолковывал Чередов молодому калмыцкие хитрости. – Я пробовал курт, не угрызешь. А им – в сладость. И сыты надолго. Так и до своих бараньих мест доберутся.
До калмыцких разъездов дошли уже на исходе второй недели, встретив их в иссушенной каменистой степи. Правда, до этого была еще одна встреча. Только вышел отряд к иртышскому плавежу, где можно было переправиться без особого риска, как на той стороне реки показался человек на коне. И нельзя было понять по одежде, кто он. Помаячил и молча исчез. А когда стали сбором и принялись собирать плавник на костры, тут он и выехал снова. И заговорил, заговорил, будто радуясь звуку своего голоса:
– Я глядь-поглядь, что за наваждение? И калмыцкие шапки, и наши: все перемешалось. Думал, они ведут вас в плен, и то – их побольше числом. Ан нет, смотрю, переправились, не повязаны…
Чередов и казаки окружили всадника. Был он неимоверно тощ, и одежонка на нем трепыхалась, вовсе не предназначенная для осени: грязная рваная рубаха, армяк такой же прикрывали худущие плечи, а портки – да что там о них говорить…
– Ты откулева такой вывернулся? – простецки разглядывая пришельца, спросил Бородихин.
– И кто он такой? – тоном построже добавил Чередов.
– Да из орды я. От киргизов кайсацких ушел, а места мне здесь вовсе неведомые. Кузьма Скорняков я, с-под Самары. Далеко до наших городков? Хоть бы острог какой…
– Ты сперва сядь, сперва поешь, – заторопились казаки вокруг Скорнякова, – потом мы тебе и острог, и иную защиту укажем.
Защиту указывать не пришлось. Наутро Деркем подошел к Чередову с толмачом и приказал беглеца взять с собой.
– Ему до дому подаваться надо! – возразил было казачий голова, но за Деркемом стали остальные калмыки, охватывая русских почти сомкнувшейся подковой.
Потупились казаки, примолкли. Чередов оглядел всех своих пристально, развел руками: дескать, мы уже в гостях…
Наутро вместо того, чтобы двинуться к югу, Деркем ткнул камчой вниз по реке. Спустились версты три, и показалось несколько приземистых крыш. Калмыки начали спешиваться. Деркем приказал казакам ждать поодаль. Издали Чередов рассматривал строения, каких доселе не встречал: одна к одной лепились семь кирпичных башен с пологими скатами крыши. Вход каждой из них был обращен к востоку. Калмыки, однако же, в башенки не вошли, а замерли подле них на коленях, подставив обнаженные затылки осеннему солнцу. И стояли так, шепча что-то, пока не была переброшена слева направо последняя бусина на шелковом шнурке четок в руках Деркема. Он ушел от башен последним. Чередов разглядел, как Деркем взял что-то с порога самой высокой кумирни и спрятал на груди.
«Неужто камень за пазуху сунул? Эк его…» – подумал казак.
Калмыки расселись по седлам, и Деркем кивнул в полуденную сторону. И захрустела ломкая осенняя полынь под копытами, заластился к коленям лошадей белесый ковыль. Пошла изнуряющая с утра до вечера раскачка: то легкой рысью, а то и в намет, и совсем редко – шагом. Езда выматывала все силы из тулова, так что к вечеру падали казаки еле живые, засыпая, едва голова касалась брошенного на кошму седла, уже во сне со стоном разминая занемевшее в тряске тело.
Отсинел вдалеке, по правую руку, Балхаш, стали чаще встречаться безлюдные огромные кладбища. Уже миновали заросшие черемухой и тальником берега Лепсу, а Деркеп все не давал роздыха, только на короткое время позволял всему каравану вздремнуть в седле. Окидывал подозрительным взглядом невысокие сопки и снова поддавал коню под бок мягкой пяткой. Чередов спросил его в один из ночных привалов:
– Почему летим сломя голову?
Толмач послушал Деркема и ответил:
– Ты к кому послан с листом: к Великому хунтайджи или к Хаип-хану кайсацкому?
– Чево дурика валяешь? Ясно, до контайши лист.
– Деркем говорит, чтобы ты не отставал, а то угодишь, посол тобольский, в кайсацкие аулы.
Отряд шел через ничейное пространство. Ни калмыков, ни казахов в этом лоскутке Семиречья не было. И такое затишье настораживало Деркема. Он торопился, как торопится всякий путник, не уверенный в том, что его кто-то защитит в степном беспределье.
Скачка прекратилась, как только на левобережье Лепсу встретился первый калмыцкий разъезд. Из-под косматых зверовых шапок глянули на казаков любопытством вспыхнувшие глаза, но блеск поугас, как только Деркем сообщил, что урусы идут пословаться к великому контайше.
В первом же калмыцком улусе, на реке Чаган-Узун, стало посольство на дневной отдых, выменяли на ножи тобольской выделки барана. И еще не успели остыть остатки жира на донышке котла, как один из казаков, Максим Немтинов, поманил пальцем из-за кошмяного ската юрты Чередова к себе:
– Ты встречал в Тобольском ружейника Зеленовского?
– Встречал. Совсем недавно.
– Здеся он…
– Приблазнилось тебе. Откуль? Полтретья месяца тому, я его видел.
– Он в юрте у калмыков на кошме сидит. Милуется с ними, – указал Немтинов на белобокую разнаряженную юрту в самой середке улуса. – Весь подушками обложен.
– Щас сведаю, – раздраженно прошептал Чередов.
Но не успел он и на десяток шагов приблизиться к белой юрте, его остановили два молодых калмыка:
– Туда ходи нету!
Раздосадованный, Чередов отступил и стал наблюдать издалека. За пологом юрты исчезали слуги, подносившие вареную баранину и тяжко колебавшиеся бурдюки. Мелко семеня, двое пронесли дымящийся котел с каким-то варевом и, пятясь задом, с поклонами вывернулись из-под полога наружу и замерли у входа.
Чередов крякнул, вернулся к своим. В сердцах стукнул себя кулаком по колену и уставился в подернутые пеплом головешки костра. Позвал Немтинова: