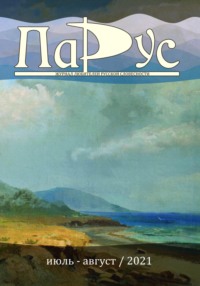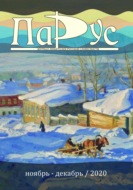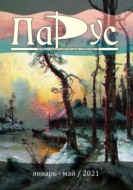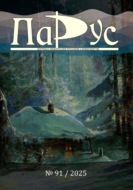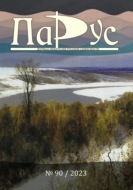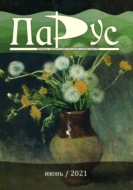Loe raamatut: «Журнал «Парус» №88, 2021 г.»
Слово редактора
Дорогой читатель!
Завершается лето-2021 и наступает пора подведения промежуточных итогов года – пора «сбора литературного урожая»! Крохотные семена, которые были брошены в благодатную почву, выросли, полноценно реализуя программы своего развития, сжаты и собраны в снопы литературных рубрик.
Много даров приготовило нам это тёплое лето, и августовский стол по обыкновению изобилен и щедр – здесь и душистые яблоки изысканной прозы, и особенно яркие на фоне пасмурного неба осенние цветы поэзии, и сладко-горький мёд воспоминаний.
Ещё по-летнему греют лучи неспешного читательского внимания, природа художественных даров роскошна и многообразна в своих проявлениях – демонстрируя беззаботность и легкость лета, чередующуюся с первыми напоминаниями о грядущей смене сезона. Скоро грациозной поступью явится к нам другая гостья, дышащая туманами и прохладой ветров, золотой листвой устилающая себе дорогу.
Поспешим же вдохнуть терпкий аромат дорогих нашему сердцу осенних цветов, насладиться ягодными тропинками памяти и впитать в себя всю прелесть наполненных летним солнцем художественных плодов.
Ирина Калус
Корабли уходят в вечность
Ирина КАЛУС. Ушёл от нас певец родной земли
Памяти Виктора Лихоносова
Завершил земной путь талантливый, по-настоящему национальный писатель и апологет своих малых земель – Кубани и Сибири – Виктор Иванович Лихоносов (1936–2021).
Скорбим и выражаем соболезнования всем близким и друзьям писателям, всем землякам и просто соотечественникам, любящим его творчество, а также глубоко переживающим утрату своего экс-главного редактора коллективу журнала «Родная Кубань».
Мы знаем, что для Традиции не существует ни пространства, ни времени, мир свёрнут в единый свиток подлинных смыслов. Великая Вечность поглощает все границы, оставляя для себя чистейшее золото душ, не тронутых суетой преходящего сора – миражей бытия. Где бы ни жил Виктор Иванович Лихоносов, о чём бы ни писал, взгляд его всегда был взглядом Искателя, воспламеняющего искры знания Жизни.
Царствие Небесное нашему дорогому краснодарцу-сибиряку! Пусть таманская земля будет ему пухом и приютит прах великого странника, совершившего своё главное литературное путешествие, не уходя далеко от отчего Дома и при любых обстоятельствах остававшегося верным его Очагу.
2021
Художественное слово: поэзия
Валерий ТОПОРКОВ. «Бессмертным огнём потекут наши реки…»
***
Я – шахматный солдат.
Любой маневр мой взвешен:
На черном я не смят,
На белом – небезгрешен.
Игры ума высот
Мне не постичь, не скрою.
Но я готов на ход
Под сильною рукою!
От точности ее
Не мной ли будут сшиты
Атаки суровье
И суровье защиты.
Пройдет моя война
Не под огнем и дымом…
И будет тишина
Цвести необратимым.
Если это весна…
Vivace, con spirito
Если это весна, если только весна, не сочтите,
не сочтите за труд сделать несколько ярких открытий,
повнимательней чуть и, конечно, добрей, чем обычно,
наблюдая за жизнью вокруг,
удивительной жизнью вокруг, —
коллективной
и личной!
Если это весна, если только она, я уверен,
вы столкнетесь с душой ее тотчас же, выйдя за двери;
вам откроется вдруг, поначалу ступающим гордо,
что вот-вот оживут воспаленные легкие города;
что губами двух зорь, в простоте не познавшими страха,
с голубого стола собирает он солнечный сахар;
а продрогшим ветрам неотступно мерещится жито;
что капелью надежд одиночество равных изжито;
что не могут снега кровь цветения сдерживать долго;
что земля легче пуха – спросите любого геолога;
что весна, наконец, как любимица сил вездесущих,
на прощеной земле не одним потакает живущим.
***
Въезжаю в незнакомую деревню,
А к сердцу за строкою льнет строка:
Здесь вырастили Марию Моревну;
Здесь в люди вывели Ивана-дурака;
Здесь неизвестно, за какую милость,
За чьи такие «Боже упаси!»
И вправду ничего не изменилось,
Должно, от самого Крещения Руси…
И как я рад, заученной когда-то
На школьный, на торжественный урок,
Свой монолог перемежить цитатой:
«Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
И, круче разогнав велосипед,
Читать: «Я твой – я променял…» – Ан нет!
Не верит моему стихотворенью
Лукавый разум, сущий василиск:
Въезжаю в незнакомую деревню
И первое, что вижу —
О
Б
Е
Л
И
С
К
***
Один не поверит. Другой – не поймет.
А нам до всегдашних раздоров нет дела.
Мы – дети Воды. Мы – явление вод.
Мы – те, чья поверхность на солнце светлела!
Чьи толщи стыдились того, что он глуп,
стареющий мир, универсум прелестный.
Святая ли мудрость неймет, точно зуб,
смеяться ль над тем, что он глуп бесполезно, —
вот участь: ни лодки у нас, ни весла…
Бессмертным огнем потекут наши реки,
чтоб выжгла немое сознанье дотла
простейшая истина: о человеке.
Кладбище немецких военнопленных на Ярославщине
1
В молодом сосняке, на пригорочке
у могил – снеговые оборочки
да иголками злыми строченные
допотопные платьица
черные,
со стежками, со швами нередкими,
у могил
под истлевшими ветками.
2
…Ночевали в бараках,
дневали же
на песчаных и каменных залежах;
в выходные, садясь под окошками,
развлекались губными гармошками;
в общем, жили не сладко, но
весело
(впрочем, что уже радость их весила!);
низко кланяясь Русскому Молоту,
умирали от ран, все так
молоды…
3
Хорошо ли вам в наших землях-то
кости маять, солдаты Вермахта?..
Вы ослабли в духовной грамоте.
Ни креста вам, ни доброй
памяти.
***
Место? Время? А сердца тебе не жаль?..
Вспомнил детство – а детство тебя едва ль.
Вспомнит старость – но та, наплевав на такт,
обещает уже не один инфаркт…
Чьих же это престранное дело рук:
жизнь проходит, а грусти не меньше, друг?
Жизнь проходит, дружище, и – пусть не в срок —
ты вникаешь вдруг в тайну своих же строк:
«Ритма профиль и, может быть, рифмы фас —
это все, что я смог сохранить для вас,
все, что только сумел сохранить!
Дальше след мой, увы, невозвратно стерт.
Как линкор, прибывая в последний порт,
шлю поклон вам, прозектор, за ваш комфорт:
за холодное утро, где каждый наг,
за одно удовольствие слышать, как
мысли с чувствами бьют в тишину
(дублет):
нет покоя душе и прощенья
нет!!»
***
тускнеет белизна и чернота тускнеет
и глупая душа болит и хлеб черствеет
и грех стихом плевать в колодец забытья
как будто все прошло а ты идешь не веря
что легче приравнять рукой с печатью зверя
к н е р а в н о в е с н о с т и разгадку бытия
чем трубку набивать и чиркать чиркать спичкой
и дочку провожать на утренник с косичкой
и в толк не взяв что с ней давно уж нет тебя
***
Жизнь состоялась, удалась.
Одна теперь чернит бумагу
как бы с твоим уходом связь
ничьей медали за отвагу.
Жизнь состоялась, счастья – во!
Но им расплачиваться поздно
за все, что было до него
и будет после.
Москва
Валерий МАЗМАНЯН. «Время, в котором нельзя нам остаться…»
***
На волю из ледовой клетки
подснежник рвется и ручей!
И шепчутся худые ветки —
пора учить язык грачей.
И что вчера казалось важным —
ненужный лист черновика —
плывет корабликом бумажным
по синей луже в облака.
Подойдёшь к окну босая…
От зимы остался долгой —
вздох… Неделя до тепла.
Месяц – золотой заколкой —
вденет в волосы ветла.
У нагих берез истома.
Вместе с ними подожди —
и большой сугроб у дома
расклюют в три дня дожди.
Пробежит февраль короткий.
Подойдешь к окну босая…
Золотые самородки
солнце в лужицы бросает.
***
Время лиловых туманов сирени,
смеха, улыбок и откровений,
синих ночей и метелей акаций,
время, в котором нельзя нам остаться.
Звезды слетятся к окну мотыльками,
если захочешь, лови их руками;
солнечный день или пасмурный вечер —
радость такой же осталась при встрече.
Пух одуванчиков с бабочкой кружит,
яблони цвет льдинкой плавает в луже,
время – река без истока и устья,
дважды войдешь – не расстанешься с грустью.
Следом за зноем – шумные грозы,
ангелы трав – голубые стрекозы…
Время, которое ловим мы снами,
знает, что будет по осени с нами.
***
У зеркала притихла ты —
морщинки и седая прядь.
А мы, как поздние цветы,
не верим – время увядать.
Но в цепкой памяти лозы
весенний день и майский гром;
какая осень без слезы,
без сожалений о былом.
И будь ты грешен, будь святой, —
за птичьей стаей не взлететь…
И дождь серебряной метлой
метет березовую медь.
***
Стареем – никак без таблеток,
без вздохов и глупых обид.
В фонтанах березовых веток
апрельское небо рябит.
И нечем особо хвалиться,
и плакаться повода нет.
На грудке у каждой синицы
блестит золотой амулет.
Запомнило сердце – любили,
и радости лучше врачей…
Худые лодыжки рябины
заботливо моет ручей.
***
Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей;
береза обноски латает
цыганской иголкой дождей;
и клены не прячут нагие
узлы выступающих вен…
И мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.
***
Года войдут тихонько в сны,
недели пролетят аллюром,
из рамок окон до весны
не вынешь зимние гравюры.
И этот сгорбленный фонарь,
и снег, и дворик сиротливый,
и всю-то нашу жизнь февраль
в свои впечатал негативы.
В них тусклый свет былой любви
и радостей, и взлетов прошлых…
В жестокий холод воробьи
спасенья ищут в скудных крошках.
Москва
Виталий ДАРЕНСКИЙ. «И смерть, как Родина, близка…»
Время
Забыто бывшее давно —
Но, словно будущее, снится;
И то, что знать нам не дано —
Судьбою нашей воплотится.
Так время замыкает круг
Беспамятства и узнаваний,
А память оказалась вдруг
Наукой встреч и расставаний.
Уже читать не нужно книг,
Уже не нужно рассуждений —
Жизнь собралась в единый миг
Жемчужной россыпью мгновений.
Как это счастье передать?
Стал чудом этот мир привычный,
Куда ни бросишь тихий взгляд —
Как ново все и необычно!
Уже не сон, а ясный взгляд
Предвидит бытие иное,
И сердцу нет пути назад —
Повсюду время неземное.
Испытание
Бывают дни… Но нет названья
Минутам тяжести земной,
Когда ничтожны притязанья
Перед безмерной пустотой;
Когда, как сон, охватит душу
Всепоглощающая мгла,
И жжет, и мучает, и душит,
Пронзая сердце, как игла;
Когда холодная проснется
У сердца страшная тоска, —
Вся жизнь, как птица, встрепенется,
И смерть, как Родина, близка…
Лето
Наступит в сердце тишина,
Утихнут грешные волненья, —
И жизнь воздаст ему сполна
Приходом дней преодоленья.
Застынет время… и зенит
Застынет с ним не на мгновенье —
Как будто сердце опалит
От вечности прикосновенье.
И так захочется ему
Навек уснуть и раствориться:
Я стану всем и все пойму,
А лето вечно будет длиться…
Зенит земного бытия —
Зенит тоски невыразимой.
Гори сильнее, жизнь моя,
Тоской о Вечности любимой!
***
Под белым куполом небес
Притихший обнажился лес…
Постой, зима, повремени,
Не настоялись еще дни
Осенней строгости прозрачной,
Дни истомившейся, невзрачной,
Размокшей, стынущей земли.
И сладко думать о далеком,
О сокровенном и глубоком,
Когда весь свет тоской отмечен,
А день напоминает вечер.
***
Есть прелесть в увядании земли,
Есть наслаждение в болезни,
Есть ненависть в безумнейшей любви,
И в опьянении – изысканная трезвость;
И в каждом сне – такая глубина,
Которой мы до ужаса боимся:
Нам память страшной вечности дана,
В которой мы когда-то растворимся.
Луганск
Пересаженные цветы
Василий КОСТЕРИН – Геза ЧАТ. Отец и сын.
(перевод с венгерского и продолжение рассказа – Василий КОСТЕРИН)
Несколько слов об авторе. Геза Чат (Csáth Géza), настоящее имя Йожеф Бреннер (1887–1919) – писатель, драматург, музыкальный критик, художник; по образованию – врач-невропатолог. Родился в г. Суботица (Австро-Венгрия, ныне – Сербия). Литературный дебют состоялся в 1903 году. Жил и работал в Будапеште. По своим эстетическим взглядам, тематике произведений, их стилистике близок к писателям-модерни-стам, к авторам популярного в ту пору литературно-критического журнала «Нюгат» («Запад»), который выходил в 1908–1941 годах и сыграл ведущую роль не только в литературе той эпохи, но в венгерской философии и культуре в целом.
Героями рассказов Гезы Чата чаще всего становились странные, несчастные и неудачливые люди, нередко душевнобольные, в этих произведениях сочетаются натурализм, психологическая глубина и точность. До сих пор популярностью пользуются откровенные дневники писателя, они переведены на английский, итальянский, немецкий, польский, португальский, французский языки. Известный венгерский режиссёр Янош Сас экранизировал несколько произведений Гезы Чата. Его фильмы «Мальчики Витман» (1997) и «Опиум» (2007) получили призы ХХ и XXIX Московского Международного кинофестиваля, а также премии других международных фестивалей. С 1909 года писатель болел туберкулёзом лёгких. Скончался он на родине – в Суботице.
На русском языке опубликован сборник произведений Гезы Чата «Сад чародея», в который вошли новеллы, статьи и отрывки из дневников писателя (М., Центр книги Рудомино, 2013). Данный рассказ не вошёл в сборник.
Геза Чат. ОТЕЦ И СЫН
Как-то зимним утром старший ординатор доложил директору анатомического института о некоем человеке, который хотел срочно поговорить с его превосходительством.
Директор просил передать, что может принять гостя лишь на пару минут, так как должен читать лекцию. Действительно, аудитория уже гудела от голосов студентов-медиков.
Посетитель – высокий, бледный, добротно одетый человек – вошёл с низким поклоном и от волнения начал почти скороговоркой. Его гладковыбритое лицо вроде бы говорило, что он не венгр, но безупречное произношение свидетельствовало об обратном. Перед сильно близорукими глазами сидело пенсне в чёрной оправе.
– Прошу прощения за беспокойство, ваше превосходительство, но уж такое спешное дело, во всяком случае, для меня. Моё имя – Пал Дьетваш, я инженер и вчера приехал из Америки. Сошёл с поезда, и мамаша встретила меня вестью, что отца уже нет в живых. Письмо, извещавшее о его кончине, я должен был получить в тот день, когда сел на пароход, чтобы прибыть сюда… Словом, узнал, что отец, вне всякого сомнения, умер и умер в клинике. Мамаша моя, пребывавшая в большой нужде, не смогла его похоронить. Короче говоря, она оставила тело отца у вас. Её обнадёжили: клиника похоронит супруга. Теперь за это дело взялся я и вчера разузнал следующее: тело отца отвезли сюда, в ваш анатомический институт, чтобы на нём практиковались студенты. Ещё я выяснил, что трупы хоронят только после того, как их уже все искромсают на мелкие кусочки, и тогда эти ошмётки бросают в гроб. Я бы хотел навести справки: такая ли судьба, постигла моего отца, или, возможно, как обнадёжил меня служитель, кости его выварили и сделали скелет. Я хотел бы это знать, и прошу ваше превосходительство господина директора, если именно так обстоит дело, снизойти до моей просьбы и выдать мне скелет или череп, но лучше целый скелет, дабы похоронить. Словом, умоляю, господин директор, соблаговолите дать указание поискать, нет ли у вас случайно скелета моего отца. Служитель сказал, что для этой цели обычно отбирают трупы с красивой крепкой костью, а у отца были настоящие мослы, и высоким он был, как я… Расходы же института я оплачу…
Директор во время этой длинной взволнованной речи спокойно поглаживал бороду, потом тихо, растягивая слова, заговорил:
– Что ж, пожалуйста, я могу посмотреть… Как, простите, звали вашего батюшку?
– Пал Дьетваш, как и меня.
– Вообще-то, институт не выдаёт трупы… но, если скелет сохранился, – возможно, он ещё на выварке, а может уже и сложен – не буду возражать и прикажу выдать вам.
Директор позвонил. Явился ординатор в белом халате.
– Пожалуйста, господин доктор, – промолвил директор, – пусть взглянут, разделывали ли в прошлом или позапрошлом месяце труп под именем Пал Дьетваш и, если так, приготовили ли из него учебный скелет.
Ординатор быстро вышел, профессор предложил странному гостю присесть.
После молчаливого пятиминутного ожидания, во время которого визитёр нервно покачивал коленями, а профессор, засунув руки в карманы, не сводил глаз с мокрой улицы, влетел ординатор.
– Труп в списке числится, из терапевтического получили. Вскрытие делали у нас в отделении «С». Я его отдал третьекурсникам, потому что это прекрасный скелет; на прошлой неделе мы с Матьяшем его мацерировали, а позавчера сложили. Очень удачно вышло; мы его поставили в секционную, как приказали вы, ваше превосходительство, потому что в прошлом месяце первокурсники разбили там один из скелетов.
Внезапно посетитель дёрнулся судорожно, а директор с прежней тягучестью заговорил опять:
– Тогда прошу вас, господин доктор, позаботиться, чтобы выдали проблемный скелет этому господину. А Вы будьте добры оплатить наши расходы лично мне в руки, сколько там, господин доктор?
– Пожалуй, за одну только мацерацию и скрепление костей будет тридцать пять крон.
Человек быстро вынул кошелёк и торопливо расплатился. Уже менее взволнованно, даже с некоторым радостным облегчением он сказал:
– Пожалуйста, ваше превосходительство, благодарю за сочувствие, прошу прощения за беспокойство. Всегда к вашим услугам.
Инженера отвели в секционную, где в углу стоял «проблемный» скелет. Мощный, крепкий, ширококостный, с прекрасным черепом, вываренный до фарфоровой белизны.
Приезжий некоторое время с удивлением смотрел на него, казалось, он ещё никогда не видел скелетов. Он оглядел кости спереди и сзади, поворачивая их вокруг опоры, при этом пальцы его скользнули по рёбрам, он даже пощупал пружины, которые притягивали нижнюю челюсть к черепу, потом беспомощно посмотрел на служителя и ординатора.
Ординатор начал хвалить череп, отчего пришелец проявил неожиданный интерес к анатомии. Но человек в белом халате скоро попрощался: во время лекции профессора у него свои обязанности.
Старый служитель чувствовал, что надо бы найти слова утешения. Для этого он привлёк свои нехитрые познания.
– Такой замечательный скелет, честное слово, давно такой не попадался, и Дьюри из второй анатомички тоже сказал: этот труп, дядя Матьяш, я бы с удовольствием забрал к себе.
Пришедший наклонил голову и стал раскачивать ноги скелета. Они, поскрипывая, мотались туда-сюда. Потом он долго смотрел в глазные впадины и кусал губы.
Старый циник Матьяш, который в течение тридцати лет только и делал, что бросал с места на место трупы, заметил, что слёзы стояли в глазах у господина, и, как это принято, посочувствовал ему:
– Видать, он приходился каким-нибудь родственником вашему благородию?
– Это был мой папаша!
– Отец. Хм, хм. Ну, что же… – Он замолчал. Некоторое время они стояли, не говоря ни слова, и смотрели на кости.
На какое-то мгновение сыну этого скелета подумалось, что следует сказать что-нибудь, дать волю собиравшейся в душе грозе из странной смеси мыслей и чувств.
Однако буря, готовая, было, разразиться, вдруг затихла в сверкающей от чистоты и белизны фарфора комнате, боль утраты и горя исчезла, растворилась в свете, лившемся из больших окон. Инженер, словно неожиданно передумав, ухватил скелет за железный стержень подставки и потащил его к двери. Сын устремился вперёд со своим странным грузом решительно, но с опущенными глазами, словно краснея за родного отца.
Он прошёл через большой коридор, и ещё несколько опоздавших студентов видели его со скелетом, руки и ноги которого болтались в каком-то странном танце, когда этот гладковыбритый человек неловко обнимал его. Сын своего отца.
Перевод В. Костерина
Необходимое предисловие к рассказу "Отец и сын. II"
Лет сорок назад я перевёл на русский рассказ Гезы Чата «Отец и сын». Тогда он не был востребован, напечатали его лишь недавно в Новгороде. Перед настоящей публикацией я внёс в перевод немало поправок, уточнений, и после этого родилась идея продолжить это небольшое произведение. Истории литературы известны такие примеры. Ещё в 1614 году, за два года до кончины Сервантеса, появился не принадлежащий ему второй том Дон Кихота; тома Робинзонады исчисляются многими десятками, имеются многочисленные продолжения рассказов о Шерлоке Холмсе, вариации на темы «Трёх мушкетёров», новые приключений бравого солдата Швейка. Самозванные соавторы продлили сказки и о кэрролловской Алисе, и о Буратино, и о волшебнике из Изумрудного города, дописали второй и третий тома «Мёртвых душ», «Войну и мир» под названием «Пьер и Наташа», «Мастера и Маргариту», а Брюсов закончил «Египетские ночи» Пушкина.