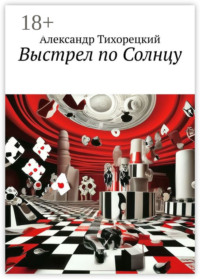Loe raamatut: «Выстрел по Солнцу»
© Александр Тихорецкий, 2024
ISBN 978-5-4485-9111-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящается
Любови Васильевне Катарской.
ГЛАВА 1
Ленский снова видел лицо Вовки Каменева, прищуренные глаза, паклю белобрысых волос, капельки пота, выступившие в лучах безжалостного июльского полудня. Как и четверть века назад, Вовка кривил губы в презрительной ухмылке, показывая щербатые зубы, что-то кричал ему. Что? Ленский уже и не помнил, а сон в этом месте, словно намеренно, удалил звуковую дорожку. Впрочем, какая разница? – наверняка, что-нибудь издевательское, обидное. Крикнул и исчез в зарослях дикой ежевики, перемежающейся с прибрежным ивняком. Вот в последний раз мелькнула в чаще его полинявшая футболка, и он окончательно пропал из вида.
Это значит – дальше придется идти одному. Казалось бы, подумаешь, чего проще? Пробежать по тропинке, по тенистой влажной прохладе, скользнуть между кустов, усыпанных крупными сочными ягодами, но…
Здесь сон всегда обрывается, теперь, наверно, уже для того, чтобы снова вернулись страх и неуверенность, давным-давно забытое, угасшее, тяжкое, – будто старинное, потускневшее от времени зеркало оживает вдруг отражениями, и Ленский вновь становится Женькой, пятнадцатилетним мальчуганом, в плену противного липкого страха, замершем на краю своего Рубикона. Вместе с изображением возвращаются и запахи, и звуки, картинка оживает пением птиц, шорохами листвы, голосами мальчишек, вовсю дурачащихся сейчас в речке, – всего каких-то пятьдесят метров и отделяют от этого рая. От пляжа, реки, от возможности сбросить майку, шорты, ворваться в прохладную, пестрящую солнечными бликами, воду. Нырнуть с головой, всем телом, каждым мускулом ощущая тугую, податливую упругость, сильными движениями рассекать, грести, плыть, что есть мочи, до изнеможения, а потом лечь на спину, и лежать так, долго-долго, будто в невесомости, потеряв счет времени, вслушиваясь в гулкое безмолвие воды. Женька представил это блаженство и едва не заскулил от тоски и жалости к себе.
Среди мальчишеских криков слышались и взрослые голоса, властные и требовательные, – это их воспитатели, Игорь Львович и Олег Львович, «Львовичи», как называли их все в округе, в глаза и за глаза. Округа – это что-то около десятка пионерских лагерей, еще столько же санаториев и домов отдыха, – знаменитая и прославленная Студеная Гута, курортно-туристический Сочи местного значения, – полным полно народа, и «Львовичей» знает или хотя бы слышал о них каждый. «Каждая собака» – как хвастливо заявляли они сами, – и в самом деле, с этим было трудно поспорить.
Львовичи были душой всех компаний, участниками всех без исключения, хотя бы мало-мальски значимых событий, выступали организаторами и вдохновителями самых разнообразных культурно-массовых мероприятий, вечеринок, попоек и потасовок, ухитряясь при этом из всех переделок выходить целыми и невредимыми, без ущерба для здоровья и репутации. В быту оба занимали скромные должности инженеров на шефском заводе, что не мешало им во время летних каникул подрабатывать воспитателями в пионерлагере, как правило, в отряде старшего возраста, – причины, по которым руководство из года в год доверяло столь ответственный участок воспитательного фронта именно им, были очевидны: дисциплина в их отряде была «железной». За весь отчетный (три созыва) период, как правило, не случалось ни одного эксцесса, не было зафиксировано ни единого случая непослушания, нарушения режима, все директивы и пожелания начальства исполнялись своевременно и неукоснительно. Уборка территории, внешний вид, смотры, конкурсы, соревнования – за что ни возьмись, все в отряде было на высоте, можно было подумать, будто «Львовичи», и в самом деле, обладают какими-то совершенно недюжинными педагогическими талантами, какой-то уникальной секретной методикой; коллеги цокали языками и завидовали черной завистью. Впрочем, ничего ни уникального, ни секретного в методике Львовичей не было, как, собственно, не было и самой методики; воспитательный процесс целиком был построен на старом добром насилии, – стараниями педагогов-энтузиастов в отряде был создана и отлажена тотальная система подавления, и подчинения гибрид армейской дедовщины и уголовных практик. С четким разделением на «овец» (бесправное большинство) и «волков» (удостоенных высокого доверия подручных, как правило, ребят постарше и покрепче), незамысловатой шкалой поощрений и наказаний. Заимствовано все было из жизни, обкатанное и одобренное временем: воровские понятия подверстывались критериями социального одобрения, страх и стыд одних – наглостью и безнаказанностью других; оставалось лишь пожинать плоды и делать хорошую мину.
Наладив, таким образом, быт подопечных, «Львовичи» получили широчайшие возможности для организации быта собственного, в данный момент, например, они собирались опробовать новенькие, недавно привезенные из города спиннинги, – мероприятие тем более знаменательное, что было приурочено к открытию «нового места» – полоски пляжа, отвоеванного у дикой прибрежной чащи, – подвиг, достойный Колумба, Магеллана и сэра Фрэнсиса Дрейка вместе взятых.
Экспедиция состоялась неделю назад под предводительством все тех же «Львовичей»; Женька и еще несколько «овец» были взяты в качестве дармовой рабочей силы, в официальных отчетах стыдливо именуемой «силами отряда». Поводом для вылазки стал поиск водоема для купания – старые лягушатники с мутной, грязной водой не отвечали требованиям санаторно-санитарного ГОСТа и – главное! – требованиям самих «Львовичей», которым просто позарез нужно было стать лучшими в очередном конкурсе воспитателей; стоит ли говорить, что руководством лагеря идея была принята «на ура».
С поставленной задачей отряд справился довольно быстро, еще час (чтоб не прознали и не перехватили завистники-конкуренты) ушел на маскировку прохода.
– А теперь – в воду! – скомандовал один из «Львовичей», и мальчишки, потные, измученные, но счастливые, бросились в реку.
Место и в самом деле оказалось – что надо. Лента золотистого берега, защищенная от любопытных взглядов стеной зарослей, чистое и пологое дно, небыстрое течение. Накупавшись вдоволь, набегавшись и наозорничавшись, ребята повалились прямо на песок и принялись уплетать (праздничный обед) бутерброды с маслом и джемом.
В зарослях щебетали птицы, ветерок легонько трепал листву, – «хорошо бы сюда на ночное прийти», – мечтательно переговаривались между собой «Львовичи», – все было чудесно.
Наевшись и напившись, Женька устроился в тени прибрежного ивняка. Уткнулся в ладони, представил, как колышется река, как играют на воде солнечные зайчики. Зайчики роились, множились, перекатываясь по зеленоватой толще, расплывались, смазывались…
Разбудило неприятное, чужое и холодное, прикосновение. Будто кто-то провел по спине толстой мокрой веревкой, провел и тут же сдернул; Женька вскочил. В голове еще кружили хлопья сна, еще мерцали зайчики, но он уже чувствовал – произошло (а, может, и до сих пор происходит!) что-то недоброе, нехорошее. Он осмотрелся, окончательно просыпаясь, – окружившие его мальчишки громко хохотали, держась руками за животы, переламываясь пополам. Понятно, что смеялись над ним, но почему?
Женька переводил взгляд с одного лица на другое, натыкался на рты, отвратительно влажные, красные десны, задранные вверх подбородки. Это продолжалось и продолжалось, мальчишки корчились от хохота, а он стоял, глупо и беспомощно улыбаясь, стоял и ненавидел себя, своих обидчиков, ненавидел и еле сдерживал слезы. Понимая, что стал жертвой какой-то гадкой и гнусной выходки каждым нервом, каждой клеточкой ощущая собственное ничтожество, отверженность;. наконец один из мальчишек, тот самый Вовка Каменев, икая и давясь, показал на него пальцем:
– Мы на тебя ужа выпустили…
Переход был слишком резок – Женька моментально представил себе извивающееся змеиное тело, и его тут же тяжело и страшно стошнило. Он даже не успел отбежать, скрыться, и его рвало прямо на золотистый, воздушный песок в самом центре пляжа.
– Что у вас тут происходит? – голос Олега Львовича вонзился штопором во весь этот ужас.
Все притихли, опустив головы, виновато переглядываясь.
– Это что? – палец педагога указал на безобразные пятна. – Это ты, что ли? – в голосе боролись брезгливость и недоверие. – Ты что, охренел?
– Мы ему ужа на спину положили, когда он спал, – несмело проговорил кто-то из мальчишек.
– Ты у меня ужа этого сожрешь сейчас, придурок! – хорошо поставленным голосом воскликнул педагог.
Восклицание немедленно генерировало новые образы, Женька бросился к кустам. Вытирая рот ладонью, он различал приглушенные голоса:
– Так кто же знал, Олег Львович? Мы ж пошутить хотели. Да ничего не будет, мы разберемся…
Женька стоял, отвернувшись, и беззвучно плакал. Сейчас больше всех на свете он ненавидел себя. Ну, почему, почему он такой лузер и размазня! Он не услышал, как подошел Олег Львович, и вздрогнул, когда на плечо легла тяжелая, крепкая рука.
– Жень, ну ты чего скуксился? – воспитатель примирительно хмыкнул. – Плюнь! Ребята пошутили, развлечься хотели… Все, давай, короче – проехали! Того, кто это сделал, я накажу, обещаю. Только и ты, давай держи язык за зубами! Мы ж нашим отрядом на первое место идем, так что, не порть картину! Договорились? по рукам? – он по-приятельски ткнул Женьку в бок, не дожидаясь ответа, удовлетворенно мурлыкнул: – Вот и ладушки…
Женька не верил ушам – до него снизошел сам Олег Львович, один из порфироносного небожительского дуумвирата! лично попросил об услуге! Пообещал защиту! Ради этого стоило пережить позор, перетерпеть этого ужасного ужа, да что там ужа – десять, двадцать ужей! И всю обратную дорогу Женька ловил воспитательские ободряющие взгляды, не было ни насмешек, ни издевательств; надежды, мечты, одна смелее другой, роились в голове. Вот они возвращаются в лагерь, организуется что-то вроде сходки, во время которой «Львовичи» объявляют о его приближенности и неприкосновенности, не такой уж приближенности, конечно, чтобы уж очень – не надо ему никаких привилегий, ни вина, ни карт, ни сигарет, не хочет он и «волчьего» статуса – не такой уж он кровожадный, не злой, не жестокий, – просто с этого момента освобождается от всех этих унизительных кабальных процедур и правил: рукоприкладства, издевательств, продразверстки после воскресных родительских паломничеств.
Увы, все закончилось в этот же день, на вечерней линейке. Совершенно неожиданно Олег Львович велел выйти из строя Вовке Каменеву и перед всем отрядом рассказать о случившемся. Женька не верил своим ушам – они же договорились! он же ему обещал! Надо, надо было вмешаться, что-то сделать, как-то остановить этот кошмар, но язык будто прилип к гортани, ноги приросли к земле, – непоправимое свершалось прямо на глазах! Будто вероломные, дебелые градины, под аккомпанемент смешков и издевательских реплик, падали, звучали немыслимые, ужасные слова!
Ораторским искусством Вовка не отличался, то и дело замолкал, запинался, и стоящий рядом педагог недовольно морщился, кривил губы.
– Ну, что ты мямлишь, Каменев! Повторяй за мной! – Вовка, не в силах сдержать расплывающуюся на весь рот идиотскую улыбку, выговаривал за воспитателем заумные, и оттого еще более обидные, позорные слова:
– Но мы не знали об особенностях пищеварения нашего товарища, и поэтому…
Его речь тонула в хохоте; хохотали все. Мальчишки, те, кого еще совсем недавно Женька считал, если не друзьями, так хотя бы не врагами, зловредные и злоязыкие девчонки, хохотали, отворачиваясь, даже оба «Львовича», уже и не старавшиеся соблюдать приличия.
Женька стоял молча, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, весь красный от отчаяния и стыда. Только теперь он понял, что его просто обманули, все эти заигрывания и авансы – гнусная и хорошо продуманная акция, способ развлечься самим и устроить шоу для остальных.
– …И вот потому, что Женя Ленский живет в одном корпусе со мной, я, Каменев Владимир, получаю три наряда вне очереди, – задыхаясь, повторял Вовка глумливые слова, заглушаемые взрывами смеха.
Слезы жгли глаза. Стараясь не выдать себя, глядя под ноги, Женька вышел из строя, спотыкаясь, побрел к лесу. Вслед раздались какие-то крики, кажется, его звали обратно, но он, не оборачиваясь, только дернул плечом. Никто и никогда не увидит его плачущим – это последняя ступень позора, хуже этого быть не может! И никто и ничто не заставит его вернуться! Он не будет участником этой мерзкой и вульгарной клоунады, оргии унижения, организованной двумя взрослыми, которым он зачем-то доверился.
Женька шел и шел, потеряв счет времени, не разбирая дороги, шел, пока не уткнулся в сетку-рабицу, обозначающую границы лагеря; только тут он остановился, огляделся. Что ж, что и требовалось доказать – ноги привели его туда, где ему хотелось быть больше всего. На небольшую полянку, скрытую от посторонних глаз густой порослью подлеска, – когда-то он набрел на нее, слоняясь по лесу в поисках ягод, и с тех пор полюбил, приходил всякий раз, когда хотелось побыть одному или выдавалась свободная минутка. Здесь все ему нравилось – чистый сухой мох, кольцо сосен, будто под циркуль высаженных идеально ровным кругом, и самое главное, просто жемчужина – небольшой, аккуратный муравейник, заселенный черными муравьями, – забыв обо всем, он мог пропадать здесь часами, наблюдая за жизнью этого маленького государства. Иногда, когда на душе было совсем паршиво, он набирал в спичечный коробок несколько муравьев из «рыжей» колонии и выпускал их внутрь, с каким-то горьким и мстительным злорадством наблюдая, как мелкие, но более многочисленные черные аборигены расправляются с рыжими чужеземцами – с последними он сравнивал самого себя. А что? Такой же большой, неуклюжий, бестолковый, такой же невезучий, никому-не-нужный, – почему! ну почему, судьба бросила его, «рыжего», в «черный» муравейник! Никогда, никогда не прижиться ему здесь! Никогда не стать своим!
Так он и не смог ни с кем здесь сдружиться, не нашел ни одной «родственной души»! – все, как сговорившись, сторонились, даже чурались его. Стоило лишь приблизиться к какой-нибудь компании, компания тут же распадалась, все попытки завладеть вниманием какого-нибудь зазевавшегося одиночки тоже терпели фиаско! – все выглядело так, будто в нем был встроен генератор ультразвука или какого-нибудь специального магнитного поля, отпугивающего окружающих! И – увы! – лагерь был лишь логическим продолжением, очередным доказательством и подтверждением правила, – все то же самое происходило и во дворе, и в школе.
В принципе – ничего нового или необычного, все прекрасно укладывалось в формат злоключений «домашнего мальчика», выдернутого из тепличного своего мирка и брошенного в мир реальности; да! да! он, Женька Ленский – тот самый, хрестоматийный и прописной слюнтяй, размазня, маменькин сынок! Да, родители постоянно на работе, в командировках, воспитание души не чаявшей во внуке бабушки! Музыкальная школа, театр, книги, коллекционирование марок, – в общем, все то же самое, что и везде, что и всегда. Но в его случае еще и более лютое, какое-то избыточное, гипертрофированное. Вкупе с такими же избыточными и гипертрофированными застенчивостью, закомплексованностью вызывающее у окружающих приступы неприятия, неловкости, иногда даже и агрессии; искренность, искательность только усиливали эффект.
Совсем неглупый и достаточно зрелый нравственно и интеллектуально, остро и точно Женька чувствовал свою чужеродность, ненужность; на дрязги пубертатной рефлексии накадывались благоприобретенные (спасибо книжкам!) фантазии, стремление к лидерству. Все смешалось диссоциативной кашей, социализация, приобретение друзей превратилась в идею фикс, точку приложения всех абсолютно усилий и устремлений; стиснув зубы, очертя голову, он пустился во все тяжкие – записался в секцию дзюдо.
Но и дзюдо мало помогло, первоначальный энтузиазм быстро сменился апатией, – ему явно не хватало жесткости, напора и, самое главное – смелости. Он отчаянно трусил еще до схватки, сама мысль о противоборстве вызывала тоску и панику; раз за разом, опустив глаза, уходил он с татами. И не действовало ничего, ни задушевные монологи тренера, ни презрение мальчишек, ни сочувственное молчание домашних.
Так что, на поездку в пионерский лагерь юный Женя Ленский возлагал большие надежды – милосердная судьба дает ему еще один шанс, шанс начать освоение мира заново. Тем горше предстояло разочарование; глупый, маленький дурачок, у него не было этого шанса. У него, вообще, не было ни единого – в мальчишеской иерархии ему отводилось одно из самых низших мест; взявшаяся откуда-то и приклеившаяся кличка «крыса», будто пригвождала к позорному столбу, подчеркивала глубину падения – рослый и синеглазый Женька никак не походил на это мерзкое животное.
Понятно, с таким background`ом нечего было и мечтать о девчонках; единственная его надежда Ленка Грушкова, знакомая по музыкальной школе и, таким образом, как бы демпфирующая настоящее прошлым, вначале, вроде бы, и отнеслась с благосклонностью, но затем, все-таки, отдала предпочтение Сереге Бегунову, одному из «волков» и любимчиков Львовичей.
В глазах Женьки Бегунов был просто грубым, неотесанным хамом, ничтожеством, однако, он не мог не признать, что в сравнении с ним, жалкой «крысой» и откровенным неудачником, его соперник выглядел, по меньшей мере, суперменом. Шумный, уверенный в себе, вечно окруженный приятелями, он был настоящим антиподом Женьки; поговаривали, что он даже ходил ночью на Черное озеро и купался в нем! – только и оставалось завидовать, списывать все на вранье и хвастовство. Потому, что ему, Женьке Ленскому, такой подвиг оказался не под силу.
Черное озеро – заболоченное лесное озерцо, расположенное в дальней дубовой роще и окруженное ворохом всяческих страшилок (однажды черный-черный человек, из черного-черного озера) и баек, что-то вроде туземно-пионерского фольклора. Так, одна из них гласила, что человек, искупавшийся в нем в полночь, якобы, приобретет неслыханную силу и храбрость; венок же лилий из него, якобы, гарантировал бешеный успех в любви.
Женька бывал на этом Черном озере – ничего особенного, лужа и лужа. Ну да, черная из-за илистого дна, грязная, вся истоптанная по берегу копытами колхозных коров, и на сто метров вокруг усеянная засохшими их блинами и смердящая испражнениями, – неизвестно еще, с чем предлагается бороться – с брезгливостью или страхом; только и оставалось, что оттоптаться над глупостью и невежеством придумавших весь этот бред. И, конечно же, полночь, и, конечно же, лилии, и, сюда же еще и любовь – простите, но как-то не вяжется все это с блинами и зловонием!
И, все-таки (о, эта инерция романтизма, коллективного бессознательного!), что-то неясное, ассоциативно-непроговоренное отложилось, засело смутной занозой – а вдруг, а? Ведь проходят шашки в дамки, а пешки в ферзи? – вот так вот раз и готово! Вот так был ты недотепой, неудачником, а потом – раз, и все! и дотепа, и удачник! Нет, ну а почему нет? Ведь есть же что-то такое, «неподвластное нашим мудрецам»!.. Мысли вились, складывались ажурно-радужными разводами, терзали сомнениями и надеждами, то самое неясное, непроговоренное оформилось планами, намерением – в конце концов, романтик победил скептика, Луна – Солнце: почему нет! Он выбрал день (ночь), подготовил фонарик, спички, пару кусков хлеба и плавки – будь что будет, мужчина он или кто!
Впрочем, как только стемнело, решимость как-то сама собой стала съеживаться, и съеживалась до тех пор, пока не улетучилась совсем. Женька представил себе ночной лес, кромешную тьму, безлюдье, непролазную чащу, представил и ужаснулся. А вдруг там леший? нечистая сила?! Нет, ну ерунда, ерунда, разумеется – нет никаких леших! – но страх уже развернулся, уже вязал быстрыми коготочками паутинку отнекиваний, оправданий – и в самом деле! ну что за глупость! Идти куда-то ночью! лезть в холодную, вонючую воду!
И он не пошел. Ни в эту ночь, ни в следующую. Можно было бы и вовсе забыть об этой глупой затее, записав на счет очередной амбициозной блажи, однако, совесть и надежда не давали покоя, воображение рисовало ошарашенные глаза Бегунова и остальных, изумленные Ленки Грушковой, принимающей букет из лилий – вот же черт! ради этого можно было бы и! – разошедшееся воображение продолжало рисовать прочие, не менее соблазнительные картины, и Женька решился – будь, что будет! сегодня или или никогда!
Но случилась эта история с ужом, и ни о каком уже Черном озере и речи идти не может, теперь предел его релокаций – заброшенная полянка и упавшая сосна, предел мечтаний – одиночество и тишина. Чтобы не было никого, чтобы можно было спокойно все обдумать. Хотя, о чем тут думать? что еще может быть неясно? Он – «рыжий», неудачник, вот как эта самая сосна, на которой он сидит. И он, и она – жертвы какой-то злой и непонятной причуды судьбы, выбравшей в огромном множестве вариантов именно их. Интересно, какими принципами она руководствовалась? – ведь вот, рядом много других деревьев, сухих, умирающих, но стихия почему-то выбрала именно это, молодое и полное жизни; а он? чем он заслужил такую «честь»? Чем лучше Бегунов? Или Каменев? Но у них есть друзья, им живется легко, интересно. И нечего рассуждать о карме, о разнице в интеллектах и темпераментах, а сказка о гадком утенке – просто сказка, анахронизм, место которому – в прошлом, в пронафталиненных, поросшим мхом архивах…
А ему только и остается – сидеть и думать, и гадать – что там впереди? чем еще его «наградят-пожалуют»? Нет! ну ведь по всем законам жизни, вероятности – ну, ведь не может же все быть постоянно плохо! черная полоса всегда сменяется – должна сменяться, во всяком случае! – белой! Так, может, и судьба – в конце концов, смилостивится, пошлет удачу, успех? Или, все-таки, забить-забыть-запить, смириться? – типа, что поделаешь, карма такая, повалиться и лежать разбитой сосной на холодной и унылой дороге жизни?..
Здесь сон делает кульбит и Ленский снова оказывается на узенькой тропинке, уходящей вглубь прибрежных зарослей. Вслед за тропинкой в сон вторгается небо, высокое, раскаленное до белизны, миллионы звуков, густая, одуряющая истома лета. Словно ветер времени вернул детство, и снова, как когда-то – сладость разомлевших цветов, терпкий аромат ежевики, едва уловимой речной свежести. Зрение, внезапно ставшее панорамным, дарит этот день во всем его июльском великолепии: грациозные сосны, застывшие зелеными кронами в знойном струйчатом мареве, широкое раздолье луга с инкрустациями красавцев дубов, пара буслов, фарфоровыми статуэтками замерших вдалеке…
Но тут пауза срывается действием, инерция сюжета тянет дальше, вперед – надо бежать, надо нырнуть вслед за Вовкой! Надо, но ноги тяжелеют, будто прирастают к земле, страх сковывает, подчиняет, обездвиживает – он не пойдет! не пойдет! Повсюду, на каждом шагу – змеи! Ему уже пообещали, что именно так и его накажут – бросят в лицо ужа, и он знает: «эти», «они» выполнят свое обещание – таковы правила! таков закон их подлого бандитского мира! При одной только мысли об этом ужас, отвращение душат, подступают тошнотой, и хочется вырваться, убежать, хочется спрятаться где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь там, где наверняка не бывает, не может быть никаких змей! И хуже всего – то, что – да! да! эти мизерабли, эти ничтожества угадали, вычленили из всех его страхов самый большой, самый жуткий, и поняли – он им позволил! сам! – бинго! О, Господи! кто бы знал, как он ненавидит всех их! Всю эту шушеру, дрянь, всех этих клоунов, ломающих из себя великих умников и мафиозо – его едва не вырвало, когда вчера Сашка Михаленко по кличке Гога и Олег Холодов, приказавший всем называть себя Холод, оба «волки», оба любимчики Львовичей, подчеркнуто серьезными и громкими (ну, клоуны же! клоуны! мизерабли!) голосами рассказывали друг другу, что именно в таких местах и водятся змеи; вообще, эти места так и называются – змеиные. Так что, повезло еще, что Камню (Вовке Каменеву) попался уж – с таким же успехом это могла бы быть и гадюка, а уж тогда кому-то – ох! (глумливо-дебильные ухмылочки, плотоядные гримаски) – пришлось бы несладко…
«Там их тьма-тьмущая, кишмя кишат!», – кричал один другому, вроде бы, как и не замечая Женьку. – «И любят, гады, взбираться на ежевичные кусты – ни за что от ветки не отличишь!» – вторил ему другой. – «Вот в прошлом году так один парень и скопырдился! Шел-шел себе, бедняга, рыбу ловить, задел куст, а на нем – змеюка. Ну, она его и цап его за шею, он – и в аут; так коньки и откинул, скорой не дождавшись. Шея распухла, дышать не смог, задохнулся у друзей на руках».
Наверно надо было встать и уйти, но Женька зачем-то слушал. Слушал, слушал и фантазия изображала услышанное, раскрашивала, озвучивала, живописала. Вот юноша, почему-то очень похожий на него, беззаботно напевающий что-то себе под нос, идет по тропинке, очень похожей на ту, что они прорубили в зарослях. Идет себе идет, задевает куст, и куст вдруг оживает, и одна из ветвей, неестественно толстая, гибко упругая, обнажает два длинных смертельных клыка и бросается на него. Один бросок, другой… Парень роняет удочки и медленно, спотыкаясь, как слепой, бредет вперед, лицо его искажено гримасой ужаса и боли. Каждый шаг дается ему с трудом, он выходит на берег и падает на песок, прижимая руки к ране, не в силах произнести ни слова. Друзья бросаются к нему, тормошат, пытаются помочь, но все тщетно, глаза их друга медленно закатываются. Шея его безобразно распухла и посинела, он дышит неровно и со свистом, все реже и реже; затем следует короткая агония, и бездыханное тело остается лежать на вмиг обезлюдевшем пляже. И только вода тихо плещется о берег, и только ветер треплет безвольные пряди его волос…
Эта картина преследует Женьку до сих пор, воображение нарисовало ему все это гораздо красочнее, чем рассказывали Гога и Холод, хотя тогда, в корпусе, он и вида не подал, что даже слушает этих дураков. Вот уж повезло – богатое воображение! какая ему от этого польза! Именно из-за этого он и не может сейчас спуститься на пляж!
Сердце готово выпрыгнуть из груди, пот струйками по спине. В конце концов, мужчина он или нет?!
Женька сжал зубы и постепенно, шаг за шагом, прошел вглубь. Солнце почти спряталось, узенькая тропинка теряется под ногами, – так, поднять руки, вытянуться, сделаться тоненьким-тоненьким, как хворостинка, как прутик лозы, и прозрачным, и невесомым, как перышко, и шаг за шагом, шаг за шагом – туда, вглубь, дальше, вперед, навстречу проблескивающему сквозь листву апельсиново-розовому, голосам. Очень хочется закрыть глаза, но так можно оступиться, задеть какую-нибудь ветку – страх уходит в ноги, в пятки, прорывается вибрациями, готовыми перейти в конвульсии, – вот! наконец-то! последняя приступка, последний поворот, брызги света, победа! О, Господи! победа!..
Заметив его, вчерашние приятели что-то кричат, но ветер стирает, уносит их слова. А может, сон щадит его перед другим, на этот раз по-настоящему смертельным, испытанием?
Женька сбросил одежду и не спеша, притворяясь, что не больно-то и хотел, заходит в воду. Она здесь прозрачная, кристально чистая, со стайками мальков вдоль берега, и темнеющая зеленью дальше, на глубине.
Он заплыл на середину, подальше от всех, лег на спину. Очень удобно, если устанешь, можно лежать без движения, хоть час, хоть два. Но он не устал, просто здесь хорошо, лучше, чем на берегу. Прямо над ним пушистые низкие – кажется, руку протяни и достанешь – облака, лимонно диск Солнца в прозрачной необъятной синеве. Впрочем, синева уже не такая и прозрачная, все больше и больше наливается мутью, тяжестью; Женька приподнял голову над водой, осмотрелся. Ага, и облака – сгустились-уплотнились, кучкуются тучками, и пропали куда-то вездесущие ласточки, – гроза? будет гроза? – память немедленно отреагировала песенкой охотника из «Красной шапочки»: «…как говориться, быть беде…».
Он вышел на берег, сел на полотенце. Стало ощутимо прохладнее, песок уже не жег пятки, как пару минут назад. Женька зачерпнул его в ладонь, смотрел, как тонкая струйка уносится ветром – последние его минуты, незримый меридиан, разделяющий жизнь на «до» и «после».
С дальней части пляжа доносились возбужденные крики, – Олег Львович выдернул из воды узкую, бьющуюся на солнце серебристым лезвием, рыбу. Везет же! Женьке всегда нравилась рыбалка, но больше всего он хотел бы ловить рыбу вот так, на спиннинг – чем-то напоминает поединок мирмиллона и ретиария, пусть, увы, и приземленных, буквализированных действительностью. Вот бы хоть разок попробовать, забросить спиннинг! – он знал – попроси он сейчас Львович, тот не отказал бы, но при одной мысли поднимается в душе горькое, горячее – ну, уж нет, только не после вчерашнего! После вчерашнего… Что? что после вчерашнего?
Песок с ладони начало срывать, и Женька встрепенулся, оглянулся по сторонам. День померк. Блики на воде побледнели, облака налились свинцом, листва тревожно билась на ветру.
Подбежал Олег Львович, отворачиваясь от песка, летящего в глаза, закричал:
– Что ж ты сидишь?! Не видишь – ураган! Собирайся быстро!
Женька в два счета оделся, едва успев спасти полотенце, согнувшись, словно под обстрелом, побежал за всеми. Проход он преодолел почти бегом, подталкиваемый в спину железными руками воспитателя, и даже не заметил, как оказался на лугу.
Теперь небо уже все было угрюмого, грифельного цвета, луг тоже потемнел и, словно уменьшился.
– Ну, сейчас даст! – восхищенно и зло прокричал Олег Львович. – Вот же, блин! Метео, говнюки! Хоть бы предупредили! Все за мной, – скомандовал он. – Вот по этой тропинке, нога в ногу, бегом марш!
Мальчишки побежали, и Женька, конечно же, оказался замыкающим. Впрочем, так было даже лучше – ведомым быть всегда легче.
Где-то совсем близко – ощущение такое, что прямо внутри головы – раскатился гром, и сразу же, будто кран открыли, хлынул дождь, и Женька промок вмиг, за секунду. Фигура бегущего перед ним, как-то странно вильнула, метнулась в сторону, протерев глаза, он увидел всю компанию под дубом, похожим сейчас на огромный зеленый зонтик, раскрытый на спицах ветвей. Все кричали ему что-то, призывно жестикулируя, но обида, злость развернули в обратную сторону, к такому же дубу, по другую сторону тропинки; почему-то вспомнились бабушкино выражение: «Велика честь!». Ни за что, никогда в жизни не станет он для этих людей товарищем, пусть даже и по несчастью!