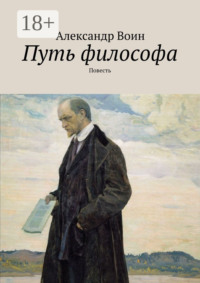Loe raamatut: «Путь философа. Повесть»
© Александр Воин, 2023
ISBN 978-5-4474-4833-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Судьба
Начало этой истории определить нелегко. Внешне, чисто формально, оно выглядит так. Не имея философского образования и никогда прежде не проявляя интерес к философии, как к дисциплине, я вдруг в возрасте 43 лет уволился из фирмы, где работал инженером и, так сказать, хорошо сидел, с приличной зарплатой и перспективами, и, оформив на полгода пособие по безработице, засел писать собственную философию. Поступок сей был совершенно непонятен окружающим, воспринимался ими как внезапное затмение рассудка (рассматривать его, как проявление врожденного идиотизма мешало то обстоятельство, что я был хорошим инженером) и я не мог привести сколь-нибудь внятное объяснение ему. Внутренне же я шел или точнее невидимая рука вела меня к написанию моей философии всю жизнь, начиная практически со дня моего рождения.
В год моего рождения, роковой 1937-й, когда мне было только 10 месяцев, был расстрелян мой отец. Он был третьим, не то вторым секретарем горкома Киева при Кассиоре и это определило его судьбу. В дополнение к этому он подписал себе смертный приговор тем, что отказался выполнить указание сверху и уволить из партии двух товарищей, сказав, что он знает их как честных людей. Он понимал, что не спасет их этим, но он сам был честный человек. Он верил в идею и служил ей не за страх, а за совесть. Впрочем, его судьба была бы той же самой, если бы он забрался в то злое время на место секретаря горкома карьеры ради. Его – да, но не моя. На мою судьбу и на дороги, которые я выбирал в жизни, всегда оказывало влияние то, что я знал, что мой отец был до конца честным человеком.
Так я чуть не со дня рождения стал сыном «врага народа» и при этом был воспитан матерью, также как отец верившей в идею, в этой же самой вере. Как это увязывалось со смертью отца? Очень просто. Смерть отца была трагической ошибкой. Так это подавалось мне, пока я был еще совсем маленький. Потом ошибка начала медленно трансформироваться в преступление одного человека – Сталина. Идея при этом еще долго продолжала оставаться не запятнано верной. Воспитание на вере в идею с одновременно заложенной под эту веру миной были первыми обстоятельствами, медленно, но верно направившими меня по пути создания в отдалённом пока будущем своей философии. Человек, который ни во что не верит с рождения, никогда не обратится к поиску смысла жизни и правильного устройства общества. Человек, который верит от рождения в некую идею, не имея оснований усомниться в ней, никогда и не усомнится. Меня же судьба изначально готовила к поиску новой веры.
Следующей вехой на этом пути был 51-й год, когда посадили «за политику», по 58-й статье мать и брата. К «политике» на самом деле имел отношение только брат. Он таки вступил в антисталинскую организацию, (было тогда таких штуки 2—3 на весь Союз), именуемую, кстати, «За дело Ленина» и планировавшую даже убить Сталина. Организация была обречена на провал, ибо с момента создания в ней уже был провокатор. Мать посадили за брата по принципу «дедку за репку». Посадили и «бабку за дедку», т.е. мою безграмотную няньку Мотю за то, что отказалась оговорить мать и брата. «Они же жиды» – сказал ей следователь. «Воны хоть и еврэи, алэ лучши за вас» – ответила Мотя и загудела на 10 лет вслед за матерью. Меня не посадили только потому, что мне в тот момент было только 13 лет. Буде исполнилось бы 14, посадили бы и меня. Это событие в принципе ничего уже не изменило в формировании моей личности, только добавило страстности идейной. Сталина я с тех пор мечтал убить, когда выросту. Правда, не успел, он умер, когда мне было только 16. Но в идею социалистическую я продолжал пока безоговорочно верить.
Следующее направляющее воздействие «неведомой руки» было уже совсем с другой стороны. Впрочем, надо раньше сказать о некоторых вещах, в которых гораздо меньше чувствуется «направляющая рука», но без которых история не будет полной.
В отличие от моего брата, вундеркинда, с 5 лет читавшего свободно книги и подававшего всякие надежды, я не только никаких надежд с детства не подавал, но, отводя меня в первый раз в школу, мать предупредила мою будущую учительницу Антонину Алексеевну: «Обратите внимание на моего ребенка, он тупой». Та потом долго на всех родительских собраниях вспоминала это, добавляя, что обычно матери в таких случаях говорят, что на их ребенка нужно обратить особое внимание, потому что он способный, но застенчивый и т. п. Тупым мать меня считала потому, что, в отличие от брата-вундеркинда, я до школы не хотел выучить ни одной буквы, как ни билась надо мной она, а особенно моя нянька Мотя. Та была именно моя нянька, а не моего брата и моя неуспешность в сравнении с его успешностью воспринималась ею как личная обида. «Ця мала дытына и тый здоровэцький» – говорила она о нас. «Мала дытына» никак не хотела тянуться за «здоровэцьким». Впрочем, одну букву я все-таки выучил до школы – букву «З». Потому что она похожа на цифру 3. А цифры я почему-то усвоил сразу все.
Но, в школе я сразу начал учиться нормально. Ну, там, на трояки, но не на двойки. А к концу первого класса я вылез на четверки и пятерки и, так и не превратившись в отличника, прокатился через всю школу эдакой вполне благополучной, но ничем не примечательной личностью. Кстати, мой сын повторил меня в этом. Он тоже до школы не хотел выучить буквы, и мать его говорила мне: «Твой сын (он сразу стал только мой, а не ее тоже) – тупой». Я успокоил ее своим примером и заверил, что, как только он пойдет в школу, все исправится, что и произошло.
Правда, при более пристальном внимании можно было бы разглядеть во мне и тогда потенциал для будущего. Проявлялся он в том, что хоть я и не был отличником, но свои четверки-пятерки получал очень уж легко, не прилагая к тому ни малейших усилий. За десять лет школы я никогда никаких домашних заданий не делал дома. Для устных мне хватало того, что я услышал на уроках, письменные – делались на переменах или на предыдущем уроке к следующему. Но некому было обратить на это внимание. Мать после смерти отца одна тянула меня, брата, бабку – свою мать и Мотю, ставшую членом нашей семьи, и чтобы прокормить всех работала денно и нощно. Другим, вообще, до этого не было дела. Да и не каждый, кто обратил бы внимание на эту мою особенность, мог бы узреть в ней какие-либо надежды на будущее. Ну а сам я и вовсе не интересовался, есть ли у меня потенциал или нету. Детская жизнь с лесом, рекой, играми и драками была увлекательной и без потенциала.
Впрочем, человек в этом возрасте формируется и проявляет себя не только в школе. Но и вне школы, я долго был «как все», как подавляющее большинство моих сверстников в классе, в доме, на нашей улице и т. д. В отличие от брата, который учился в музыкальной школе игре на аккордеоне, участвовал в школьном, а затем и городском драматическом кружках, был комсомольским деятелем и многое прочее, я решительно ни в чем таком за время школы не участвовал и ни чему не учился за её пределами. Придя домой со школы и ещё не закончив наспех заглатывать картошку и котлету, поданные мне Мотей, я слышал с улицы вопль кого-нибудь из моих друзей: «Алик! Выходи!», запихивал оставшуюся часть котлеты целиком в рот, хватал недоеденный кусок хлеба и низвергался по лестнице на улицу, на ходу натягивая пальто, если была зима, и слыша вдогонку крик Моти: «Алик! Застебнысь, бо простудышся!» Так пролетали дни и годы.
Впрочем, начиная с 5-го класса, какие-то признаки самостоятельной интеллектуальной и духовной жизни начали проявляться и у меня. В целом наша семья, т.е. мать и брат, была весьма книжная. Книги покупались и по одной и собраниями сочинений, брались в библиотеках и у знакомых. Мать всегда очень занятая, всё же находила время почитать хоть перед сном, брат же, если был дома, читал их непрерывно: во время еды, в туалете, расхаживая по комнате и, кажется, даже моясь в ванной. Его манера кушать с книгой раздражала маму и Мотю. Мотя усматривала в этом неуважение к её поварским трудам, мама, имея мало времени общаться с нами, хотела, чтобы мы, т.е. прежде всего Феликс, разговаривал с ней за обедом или ужином, а не сидел, уткнувшись носом в книгу, не слыша её слов. Его просиживание часами в туалете с книгой раздражало уже всех, кому туда надо было. Но раздражение всегда сдерживалось пониманием, что ему это надо, всё это окупится с лихвой. Во всяком случае, в доме у нас всегда было полно книг и в книжных шкафах, и на полках, и разбросанных где попало, раскрытых или заложенных закладками. Но я в них до поры до времени не заглядывал, и это воспринималось всеми даже более естественно, чем непрерывное чтение моего брата. Мать была довольна уже тем, что её не вызывают в школу и не жучат за младшего сына – двоечника. Так что никто не пытался ни приохочивать меня, ни тем более заставлять. И, слава Богу. Ибо теперь, зная себя, я понимаю, что это пошло бы мне во вред и только затормозило развитие, очень уж не терпит моя натура принуждения.
Но вот однажды зимним вечером, когда на улице была отвратительная погода, и не слышно было воплей «Алик! Выходи!», я поточил какое-то время лясы с Мотей на кухне, пока она не начала клевать носом и не задремала сидя, потом от нечего делать сунул свой нос в книгу, которая лежала на столе открытой. Это был толстенный потрепанный том со страницами, покрытыми мелким шрифтом с ятями. Называлась она, насколько помню, «Судъ Шемякиных». Это была какая-то страшная нудьга из жизни дореволюционного мещанства с судебными тяжбами и т. п. Решительно не могу сейчас восстановить, что меня тогда в ней заинтересовало, только почитав её немного с середины, я перешел к началу и читал её весь тот вечер и последующие дни, пока не кончил. Через пару дней застал меня за этим занятием мой братец и, весьма удивившись, сказал: «Ну, раз уж ты начал читать взрослые книги (до этого я все же прочел несколько сказок из числа тех, что мама покупала мне на дни рождения), то пора принести тебе чего-нибудь настоящего». И он принес мне «Овода» Этель Лилиан Войнич. Я до сих пор благодарен ему за это. Он очень точно угадал, что подойдет моей натуре. Книга захватила меня и с тех пор, я стал человеком читающим. Ну не так обильно, как мой брат, – я, по-прежнему, принимал участие во всех дворовых играх, драках дом на дом и улица на улицу, походах в лес за грибами и ягодами, рыбалках и т.д., о чем нисколько не жалею, оглядываясь назад. Но находил время и для чтения. Главное же, под руководством брата у меня быстро и на всю жизнь выработался хороший (так я считаю) литературный вкус и я не только привык читать хорошие книги, но, что не менее важно, – не читать плохих.
Конечно, без хорошего литературного вкуса и без хорошей начитанности может получиться только преподаватель философии в университете, долдонящий свое «субстанция, как инстанция» и прочее в этом роде, но не настоящий философ. Но надо сказать, что зацепил я в детстве, в этот начальный период чтения и чуть-чуть собственно философии, с помощью того же братца. Среди первых книг, которые он дал мне читать после «Овода» была одна под названием «Философия древней Греции». Не могу сказать, что, прочтя её, я воспылал любовью к философии и начал клянчить у брата, чтобы он принес ещё философских книг или пытался найти их сам. С этой формальной стороны как раз, наоборот: за всю свою жизнь до того как я создал собственную философию и написал «Неорационализм», я не прочел, кроме этой, ни одной философской книги. Кроме, естественно, некоторых книг классиков марксизма, которых, опять же, не прочел именно, но вынужден был заглядывать в них, скажем, перед сдачей экзамена по философии в аспирантуре. Зато я воспринял великих греческих философов так, как они, наверное, хотели, чтобы их воспринимали читатели. Именно из этой книги я почерпнул не информацию, что вот, мол, древние греки говорили или учили, а руководство к своей собственной жизни. Я понял, что не вообще там люди должны стремиться к гармонии, развивать себя в этом направлении, а лично я должен развивать себя так, и так-таки и развивал себя с тех пор. В сегодняшнем нашем мире особенно, но и тогда была установка на результат. Вот если есть у тебя, скажем, данные для тяжелой атлетики, так и развивай в себе способности поднимать тяжести, а не занимайся бегом, к которому у тебя нет способностей. А древние греки, так как я их понял, учили прямо противоположному: если ты от природы здоровый, но тяжеловесный и неуклюжий бугай, то нечего качать мышцы, они у тебя и так здоровенные, качая их, ты станешь окоченелым бревном. А лучше займись бегом и гимнастикой, чтоб стать одновременно и легким и ловким. Я, кстати, с 15 лет оформился в широкогрудого здоровяка, сильного, но неуклюжего, тяжеловатого и без координации. У меня хорошо шла классическая борьба и через два месяца после начала занятий ею, я почти на равных тягался со своим тренером. Но я ограничился этими двумя месяцами, зато два года занимался гимнастикой, которая шла у меня плохо. В результате я не только сделал 3-й разряд и работал по 2-му, но таки развил координацию. А потом ещё занимался бегом, чтобы стать полегче.
Ещё более с тех пор я стремился к гармонии, к гармоническому развитию в сфере духа. Последнего слова я тогда, правда, не употреблял, да и сейчас употребляю его в этом контексте, не найдя лучшего. Я имею в виду, что, например, у моего брата с детства был хороший музыкальный слух, и он учился играть на аккордеоне и играл. Но я не помню, чтобы он когда-нибудь, став взрослым, ходил в филармонию на симфонические концерты. И дома не слушал ни с пластинок, ни с магнитофона симфоническую или камерную музыку. Точно так же, будучи страстным книгочеем, не проявлял ни малейшего интереса к живописи. У меня же с детства слуха не было никакого. Но, став студентом и живя на одну стипендию (мать и брат сидели и помощи мне ни от кого не было), я умудрялся выкраивать и на оперный театр и на филармонию, не говоря уже о музеях живописи. Сначала восприятие классической музыки давалось с трудом (с живописью было легче – я в детстве сам неплохо рисовал). Зато сколько и какого удовольствия доставила мне музыка и живопись в дальнейшей жизни. Но и к философии все это имеет отношение. Как, впрочем, и то мое ещё оторванное от всякого искусства детство с лесом, рекой, играми, а самое главное с чистой детской дружбой. Ведь философия должна включать в себя всё, всё хорошее, что есть в этой жизни.
Таким образом, хоть тут и трудно усмотреть руку провидения, но так ли, сяк ли, и на этом этапе моей жизни я двигался к неведомой мне пока цели.
К концу школы в 9-м – 10-м классах начали во мне проявляться и какие-то способности, выделяющие меня из среды одноклассников. Я, правда, так и не стал отличником, но был не просто лучшим по математике в школе, но с заметным отрывом от остальных. Наш математик давал нам кроме обычного задания на дом, задачки повышенной сложности только для тех, кто хочет. Было 3—4 человека, которые вообще пытались их решать. Но только я решал их всегда и всегда правильно и без особого труда. Проблескивали во мне и какие-то способности к литературе, и наша литераторша говорила мне, что если бы я не был такой ленивый, из меня мог бы выйти толк. Но, тянуло меня больше к математике и я осознавал уже, что здесь у меня, так сказать, потенциал. Короче, казалось бы, дорожка моя после школы явно вела на мехмат университета. Но тут уже перст судьбы выступил достаточно явственно. Наш математик – совсем неплохой преподаватель, тем не менее, не позаботился дать нам понятие, что за пределами алгебры, геометрии и тригонометрии есть ещё целый океан высшей математики, а начал оной тогда в школе не проходили. И мысль о том, что по окончании мехмата я всю жизнь буду заниматься теоремой Пифагора, отвратила меня от этого моего естественного выбора. И я подался в Политехнический Институт на механический факультет и стал инженером-механиком.
На первый взгляд может показаться, что с точки зрения философии, как конечной цели, это – промах судьбы. На самом деле это не так. Дело в том, что в мире признаны два способа познания и, соответственно, мировосприятия: научный и художественный. Каждый имеет свою сферу применимости, но поскольку философия охватывает все сферы, то хороший философ должен владеть обоими. Но на самом деле существует ещё третий, вполне самостоятельный и важный если не способ познания, то подход к решению проблем и тип мировоззрения – инженерный. Может показаться, что инженерия – это лишь приложение науки, прикладная наука. В действительности у инженера – весьма отличное от ученого отношение к действительности. Учёный познает действительность, инженер творит её. Разницу между инженерным и научным подходом хорошо иллюстрирует история с колумбовым яйцом. Колумба, якобы, как-то раз спросил некий мудрец, типа ученый, может ли он поставить яйцо вертикально, чтобы оно не упало. «Могу» – сказал Колумб. Хлопнул попкой яйца об стол, так что она смялась и стала плоской, и яйцо осталось стоять. Это типично инженерное решение. Чистый ученый заявил бы, что это не решение, потому что яйцо перестало быть яйцом по определению. А чистый философ из породы наяривающих в ученость перед аудиторией далекой от науки, пустился бы еще в рассуждение о том, что есть яйцо и что произошло раньше: яйцо или курица. Инженер же подошел бы в данном случае к делу с точки зрения, а что собственно, нам нужно? Нам нужно в данном случае, чтобы яйцо осталось яйцом по определению, а, следовательно, без деформации, или же устраивает его деформация в определенных пределах, а главное, чтоб оно стояло? И не вызывает сомнения, что именно инженерный подход в этом случае верен.
Вот эта установка инженера на решение проблемы, а не только её изучение, решение её любым путем, в смысле научным или интуитивным, но главное чтоб работало, она очень важна, как мне кажется, и для философа. Для настоящего философа, философа из числа тех, чьи философии изменяли мир, а не только «субстанция как инстанция». Особенно сегодня, когда человечество остро нуждается в решении проблем, философских по своей природе, стоящих перед ним, а большинство философов стоит на позициях, что философия никаких проблем не решает, а только обсуждает их.
Заставив меня пройти инженерную часть пути, моя судьба всё же заботливо привела меня затем и к научному этапу. По окончании института меня, хоть я был лучший студент на факультете и даже сделал уже научную работу, за 5-ю графу распределили на механический завод детских игрушек, в то время как моих менее способных товарищей распределяли на солидные предприятия «Большевик» и т. п. И зарплату я получал минимально возможную для инженера по тем временам – 70 рублей, когда остальные получали по 100—110. Но не зарплата меня уедала, а то, что, чувствуя в себе силы и большое желание к их реализации, я должен был заниматься презренными детскими игрушками. Кстати, на поприще производства игрушек я сразу преуспел, но душа моя томилась и рвалась оттуда. Уйти, однако, было не просто, т.к. по закону я должен был оттянуть там 3 года. В результате я вынужден был искать на стороне приложение своей молодой, буйной интеллектуальной силушке. И в этом поиске набрел на цикл лекций по математическому аппарату кибернетики, который читал в Доме Научно Технической пропаганды Киева великий Глушков. Он тогда ещё не слыл великим, но, безусловно, уже был им. Это вне сомнения был перст судьбы. Глушков читал великолепно, вдохновенно. Никогда ещё раньше и никогда позже я не сталкивался со столь блестящим лектором и одновременно блестящим ученым. Холодный блеск математической мысли заворожил меня. Моя затаенная тяга к математике, которая проявилась уже в школе, и вновь вспыхнула в институте, когда я выяснил, что за пределами элементарной есть ещё намного более увлекательная высшая математика, на сей раз, захлестнула меня с головой и во мне начало зреть желание любой ценой прорваться в науку. Я готов был мыть полы, но только в научном учреждении. Лекции Глушкова имели и прямое отношение к моей будущей философии. Среди прочего он изложил, как и все прочее блестяще изложил, и основы аксиоматики. Аксиоматический подход стал впоследствии частью моей теории познания и «Единого метода обоснования».
Практическая реализация желания уйти в науку оттянулась из-за того, что через год руководство завода игрушек удовлетворило мою давнюю просьбу, отпустило меня и я устроился на станкозавод, присоединившись к своим соученикам «арийского» происхождения, чем удовлетворил свое предыдущее стремление к интересной инженерной работе. Ещё год у меня заняло самоутвердиться на новом месте и проявить себя в серьезной конструкторской работе, а когда я достиг этого, то увидел, что теперь мне это уже не интересно, и моего возрожденного желания уйти в науку не отменяет и не перебивает.
Нормальный путь вхождения в науку в этой ситуации состоял в получении заочно второго высшего образования на мехмате университета. Точнее был и гораздо более простой путь: меня к этому времени уже приглашали в аспирантуру на кафедру станков в мой родной КПИ. Но наука о станках для меня не была наукой, как и любая другая, далекая от высокой математики. Потратить ещё 5—6 лет на заочное обучение было тоже не по мне и я придумал третий путь: я решил поступить в аспирантуру на кафедру теоретической механики. С одной стороны я имел формальное право поступать туда, поскольку «теоретическая механика» и «инженер-механик» вроде бы имеет что-то общее, и я проходил эту механику в Политехе. С другой стороны теоретическая механика, безусловно, связана с математикой. Кроме того, думал я, стану кандидатом, а там уже буду кантоваться дальше в сторону более чистой математики.
Для начала я подался на кафедру теормеха в родной КПИ, но зав кафедры, прибывший в Киев недавно из России, сказал мне, что он лично ничего против евреев не имеет, но не может даже перевести сюда двух своих аспирантов-евреев, не то, что взять меня. Не знаю, как это увязать с тем, что на кафедру станков того же КПИ меня приглашали: врал ли зав кафедры или это были тонкости советского (украинского) официального антисемитизма – сюда не пускали, туда пускали? В любом случае, и в этом и в том, что я после этого неизвестно почему выбрал кафедру теормеха Ленинградского Политеха, опять был перст судьбы. На первый взгляд, какая разница: одинаковая кафедра в одинаковых институтах, только города разные. Как выяснилось, разница была огромной. В КПИ кафедра теормеха была при механическом факультете, готовившем инженеров механиков и никакой наукой там тогда (не говорю про сейчас) не пахло. И курс, который там читался студентам, был урезан буквально до механической азбуки. В Ленинграде же эта кафедра была при физико-механическом факультете и была частью школы великого А. И. Лурье, лучшей в Союзе, а может быть и в мире школы механиков-теоретиков. Эта кафедра и кафедра аналитической механики, которой заведовал сам Лурье, готовила не инженеров, а ученых механиков, лучших в Союзе. Лучших, чем готовил мехмат МГУ. О разнице между тем и тем свидетельствует, например, история, случившаяся, когда я приехал в Ленинград сдавать вступительный экзамен.
Меня вызвали на этот экзамен, и я получил под него оплачиваемый месяц отпуска, полагавшийся раз в жизни каждому, желающему поступить в аспирантуру. Вызвали на основании моего реферата, представлявшего самостоятельную научную работу – исследование оригинального механизма. Но, на мою анкету зав кафедры Джанелидзе не обратил внимания. Он был крупный ученый и мог себе позволить плевать на анкетные данные, в частности на 5-ю графу и поскольку мой реферат его устроил, то он заглядывать в анкету не стал. Но когда я приехал, он спросил меня, что я окончил, и, услышав, что мехфак КПИ, сказал мне, что я не туда ломлюсь. «У нас тут, видите ли, теормеханика – наука. Вы даже не представляете, какая это разница. Вам подойдет на кафедру теории механизмов и машин. Вот выйдете и идите по этому коридору в противоположный конец его и там справа есть кафедра ТММ. Скажете заведующему кафедры, что я вас прислал с рекомендацией по вашему реферату».
Такой прием настоль ошеломил меня, что я вышел и пошел по коридору. К счастью, коридор был длинный, как бывают коридоры только в институтах. Пока я шел, я успел унять сумбур в мыслях и сообразить, что кафедра ТММ нужна мне не более, чем кафедра станков, на которую я мог попасть, так сказать, не выходя из дома и без всяких экзаменов. Я вернулся и сказал Джанелидзе: «Видите ли, Вы выслали мне вызов, я получил под него раз в жизни положенный оплачиваемый отпуск и я хочу сдавать экзамены. Если я Вас не устраиваю, так завалите меня на экзамене».
Джанелидзе имел широкую душу, помещавшуюся в ещё более обширном теле. Когда он шел по институтскому коридору, размахивая по сторонам своим брюхом, ни обойти его, ни пройти навстречу было невозможно, встречные были вынуждены прятаться в аудиториях. Моя наглость ему понравилась. «Хорошо – сказал он – я приму у вас экзамен, но не по программе КПИ, а по нашей, по учебнику Лойцянского и Лурье (трехтомного, как я узнал впоследствии, с толстыми томами, в то время, как в КПИ нашим официальным учебником была тонкая книжечка, а на самом деле, нам хватало конспекта лекций, где из этого учебника извлекалась малая часть). А чтобы быть справедливым в отношении Вас я дам Вам на подготовку к экзамену по специальности 25 дней, а на английский и историю партии (не то основы марксизма-ленинизма – не помню) – оставшиеся 5. Кроме того, если у вас будут вопросы, можете приходить ко мне консультироваться». И я отправился в общежитие зубрить три тома Лойцянского и Лурье.
Я трижды приходил к Джанелидзе на консультацию. Первый раз я сказал: «Смотрите, вот в этой теореме Лурье декларирует то, то, то и то (теорема была длинной чуть ли не на страницу, не считая доказательства), а доказывает то, то и то, а вот этого не доказывает». Джанелидзе посмотрел и говорит: «Да, действительно, вы правы». Другой раз я сказал: «Вот тут принцип виртуальных перемещений изложен как-то невнятно». «Да – загорелся Джанелидзе – я излагаю его иначе». И изложил. «Так лучше» – сказал я. Джанелидзе был польщен. О чем я консультировался 3-й раз, я не помню, но впоследствии я узнал от секретарши, что после моего ухода Джанелидзе сказал: «А что, он, пожалуй, поступит». Фактически это уже решило мое поступление, но, тем не менее, был экзамен по специальности и два других.
Перед экзаменом по специальности я сидел в приемной вместе с двумя своими конкурентами (место было одно). Одна была после мехмата университета, а другой выпускник физмеха самого ленинградского Политеха. В беседе между собой они бросались терминами: якобиан, гамильтониан, слыша которые, у меня екала селезенка и опускалось сердце. До этого я не встречал таких даже в учебнике Лойцянского и Лурье. «Куда я лезу? – думал я. – С кем я собираюсь конкурировать?» Но когда они начали отвечать на билеты, выяснилось, что они путаются в таких соплях, как Кориолисово ускорение и т. п. Когда пришла моя очередь отвечать, я был уже без конкурентов.
Два дня перед экзаменом по марксизму я провел в библиотеке, обложившись горой книг и заглядывая в них наудачу туда-сюда. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы пристойно сдать марксизм на четверку. Но английский, который я знал слабовато даже для КПИ (а в Ленинграде требования были несравненно выше), за 3 дня выучить было невозможно. На экзамене англичанка, выслушав мои беканья и мэканья по билету, сказала: «Два» и потянулась к зачетке. Но представительница кафедры, присланная на экзамен Джанелидзе и сидевшая по другую сторону от англичанки, успела перехватить ее руку и что-то зашептала ей на ухо. Англичанка скривилась, как обожравшись лимонов, и сказала: «Хорошо, вот вам ещё вопрос». Опять последовали мои бэкания и мэкания. «Хорошо, три» – сказала англичанка с омерзением. Опять стремительное движение представительницы кафедры и «Шу-шу-шу» на ухо. «Ладно, ставлю четыре. Но учтите, через год у вас кандидатский по английскому и там я с вас не слезу».
Так я поступил в аспирантуру. Затем последовал героический труд, ничего близкого к которому я до этого в жизни не знал. Лойцянский и Лурье были ещё цветочки. Нужно было менее чем за год освоить пятилетнюю мехматовскую программу по математике, плюс ряд специальных курсов и нужно было выходить на передний план науки в той области, где я собирался, точнее это Джанелидзе определил мне, делать диссертацию – в области нелинейных колебаний. А через полтора года как раз в середине моей аспирантуры Джанелидзе умер от инфаркта. Для аспиранта смерть шефа посреди срока аспирантуры – трагедия. Я не только не успел ещё определиться с темой диссертации, но даже не вылез на передний край нелинейных колебаний. В этой ситуации выбрать самому себе ещё не решенную, актуальную задачу, такую, чтобы её вообще можно было решить и самостоятельно справиться с ней в оставшийся срок, считалось безнадега. Появился новый зав кафедры Вадим Константинович (фамилии не помню), но он был узким специалистом в математической теории упругости, а в колебаниях «не волок» и сказал, что не может руководить мной в этой области. «Но если вы согласитесь перейти в область теории упругости, потребуются, конечно, дополнительные усилия, чтобы сделать это, то в качестве кандидатской вы можете разработать частный случай задачи, которую я решаю в моей докторской». Он ещё не защитил докторскую, но, якобы, вот-вот должен был защитить. Диссертация была уже написана и значит, можно было допустить, проблема в общем виде решена им. Я согласился и ещё с большим остервенением и энтузиазмом ринулся осваивать новую область. Освоив её, я получил на руки экземпляр диссертации шефа, дабы выкроить из общего решения в ней свой частный случай и… убедился, что общего решения у шефа нет. Были бесконечные преобразования уравнений из одного вида в другой, было могучее вступление с исследованием, кто, что сказал на эту тему до того, рассуждения о важности проблемы, но решения не было. Но меня уже было не остановить. Я уже почувствовал в себе силу и лихо ринулся решать общую задачу. Я работал по 14 часов в сутки, просто горел. Однажды, когда жена уехала на неделю к теще, я заболел гриппом и с температурой 39, не выходя из дому за едой и лекарствами, не чувствуя голода, работал как черт. Я изобретал новые исчисления, с помощью которых пытался решить задачу. Исчисления потом оказывались уже изобретёнными, но, тем не менее, вполне приличными работающими исчислениями, однако решения задачи они не давали. Наконец, я изобрел свои собственные ортогональные полиномы и с их помощью таки решил задачу шефа.