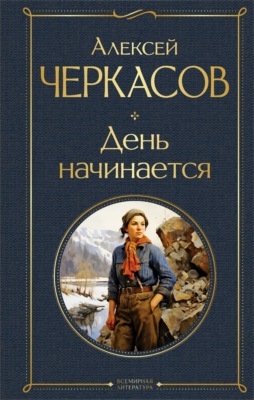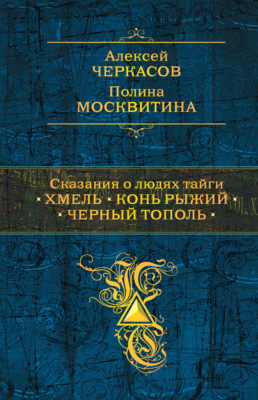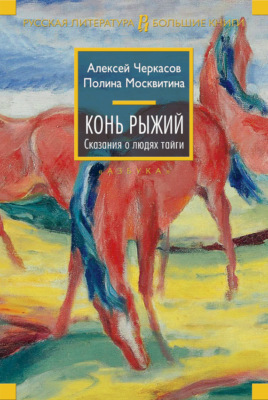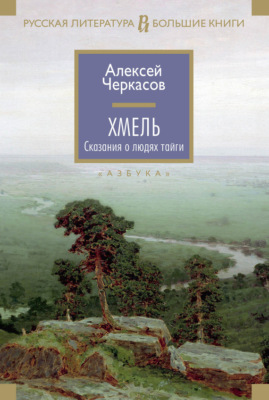Loe raamatut: «День начинается», lehekülg 2
Глава вторая
1
Есть в старинных городах особнячки, где живут семьи со своими особенными традициями, историйками, привычками, вкусами и взглядами. Каждый особняк всегда чем-нибудь да отличается от себе подобных сооружений. У одного зеленые ставни и оранжевые наличники; у другого – ни ставней, ни наличников и крыша вот-вот свалится, как с пьяного картуз; у третьего до того размалеваны все стены, заплоты и ворота, словно его принарядили для коронации. Иногда в тихих провинциальных городах такими особнячками застроены целые улицы.
Таким особнячком был дом на набережной близ пристани, где уже много лет жил Григорий Муравьев в семье дяди по отцу, Феофана Фомича Муравьева, или, как его все звали во дворе, Фан-Фаныча. Некогда дом принадлежал содержательнице питейного дома Рыдаловой, затем перешел в горжилуправление, едва не развалился от ветхости и был продан квартиросъемщикам, которые в нем жили.
Так Фан-Фаныч, мастер пивзавода, превратился во владельца части домика на набережной. Собственно, домовладельцем был не он, а его приемная дочь, Варвара Феофановна…
Домик – буквой Г, четырехквартирный – был не так высок и широк, но достаточно вместителен. Приземистый, наполовину вросший в землю, с низкими, широкими, выпирающими на тротуар завалинками, перекосившийся в сторону Енисея, он, казалось, каждый день собирался тронуться с места: так ему надоело земное существование. Почерневшие и потрескавшиеся от времени бревна и пологая тесовая крыша, не менее перекосившийся заплот из толстущих лиственных плах с высокими, навалившимися на тротуар столбами калитки и ворот никогда не привлекали внимание постороннего человека: разве прохожий, опасливо кося глазом на столбы, ускорял шаг, подумывая, как бы не стать здесь случайной жертвой.
Квадратные, маленькие, как бойницы, ниши окон с частыми переплетами почерневших рам, тускло смотревшие на пригорок улицы, держались также не на одном уровне: первые четыре окна были на бревно ниже следующих трех окон. С наступлением сумерек ниши окон наглухо задраивались толстущими ставнями с железными накладками, точно обитатели его чурались суетного мира, замыкались в четырех стенах, как устрица в раковине. Ночью дом казался необитаемым: от него веяло древностью былых времен. Ни единого звука не вырывалось в улицу из его стен.
Феофан Фомич и Пантелей Фомич поселились в этом городе лет пятнадцать назад. Муравьевы родом из Черниговской губернии. Еще в 1907 году четверо братьев – Митрофан, Павел, Феофан и Пантелей – выехали с Украины и осели на богатых просторах сибирской земли. Павел Фомич, как наиболее пробойный и умный мужик, избрал себе профессию строителя. И вот уже более тридцати лет он преуспевает в своем занятии. В Минусинске он выстроил мост и паровую мельницу. Вел строительство железнодорожных мостов на Хакасской ветке… Старший из братьев Муравьевых, отец Григория, Митрофан плавал механиком на пароходе купцов Гадаловых. В годы Гражданской войны он был командиром одного из партизанских отрядов в Забайкалье и погиб в боях с семеновцами. Мать Григория, Клавдия, в двадцатом году умерла в доме Феофана на прииске Кирка, оставив Феофану доращивать малолетних племянников Федора и Григория.
Феофан и Пантелей много лет работали на приисках Сибири. Тридцать лет назад Феофан соединил свою тихую, беззлобную жизнь с бурной сухопарой приискательницей Феклой Макаровной. И все тридцать лет проклинает тот час, когда он женился, а развестись с Феклой Макаровной никогда не замышлял. Поселившись в этом городе, Феофан сразу определился на пивоваренный завод. Теперь он единственный в крае мастер пивоварения. На прииске же нашел себе спутницу, дородную Дарью Ивановну, крутой характером Пантелей. Приверженный к горным работам, Пантелей и не расставался с этой профессией. Вот уже более семи лет как он – старший буровой мастер геологоуправления. Как у Феофана, так и у Пантелея детей нет и не было, чем братья очень огорчались.
Приемная дочь Феофана, Варвара, явилась личностью довольно самобытной. По своей натуре Варвара была страстной художницей, беспокойной, неугомонной, чего-то ищущей и всегда неудовлетворенной. Из-под ее рук выходили замечательные изделия вышивки по полотну. Она вышивала гарусом портреты вождей, да так, что не всякий художник мог бы изобразить и кистью. Вышивала виды тайги, любопытные пейзажи, красноярские знаменитые Столбы и всякую всячину. Руководила кружком художественной вышивки при Доме Красной Армии, была непременным членом десятка городских комиссий. Ее можно было видеть на заседаниях крайсовета, горсовета, горжилуправления, в завкоме ПВРЗ, мехзавода, мелькомбината, в крайздравотделе, крайоно, короче говоря, везде, и очень редко дома. В доме она держалась властно, но не деспотично. Мало говорила и еще меньше участвовала в бабьих сплетнях, чему не учить было золовку Дарьюшку. Пантелей называл Варварушку «капитаншей баржи», подразумевая под баржою особняк.
Племянники Феофана и Пантелея Федор и Григорий детство и юность провели в доме на набережной, где и умерла их мать, молдаванка Клавдия. Федор долгое время жил в семье Феофана, потом уехал в Москву, редко давал о себе знать дяде, жену которого, Феклу Макаровну, невзлюбил. Да и Фекла Макаровна не очень-то пеклась о Петухе – так звали Федора в детстве за его песни. Федор рос нервным и впечатлительным мальчиком. То он бурно выражал свои восторги, то вдруг предавался размышлениям, допоздна засиживаясь на Енисее. Раза два он тонул, но от дальних заплывов так и не отказался. Федора от всей души любил Пантелей, поощряя его дерзкие вылазки, Григория – дядя Фан-Фаныч, который в племяннике души не чаял, пророча ему карьеру инженера путей сообщения. И действительно, Григорий стал инженером, только не путейцем, а геологом.
Не в пример Федору Григорий был с детства крепким и малоподвижным пареньком. Он любил часами возиться в глине и песке. Когда подрос, стал увлекаться охотой, лазил по горам и скалам что твоя рысь. Стихов он, как брат Федор, не сочинял, зато хорошо знал книги о минералах. Засыпал с романами Жюля Верна, Купера, Майн-Рида, Джека Лондона… И так пристрастился к таежным приключениям, что однажды чуть не погиб, заблудившись в тайге близ прииска Знаменитого. После Томского университета он работал на Алтае и вот уже третий год в родном городе возглавляет отдел металлов геологоуправления. Никто, пожалуй, из местных геологов не обладал такой огромной выносливостью, напористостью в поисках и терпением, как Григорий Муравьев. Познания его были обширны. Геологи звали его «хитромудрым», хотя он просто был умным, даже талантливым парнем, за что и уважала его Варвара Феофановна.
Впрочем, о взаимоотношениях Григория и Варвары можно было бы много кое-чего сказать, если бы сердце девушки было открыто нараспашку. Нечто было недосказанное, потаенное, запрятанное глубоко внутрь души Варвары в ее отношении к Григорию. Стоило перехватить ее многоговорящий взгляд, обращенный на Григория, вникнуть в ее особенное участие, то можно было бы догадаться, что она просто влюблена в Григория. Откровенно говоря, Варвара Феофановна менее всего желала бы видеть Григория женатым, а Катюшу Нелидову – на положении его жены. Она старалась быть единственным другом Григория, единственным его советчиком во всех житейских и производственных вопросах. Недаром же, страдая большой потерей зрения (результат кропотливой работы иглой по полотну), она ночами просиживала над толстыми геологическими томами, чтобы в свое время подсказать Григорию нужное слово. Иногда она навещала Григория в поисковых экспедициях, не брезгала никакой черной работой – рыла землю, помогала бурильщикам, лазила по горам, стряпала и стирала, подбадривая Григория в минуты уныния и усталости. И Григорий всегда рад был ее присутствию в экспедиции. Все свои трудовые отпуска Варвара приурочивала к «трудным моментикам» Гриши, спеша ему на выручку, где бы он ни был – на Алтае ли, в тайге ли, на Крайнем ли Севере. И надо сказать правду: единственным человеком, перед кем Григорий держал душу открытой, была Варвара. Ни один из его творческих замыслов не обошелся без ее участия. Они вместе думали, вместе рассуждали, вместе радовались успехам и вместе молча переживали горечи неудач. Дружба их была до того светлой и открытой во всем, что ни у кого, не только за пределами особняка на Енисее, но и в границах особняка не повернулся бы язык очернить ее грязью низких сплетен. То была любовь, может быть, довольно странная, но такая, на которую трудно поднять руку.
Знал ли дядя Фан-Фаныч, видела ли тетка Фекла Макаровна тайные пружины единения Варвары Феофановны с племянником? Знали, видели и смирились.
В обществе инженера Григория Варварушке дышалось легко и свободно; она жила его творческой мыслью, его дерзаниями, исканиями, его неукротимой энергией, которая возбуждала в ней физическое желание быть вечно молодой и немножечко беспечной, какими бывают лишь девчонки. Не только жизнь, но и, казалось, сама природа обретала для нее совершенно новые оттенки, каких она не замечала до дружбы с Григорием. Бывая в горах, в скалах, на той же городской, тысячу раз исхоженной Лысой горе, она видела не просто гору или камень, а заключенные в них минералы и металлы, освободить которые необходимо для жизни людей. Та же Лысая гора с ее отвесными краснокирпичными ярами чудилась ей в сверкающем на солнце алюминии, в самолетах, в легких домашних предметах, без чего нельзя прожить современному человеку. Эта мысль подстегивала ее, бодрила, как бодрит усталого человека кружка доброго вина. И все это шло от Григория! Как же ей не полюбить этого человека, который ее спокойной жизни сообщил нечто новое, неизведанное и трудное? Она была такая же ищущая, как и он, но более умудренная жизнью. От Григория можно было ожидать безрассудный поступок, свойственный его годам; она же перешагнула границу безрассудства и жила не столь порывами чувств и оскорбленного самолюбия, виновника многих человеческих бед, сколь глубоким раздумьем, опытом жизни.
Но и сама Варварушка не совсем обычно вошла в тихую гавань семьи Фан-Фаныча. Сам Феофан спас ее как утопающую, и не подозревая, что спасает самоубийцу. В ту пору на Енисее ходил еще плашкоут, и побережье было почти пустынно. Как-то поздним августовским вечером, возвращаясь с правого берега, Фан-Фаныч обратил внимание на белокурую хрупкую девушку в светлом платье, для которой, как говорится, и солнце не светило. Глаза ее подпухли от слез, и вся она была такая жалкая, потерянная и одинокая среди людей, что даже у Фан-Фаныча сжалось сердце. А он был не из породы чувствительных! И вдруг, на самой середине Енисея, белокурая девушка оказалась за бортом плашкоута. Одни говорили, что она оступилась, другие – упала в обморок, вот так, как стояла, так назад себя и шлепнулась в воду. Паромщик кричал, ругаясь напропалую на пассажиров за то, что они сами, черти, вылазят из границ плашкоута. Возле плашкоута была лодка. Покуда ее отвязывали, приноравливались, навешивали в гнезда весла, Феофан, будучи человеком не из робкого десятка, долго не раздумывая, сбросил с себя сапоги, штаны и рубаху да и прыгнул в воду. Все это произошло в какие-то считаные секунды. Девушка вынырнула невдалеке, что-то дико крикнула страшным голосом и опять скрылась под водой. Фан-Фаныч моментально подплыл к тому месту, где еще не успели разойтись круги, и нырнул вглубь. В воде он схватил ее за косу и так подтянул к лодке. Она была без сознания. На берегу к ней подоспела фельдшерица спасательной станции; утопленницу откачали, но вместо радости и благодарности с недоумением услышали от нее проклятия. «Будьте все прокляты! – кричала она. – Уйдите, уйдите! Проклятые!..» Фан-Фаныч сообразил, что это явление не из нормальных и что не следует подобному явлению давать широкую огласку. Он властно отстранил любопытных, схватил несчастную на руки и затащил к себе на квартиру в особняк, что стоял почти рядом. Неделю Варварушка находилась под покровительством сердобольной Дарьюшки и строгой Феклы Макаровны, молчаливая, плачущая, безразличная ко всему и такая жалкая! Как ее ни расспрашивали, кто она и что с ней случилось, ничего узнать не могли, кроме того, что в городе на Енисее она проездом, что родных у нее будто бы нет и что она впервые в Сибири, а жила будто бы где-то в Ростове-на-Дону, и вот приехала в Сибирь искать счастья, да не нашла его. То был тысяча девятьсот тридцать первый год! В городе нелегко было прожить: не хватало хлеба, в магазинах не было ни молока, ни мяса, и даже спички выдавались по талончикам. Нищие кочевали от дома к дому. Среди нищих были и те, кто совсем недавно «засыпался хлебом с головой и мясо жрал от пуза».
Братья Муравьевы в ту пору жили лучше всех. Феофан – возле пивзавода, Пантелей получал «усиленный паек» горного рабочего. В доме был достаток.
Варварушка мало-помалу обжилась. Сперва она работала при клубе железнодорожников, что-то там украшала, рисовала, писала плакаты, организовывала кружки самодеятельности, недурно пела, учила других ставить голос и до того вошла в кипучую жизнь самодеятельности, что самой стыдно было вспоминать о покушении на самоубийство. Она благодарна была Фан-Фанычу не столь за спасение, сколь за укрытие печального факта. Все знали, что она просто оступилась, но никто – что она сама кинулась в воду. Фан-Фаныч определил ее в гражданских правах: выдал ее за несовершеннолетнюю, безродную и удочерил. Никто никогда в доме Муравьевых не ворошил прошлого Вареньки, будто его и не было. Из чувства ли благодарности или из каких-либо других соображений, исключая любовь, Варя согласилась быть приемной дочерью Феофана и Феклы Макаровны, хотя в семье держалась особняком: жила замкнуто, «себе на уме». И как будто тяготилась привязавшимися к ней всей душой Фан-Фанычсм и Феклой Макаровной. Те же и думать не хотели, чтобы отпустить ее куда-нибудь. И вот совсем недавно, за три дня до возвращения Григория из экспедиции, Варварушка вдруг покинула дом Муравьевых: уехала с Сибирской гвардейской дивизией на фронт. Что было тому причиной – трудно сказать. Может, когда-нибудь и разъяснится внезапный уход Варварушки из дома Муравьевых, – кто знает!..
2
В сгустившейся снежной мгле машина яростно била снопами света, освещая черные глыбы домов движущимися крылатыми тенями от убегающих вспять запорошенных тополей. Световые рекламы кино, театра, почтамта, магазинов, кафе, аптеки, забиваемые снегом, померкли.
Незнакомка все смотрела вперед на прямую улицу, чем-то напоминающую ленинградские, и щемящее чувство грусти и тоски, нарастающее в ней, подобно снежному кому, все больнее сжимало сердце. Куда она едет? Что она знает о Муравьеве? Не свяжет ли он ее своим участием и помощью? Не лучше ли было бы ей остаться в той же Сызрани, нежели ехать за тридевять земель в Сибирь, в поисках неведомого и сомнительного? В тайниках души она надеялась хоть что-нибудь узнать о семье.
– Значит, из Ленинграда? – проговорил шофер, лобастый молодой парень, искоса взглядывая на соседку. – Хлебнули горького ленинградцы, нечего сказать. Я знаю только по газетам, а в натуре-то, верно, совсем другое. Вот, например, что писали о Харькове? «Отступили на заранее подготовленные позиции». А как это происходило в натуре? Будь здоров! Месили нас немцы три дня и три ночи, аж небу жарко было. Поливали таким кипятком из артиллерии, что в земле нельзя было спрятаться. Потом двинулись эсэсовцы – вот так, во весь рост: «психическая атака», чтоб окончательно повлиять на нервы. Там меня и гвоздануло, под Харьковом. Полгода отвалялся в госпитале после контузии и не мог очухаться от «психической»!..
Когда машина остановилась в третий раз, высаживая кого-то из геологов и рабочих, шофер поинтересовался:
– А вас где высадить?
Соседка не нашлась что ответить. А что, если Муравьев забыл о ней? Вывез в город, да и оставил с шофером…
– Миша, давай ко мне на набережную, к понтонному! – крикнул Григорий, перегнувшись через кузов к окошечку шофера.
Машина свернула в переулок и, тяжело пробиваясь по сугробам, медленно шла в гору, буксуя, затем спустилась к набережной, огибая причудливое пирамидальное здание краевого музея, смешавшего в своей архитектуре и зной египетского неба, и лютую стужу севера.
Григорий легко выпрыгнул из кузова, принял от Редькина тяжелый чемодан и свой рюкзак, нагруженный образцами аскизских гематитов, позвал за собою Дружка, который спрыгнул к нему черным комом и сразу же бросился к ограде почернелого одноэтажного дома с закрытыми ставнями.
– Ну, мы приехали! – сказал Григорий, помогая незнакомке выбраться из кабины.
Машина дала полный газ и, взрыхлив толстый слой наносного снега, скрылась за поворотом улицы. Незнакомка, глядя на широкую полосу, за которой мерцали далекие огни, уходящие куда-то за горизонт, догадалась, что они у самой реки.
– Это Енисей, да?
– Он самый. Красавец и гордость Сибири.
– А что там за огни?
– Они появились там недавно, – ответил Григорий, задумчиво всматриваясь в даль. – Сибирь тем и хороша, знаете, что в ней разгораются вот такие огни. Она вся в движении, в строительстве, в разведке. И чем гуще огни, тем веселее жить. Представляете, сколько будет здесь огней, когда Енисей перекроют плотиной? Сейчас здесь темно, есть и мрачные закоулки, а тогда будет наводнение света…
Григорий постучал в ставень черного домика. Дружок тем временем успел перепрыгнуть через покосившийся заплот в ограду и там залаял. Вскоре вышел Феофан в полушубке внакидку, открыл воротца на цепную щель, присмотрелся:
– Ты, Гриша? И вроде не один?
– Не один. У нас остановится девушка из Ленинграда, – и Григорий пропустил вперед себя в калитку ленинградку.
Фан-Фаныч, на голову выше племянника и чуть ли не в два раза шире в плечах, медлительный в движениях мысли, не сразу понял значение слов Григория.
– Где остановится? У тебя или у нас? Переночевать или как? Места, конечно, хватит. Мы тут с Феклой Макаровной вдвоем коротаем время. Варвара еще позавчера откомандировалась на фронт.
– На фронт? С какой стати на фронт? – удивился Григорий, подходя к крыльцу.
– Да вот, так вышло. Уехала добровольно с сибирской дивизией. И что ей взбрело в голову – ума не приложу, – пояснил дядя, замыкая шествие. В темных сенях, где было три двери: одна на половину Пантелея, другая, прямо, как войдешь в сени, – в комнаты Фан-Фаныча и третья слева – в комнаты Григория, – Феофан сообщил: – Твоя любимица, Гриша, околела еще на той неделе. Ворковала, ворковала, а тут в оттепель выпустил я их облетаться, вроде кто клюнул ее из рогатки, прилетела опосля всех с разбитой головой, поворковала у меня на руках и издохла. Слышь, воркуют – тебя почуяли.
Из темных уголков сеней то здесь, то там раздавалось голубиное воркованье и шорох. Григорий пожалел издохшую голубку, сказал дяде, чтобы он не беспокоился и ложился спать, распахнул дверь в свою комнату, натыкаясь в темноте на стулья, прошел к столу, зажег стеариновые свечи, сбросил с плеч рюкзак и, широко повернувшись, впервые встретился с глазами ленинградки.
Они стояли почти рядом. Ее большие синие глаза под тенью крупных заиндевелых ресниц смотрели в близорукие глаза Григория грустно и устало. Красивый рот с чуть приподнятой верхней губой, как у капризного ребенка, улыбался той вымученной улыбкой, которая возникает по принуждению. Лицо ее было совсем юное, со впалыми щеками. Седые от инея пряди золотистых волос, выбившиеся из-под суконной шали, падали развившимися кольцами на высокий, с темными, слегка надломленными бровями лоб. И только пятно на обмороженной щеке, рваная и грязная шинель, словно с плеча кочегара, разбитые кирзовые сапоги говорили о пройденных дорогах и обо всем ею пережитом. Григорий хотел отвести взгляд, сразу, моментально, но все еще удивленно смотрел на нее.
– Ну вот… Давайте устраиваться будем, – пробормотал он, беспричинно передвигая стул.
Неосознанное чувство досады пошевелилось где-то у него в сердце, и он, покашливая, достал еще три свечи, зажег их, сообщив, что город эти дни экономит электроэнергию, прилепил свечи на гематитовый камень и прошел в следующую комнатушку, которая служила ему спальней. Движения его были вялые, думающие, прислушивающиеся. «Черт знает что получается, – хотел бы он сказать в этот момент. – Тебе бы, голубушка, с таким лицом не надо прятаться в угол, в тени. И не надо бы притворяться казанской сиротой».
Незнакомка все еще стояла посреди комнатки. Пронизывающий взгляд Григория и то, что он почему-то вдруг нахмурился и, сердито покашливая, медленно пошел в другую комнатушку, обеспокоило ее. Первым ее желанием было повернуться и уйти. Уйти куда-нибудь, даже навстречу бурану. Но опять припомнился ей вот такой же взыскивающий взгляд лейтенанта флота, когда он посмотрел на нее снизу вверх, там еще, в руинах, и так больно резанул ее душу. И негнущимися, окостенелыми пальцами она стала расстегивать неподдающийся грубый солдатский крючок.
– Что же вы? Раздевайтесь, раздевайтесь, – подбодрил Григорий. – Тут у нас тепло. А в той комнате даже жарко будет, вот подтопим плиту. Вы там и обоснуетесь. А я буду здесь. Тут у меня и лаборатория, и библиотека, и диван на троих. Простора для меня достаточно. Я человек горный, привычный.
– Спасибо, Григорий Митрофанович, – поблагодарила она и еще больше застеснялась.
– Ну, ну. Похоже, что вы меня уже знаете. А вас как звать?
– Юлия… Чадаева.
– Юлия? Вот и прекрасно. Будьте как дома.
Он еще хотел сказать ей о тяжелых днях военного времени, о великом испытании русских людей на жизнеспособность и о том, что все течет, все изменяется и настанут черные денечки и для немцев, развязавших войну, когда они пожнут плоды своего злодейства. Но он ничего не сказал. Мысли и картины возникали в уме, а слов не было. Он еще не знал ее. Что она за человек? Может быть, под ее рваной шинелью бьется такое же рваное сердце?
Эта его обвиняющая, безосновательная мысль, по-видимому, передалась Юлии. Лицо ее передернулось, брови насупились, и она, вздохнув, бросила шинель в угол.
Между тем Фан-Фаныч, наконец-то сообразив, что с Григорием заявилась некая ленинградка, которую он провел к себе, чего никогда не случалось, весьма заинтересовался таким фактом. У Гришки девушка из Ленинграда! Вот так фунт изюму! Что сказала бы Варварушка, если бы была дома? Надо же поглядеть, что за гостья у Гришки-молчуна.
Фан-Фаныч, пыхтя в темноте, отдуваясь, натянул на себя брюки, рубашку, туго перетянул ремнем свой толстый живот, разбудил сухопарую, костлявую супругу, Феклу Макаровну, сказав ей, что вернулся Гришка из разведки и надо приготовить хороший ужин, так как у него находится гостья из Ленинграда, – зажег настольную лампу, а тогда уже умылся холодной водой, посмотрелся возле умывальника в зеркало и направился к Григорию.
И как же он был удивлен, этот пожилой добродушный толстяк, когда судьба свела его лицом к лицу с поразительной копией той самой Вареньки, которую он в памятный день августа 1931 года принес на своих руках вот в эту же самую комнату! И она вот так же сидела на жестком стуле, потерянная и одинокая, держа руки ладонями на коленях, обтянутых мокрым платьем, щупленькая, худенькая, и плакала, и такой же был у нее странный взгляд, глядевший внутрь, и такие же печальные, усталые глаза с синевою в подглазье. Не случайно же они, Фан-Фаныч и Фекла Макаровна, удочеряя Вареньку, выдали ее за пятнадцатилетнюю…
Фан-Фаныч до того растерялся и оторопел, что забыл, зачем пришел. Смотрел и смотрел на девушку, на ее завитушки светлых волос, какие были тогда у Вареньки. Такие же вот впалые щеки, тонкая шея, такая же робость и потерянность в чужом доме…
– Из Ленинграда, значит, приехали? – ответил на недоумевающий взгляд гостьи Фан-Фаныч. – Дорога неблизкая, да еще проклятущая война! Пораскидала людей по белому свету заваруха-метелица. И все еще метет, крутится, язви ее. Как вас звать-величать? Юлия Чадаева? А! Семью имеете? Эге ж. А кто ваши родители? Папаша профессор, хирург? Эвон как!.. Эге ж. Значит, Юлия?
Перехватив взгляд Григория, дядя сказал:
– Замечаешь, какая схожесть обличностью с Варенькой? Сейчас-то Варвара малость переменилась, а вот когда я ее первый раз увидел, в точности такая была. Как две капли воды.
Григорий невольно поежился и с нарастающим удивлением посмотрел в лицо Юлии. Оно снова показалось ему совсем юным, почти детским, но совсем не таким, как у Варвары Феофановны. Ничего общего. У Варвары Феофановны строже лицо, резче черты лица, чуть крупнее нос, хотя так же вздернутый, не такие обидчивые толстые губы, да и сам рост совсем не такой. А Юлия, как девочка, маленькая и собранная. Ее певучий, мягкий голос приятно трогал слух. Пушистая гарусная кофта, похожая на шубу, плотно обжимала все ее хрупкое, худенькое тело. Таким же гарусным шарфом была замотана шея. Целая копна мелко вьющихся волос, сплетенных сзади в две толстых косы, делала ее похожей на девочку-подростка. Что же общего с капризно-гордой и давно оформившейся красотой Варвары Феофановны? И вот эти маленькие красные руки, и тонкая девичья шея, на которой Юлия нарочито или инстинктивно прятала большое, словно выжженное пятно от осколочного ранения, чуть пониже уха, но пятно это все-таки виднелось, – все это повергло Григория в какое-то странное волнующее смятение. Он молча притащил дров, два ведра воды, большой медный таз и, растопив плиту, одним ухом прислушиваясь к разговору дяди Фан-Фаныча с Юлией, поставил воду греться.
– И как, трудно было в Ленинграде? – спрашивал Феофаныч.
– Да. – Юлия отвечала вяло, неохотно; ей чем-то не понравился матерый мужик. Не нравилось его пунцовое полнокровное лицо с висячим толстым носом.
– Трудно было в блокаде?
– Да.
– Голодухи хватил народ?
– Жители одно время получали по семьдесят пять граммов комбихлеба. И больше ничего.
– Что за «комбихлеб»? – похлопал глазами Фан-Фаныч, двигаясь на стуле. – Ах вон какой хлебушко! Напополам с охвостьями и мякиной. Едали и мы такой в отдельные периоды гражданки, при Колчаке, да и опосля. Чего не едал и не видал русский народ? Кряхтит, да везет. Никакой француз не выдержал бы. Ежли навьючить бы на француза всю нашу гражданскую, индустриализацию, коллективизацию, ликвидацию, пролетаризацию, издох бы в тот час. Англичанин обалдел бы и живым в землю залез по самые уши. А русский живет, хлеб-мякину жует, да еще и песни поет. В таком положении понятие требуется глубокое. Я сколько лет при пивзаводе, – всяких рабочих насмотрелся. Сибиряк – как пенек, кувалдой не убьешь. Россиянин – послабже, поджилки не те. Ну, а о прочих национальностях не говорю: потому – неприятности поимел из-за них через партийную критику. А какая у вас специальность?
– У меня? Еще никакой.
– Ишь ты! Оно, конешно, какие ваши годы? Лет восемнадцать? Двадцать три?! Училась? А! Где же? В академии художеств? Это в каком понятии? Спрашиваю: какую профессию получили бы после академии? Художницы? А! Вот оно что. Вся линия как у нашей Варвары.
Фан-Фаныч посидел еще минут пять, потолковал о том, о сем, что-то прикидывал себе на уме и, уходя, сказал Григорию, что Фекла Макаровна приготовит ужин. Подождал немного: не пригласит ли Гришка посидеть со своей гостьей за чаем, но Григорий не пригласил, и Фан-Фаныч ушел, немного разгневанный, убежденный, что племяш наверняка привез жену, но пока еще не оформил в загсе, скрывает. «Если Варварушка была под этот час дома, туго пришлось бы Гришке!»
3
Юлия грелась у печи. Ей нравилась и эта маленькая комнатушка, и колеблющийся свет стеариновых свечей, и чернильный прибор на гематитовой глыбе, и множество фотопортретов на стенах, видов тайги, каких-то странных вышивок по полотну, и шаги Григория, мягкие, бесшумные, и то, как он хмурит свой высокий лоб, а главное, она не чувствовала того давящего стеснения, как это бывает в чужом доме.
Непривычная, почти забытая теплота жилой уютной комнаты напомнила Юлии жизнь с семьею на Васильевском острове в доме на Третьей линии, в котором она родилась, провела свое детство, юность… Жгучее чувство взволновало ее. Отец, мать, братья, студия академии, картины, потрясающий «Лувр» Ленинграда – Эрмитаж, мечты и желания – все это было так недавно, кажется, вчера, вот только что, сейчас!.. И всего этого теперь нет. Есть чужая комнатушка, какой-то хитрый, как ей показалось, толстый Феофан, его племянник Григорий, не очень-то разговорчивый.
Думая так, Юлия быстрым взглядом из-под бровей посмотрела на Григория.
– Будем ужинать и отдыхать, – сказал он.
– Спасибо.
– Что спасибо? Подвигайтесь к столу. А там вон вода согрелась, уйдете в ту комнату и будете мыться и все такое. Утро мудренее вечера, знаете ли. Вот вам молоко, чай, сахар, сало, а вот – маралье вяленое мясо. Это я еще осенью в Саянах добыл марала. Мы люди таежные. Чего нет на рынке, то достаем в тайге.
В сонной тишине комнаты слышалось мерное тиканье будильника, перестукивающегося с маятником больших часов на стене. В. печи трещали еловые дрова.
По обстановке комнаты, ее убранству можно было догадаться, что хозяйничала женщина. Дверь слева за бархатными гардинами вела в другую комнату, где было темно. Письменный стол со множеством ящиков и резной решеткой по бортам был завален грудой толстых и тонких книг по геологии. Здесь же стояла настольная лампа, часы, телефон, массивный чернильный прибор, представляющий собою гематитовую глыбу с геологическим молотком и компасом, на которой золотом было написано:
«Открывателю Ардынского месторождения полиметаллических руд, инженеру-геологу Григорию Митрофановичу Муравьеву»
Издали, от изразцовой печи, прочитав эту надпись, Юлия сразу вспомнила, как Григорий сказал на перроне Катюше в меховой дошке: «Вы тогда трещали – Ардын пустое место…» Значит, он, этот молодой геолог, твердо верит в свои силы, если уже не один раз шел против мнения товарищей, чтобы доказать на деле свою правоту!
Над столом в тяжелой раме висела картина, изображающая ночное шествие женщин с факелами. На переднем плане выделялась красивая женщина в белом, устремившаяся вперед, к чему-то невидимому. Мутные пятна на картине говорили о том, что она была недорисована.
Юлия долго смотрела на эту картину. Она сидела в углу у бархатных портьер, поставив ноги на перекладину между ножками дубового стула и положив свои маленькие руки на колени, обтянутые шерстяным платьем.
Григорий видел, как меняется выражение ее лица, принимая оттенки то грусти, то недоумения и тревоги. Никогда еще он не наблюдал такого выразительного лица у девушек, с которыми ему доводилось встречаться. Он вспомнил Катерину. Ее лицо показалось плоским и всегда однообразным, выражающим какую-то одну страсть. Если Катерина сердилась, то оно становилось отталкивающе холодным. И это выражение холодности держалось до тех пор, пока новое чувство не просыпалось в ее душе.