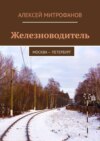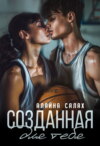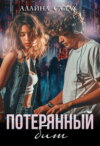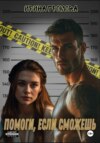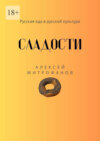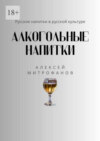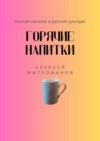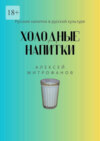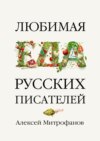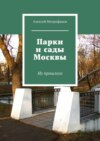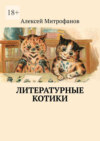Loe raamatut: «Железноводитель. Москва – Петербург», lehekülg 3
Рижская
Первая станция на нашем пути называется «Рижская». И снова – в качестве первейшей достопримечательности – вокзал. На сей раз, как не трудно догадаться, Рижский.
Он был построен в 1902 году по проекту архитектора Ю. Дитриха. В то время здесь стояли две огромные колонны – так называемые Крестовские водонапорные башни. Они пополнялись водой из экологически чистых мытищинских источников, и каждая вмещала 150 тысяч ведер. Впоследствии, когда в городе провели центральный водопровод, башни утратили свой смысл. Некоторое время здесь располагался городской музей, однако же удобным помещения-колонны назвать было нельзя. Музей переехал, и башни снесли.
Поначалу вокзал назывался Виндавским – по городу Виндаве, современному Вентспилсу. То был путь на северо-запад, на Балтику. Характер спокойный, нордический. Умеренный лоск, сохранявшийся даже после бурных революционных событий. Борис Зайцев в одном из романов писал: «Через всю Москву везли нас два извозчика к Виндавскому вокзалу. Артельщики в полотняных блузах отобрали вещи, было тихо и светло в огромном зале – даже странно после наших путешествий в революцию. Спокойно подали солидный поезд».
Впрочем, в далекий путь отсюда ездили немногие. В основном Рижский вокзал использовался для дачных, пригородных поездов. «Иллюстрированный путеводитель по окрестностям Москвы писал: «Сначала путь однообразен: по обеим сторонам полотна разбросаны унылые железнодорожные постройки, по ночам зажигающиеся тусклыми огоньками. Огороды перемежаются золотыми квадратами полей и тонкоствольной сосновой рощей.
Начиная со станции Павшино, лестной ландшафт оживляется, красочно бросаясь в глаза своей изумрудной роскошью».
А еще в том вокзале действовал железнодорожный музей. Правда, назывался он скромнее – Демонстрационный зал центрального дома техники железнодорожного транспорта СССР. Путеводитель по Москве писал: «В демонстрационном зале показаны история развития и современное состояние техники железно-дорожного транспорта, стахановско-кривоносовские методы работы на железнодорожном транспорте.
В экспозиционном зале собраны материалы, характеризующие историю развития, современное состояние техники и работу железнодорожного транспорта».
Всего в музее было семь отделов – «Паровозное хозяйство», Отдел тепловозов, «Электрификация», «Связь и СЦБ», «Вагонное хозяйство», «Путь» и «Эксплуатация». Сейчас это кажется диким, но в первые послереволюционные десятилетия подобные музеи были очень даже популярны. Считалось, что каждый советский человек должен разбираться во всех отраслях социалистической индустрии. Разбираться настолько хорошо, что б знать, к примеру, что такое СЦБ (в путеводителе нет расшифровки этой таинственной аббревиатуры.
Больше всего, конечно, привлекали макеты старых паровозов и локомотивов. А вот, к примеру, отдел «Путь» пользовался меньшей популярностью. «В отделе показаны устройство нижнего и верхнего строения пути, гражданских сооружений, механизация строительства путевых дорог и освещены вопросы, связанные с изысканием, проектированием и постройкой железнодорожного пути.
Здесь выставлены в натуре и моделях советские и заграничные шпалы, рельсы, стыки, механизмы, применяющиеся при ремонте и строительстве железнодорожного пути, снегоочистители, мосты, водокачки, вокзалы, действующие модели экскаваторов и других механизмов. В отделе имеются материалы о стахановско-кривоносовских методах путевых работ и о борьбе со стихийными явлениями (размывы, снежные заносы и т. д.)»
Ничего не скажешь – скучновато. Но вполне годится, если до отправления твоего поезда еще больше часа, столы в ресторане все заняты, а чем-то развлечь себя надо.
И – снова история проводов. Отсюда в 1922 году отправлялась в эмиграцию поэтесса Марина Цветаева. Ее дочь, Ариадна Эфрон вспоминала: «Наконец Виндавский (теперь Рижский) вокзал, продолговатое, со множеством торжественных окон здание, кажущееся мне похожим на какой-нибудь подмосковный дворец, если убрать всех пассажиров. Носильщик подхватывает наш скромный багаж; подходим к коменданту, который, проверив Маринины документы, выдает пропуск.
Наша платформа – немноголюдна и как-то немногословна; ни шума, ни давки, хотя поезд уже подан.
Возле вагона, среди кучки провожающих – не нас! – знакомое лицо милой молодой барышни, секретарши Наркоминдела, помогавшей Марине во всех предотъездных формальностях и премудростях. Она улыбается нам, протискивается с нами, вслед за носильщиком, в купе, очень тесное и очень полированное, где уже сидят две женщины, возле одной из них, скромно одетой, гладкопричесанной, – костыли; вижу, что у нее ампутирована нога… Выходим на перрон. «А кто эта дама с костылями?» – спрашиваю я у секретарши. «Дама? Дама эта работает в ЧК. Ногу она потеряла на гражданской войне, а теперь отправляется на лечение за границу, там ей и ногу искусственную сделают, совсем как настоящую. Мужчине без ноги трудно, а женщине и совсем невозможно…»
Тут появляется сияющий Чабров, в руках у него продолговатый, красиво завернутый пакет, который он протягивает мне: «Это вам на дорогу, развернешь, когда поезд тронется!»
Взрослые разговаривают, я лазаю в вагон и из вагона, раздираемая тревогой – не уехать бы без мамы! или – не остаться бы, зазевавшись, на платформе тоже без мамы…
Первый звонок. Впрочем, это только так называется – звонок! – а на самом деле кто-то, мне невидимый, ударил в роковой колокол, и звук этот, отрывающий уезжающих от остающихся, на мгновение цепенящий, как огромный ледяной глоток, заставляет всех очнуться от длящести, длимости расставания, провозглашая его разлукой.
Последние поцелуи, объятия, напутствия, быстро утихомиривающаяся последняя суета у вагонных ступенек, и вот уже на перроне – только провожающие, а мы топчемся в узком коридорчике, в несколько рук дергаем оконные ремни, чтобы еще раз, выглянув наружу, что-то сказать, что-то услышать, что-то успеть…
Чабров, привстав на цыпочки, протягивает записку: «Только что узнал: в вашем вагоне едет Айседора Дункан!»
Третий звонок. Поезд трогается.
Разворачиваю чабровский пакет – там коробка конфет с изображенном на ней брюнеткой в нэповском стиле. Со словами «как трогательно» Марина у меня эту коробку выхватывает, прежде чем успеваю сунуть туда нос. «Отвезем папе!»
Так мы и уехали из Москвы: быстро, неприметно, словно вдруг сойдя на нет».
Сюда же – и тогда же – прибывала после длительных заграничных гастролей часть Московского художественного театра. Вадим Шверубович – сын Василия Качалова – писал: «Вокзал кишел народом, суетливым, неумелым, не приспособленным к путешествиям. С непортативным, нескладным багажом, с испуганными глазами, с красными, потными лицами, люди неслись куда-то не туда, их возвращали, они волокли свои мешки и сундучки обратно. Как это было не похоже на берлинский вокзал, с которого мы уезжали! Там все ездят привычно, спокойно, организованно. Но нам и в этом хаосе виделось что-то милое, теплое, свое, смешное и родное – ведь и в нас это было, ведь и мы где-то внутри были такими же неорганизованными. Но не в этом даже дело, просто все русское, все родное – нелепая суета вокзала, булыжник привокзальной площади, ни на каких других в мире не похожие извозчики с пролетками „в виде сломанных скрипок“ – все, все вызывало наше умиление и приязнь. Уж очень всему были открыты наши души, уж очень иссохли от тоски по родине наши сердца».
Самым же радостным событием была встреча в июле 1945 года первых демобилизованных военнослужащих. Сначала пионеры обошли те семьи, возвращение в которые планировалось. А затем – собственно торжество на вокзале, в то время носившем название Ржевского. «Московский большевик» писал: «Тесно на перроне Ржевского вокзала. Так тесно, что, кажется, больше уже никому не войти сюда. А народ все прибывает и прибывает. И у каждого в руках цветы.
И вот грянул фанфарный ликующий марш. Из-за поворота выплыл красавец-паровоз. Он был под стать этому торжественному утру, изукрашенный цветами и гирляндами зелени. И впереди плыл в воздухе портрет того, кому собравшиеся были обязаны своей радостью, портрет человека, который провел нас сквозь все испытания войны – творца нашей победы. И когда поезд остановился у перрона, из тысяч уст раздался могучий возглас:
– Нашему великому Сталину – ура!
Встречающие бросились к вагонам. И тут москвичи, казалось, опешили. Солдаты опередили их. Из вагонов на перрон полетели сотни букетов цветов, простых полевых цветов, но они были так же хороши, как алые розы и лиловая сирень. А затем люди в военных мундирах и штатских платьях смешались так же, как смешались цветы полевые с цветами садов. Нет, не найти слов для того, чтобы описать эти встречи, да и кто возьмется рассказать о том, как свиделась мать с сыном или жена с мужем, с которыми война разлучила их на четыре долгих года!»
Но ликование быстро сменилось нешуточными послевоенными проблемами.
* * *
Неподалеку от вокзала – один из интереснейших храмов Москвы, церковь Знамения Божией Матери в Переяславской Ямской слободе. Памятная доска извещает: «По благословению Его Преосвященства Иоанникия митрополита Московского и Коломенского положено основание приделов во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Христова Иоанна и во имя святителя Николая Мирликийского чудотворца в присутствии местного о. благочинного и настоятелей храма протоиерея Федора Гавриловича Беляева и священника Василия Петровича Флерина при церковном старосте Московском купце Егоре Максимовиче Козлове и при членах, строителях храма Дмитрии Егоровиче Удальцове и Иване Ивановиче Безбородове 1888 года мая 22 дня».
Впрочем, это была всего лишь очередная перестройка – каменный храм на месте деревянного здесь появился в 1766 году, а деревянный так и вовсе существовал в шестнадцатом столетии.
А на противоположной стороне, слева от железнодорожного полотна – западная оконечность знаменитого парка «Сокольники». Он был разбит по высочайшему распоряжению Петра Великого – специально для празднования первомайских торжеств. Этот праздник отмечали в Западной Европе как день прощания с зимой и наступления теплых месяцев. Справляли его, разумеется, и европейцы, находящиеся по своим делам в Москве. Для них-то Петр и распорядился отвести кусок земли неподалеку от Немецкой слободы. А заодно отдал распоряжение праздновать Первомай и россиянам.
Поначалу праздник встретили в штыки – как и большинство петровских новшеств. Но со временем к нему привыкли, позабыли о происхождении и не представляли без него московского уклада жизни. Краевед С. М. Любецкий так его описывал: «Первомайское гулянье в старину было самое народное, там пестрели по краям большой дороги разноцветные палатки с золотыми маковицами именитых бар – алые, голубые, зеленые, точно турецкий лагерь; в некоторых из них гремела музыка, более роговая; между рамами исполинских сосен церемониально двигались и тянулись один за другим грузные экипажи, высокие, как эшафот, кареты, берлины с крыльцами по бокам, сквозные восьмистекольные, запряженные цугом одномастных породистых лошадей: соловых [желтоватых со светлыми хвостами и гривой], чубарых, вороных, с манежной выступкой, с кокардами на головах, в блестящей сбруе. У некоторых господ парадные экипажи были вызолочены, стекла в них сверкали цельные с фацетами, лошадьми управляли осанистые усатые кучера, вооруженные длинными бичами, в треугольных шляпах, с напудренными косами; форейторами [верховой, сидящий на одной из первых лошадей, запряженных цугом] были почти дети. Позади карет стояли парные лакеи, высокие гайдуки, одетые егерями, сербами, албанцами и гусарами. Иногда впереди экипажей бегали известные скороходы; опираясь на длинные булавы, они делали размашистые скачки; одеты они были в легкие куртки с ленточными наколками на локтях и на коленках, на головах их пестрели разноцветные шелковые шапочки с кистями. В окнах карет виднелись распудренные головы господ, бархатные и атласные кафтаны – желтые, розовые, морковного и абрикосового цветов, – унизанные блестками, пюсовые камзолы (вроде жилеток) со стальными пуговицами, лосинные чинчиры (нижние платья) и т. д. Дамы красовались с символическими мушками на лице, в пышных глазетовых робронтах, в длиннохвостых платьях с прорезами на боках и с фижмами, или с бочками, с вальками; головы их также были напудрены серебристой, золотистой или розовой пудрой (для усиления блеска в глазах), волосы причесаны палисадником или взбиты вроде лебяжьего пуха, а букли штопором висели наподобие висячих вавилонских садов, башмаки востроносые, стерлядками».
Со временем Сокольники застраивались дачами, праздник утрачивал свою яркость, но не терял популярности. Славянофил М. Н. Загоскин умилялся: «Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником – да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни!»
Сокольническая инфраструктура москвичей не баловала – обычные разносчики с традиционными товарами – квас, сбитень, пряники, мороженое. Много столов для чаепития и, разумеется, организация процесса чаепития. Тот же Загоскин писал: «был бы только самовар, вода непокупная, чаю на троих довольно на двадцать копеек, на десять – леденцу; и вот наш мужичок примется пить не торопясь, с прохладою… Оно и дешево и безвредно.»
Здесь он, конечно, принимал желаемое за действительное. Помимо чая на гуляньях пользовались популярностью и прочие бодрящие напитки. В первую очередь, конечно, водка. У Чехова был фельетон под названием «На гулянье в Сокольниках»: «День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко… Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.
– Натрескался, идол! – бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. – Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса – все равно… А я-то старалась, брала чего бы получше…
Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби…
Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче».
По иронии судьбы в начале прошлого столетия праздник, основанный монархом, становится днем революционных демонстраций. Боевые революционеры не зря выбрали Сокольники для своих тайных сходок и организации учебных стрельбищ. С одной стороны, совсем рядом с Москвой, а с другой, полно в нем диких мест, которые не сразу и отыщешь. До Сокольников из центра города ходил трамвай, а многие большевики были как раз трамвайными работниками. Но для обывателей рабочие волнения чаще всего были невидимы. Владимир Гиляровский, в частности, писал о Первомае непростого 1905 года: «О первом мая в Сокольниках говорили давно. Носились слухи о «бунте», об избиениях, разгромах. Множество прокламаций в этом духе было разбросано всюду. Многие дачники, из боязни этого дня, не выезжали в Сокольники, и дачи пустуют.
Но это был измалеванный черт, которого, оказалось, бояться нечего.
Гулянье 1 мая в Сокольниках прошло благополучно. Народу было более 50 000…
Подстриженные, причесанные, одетые по средствам и обычаю, рабочие все были чисты, праздничны, и сновавшие между ними хулиганы и «ночные сокольничьи рыцари» ярко отличались от них.
И когда эта «рвань коричневая» подходила к группам рабочих, ее встречали не совсем дружелюбно…
…Если в толпе были только одни рабочие, – все обходилось благополучно, послушают, поговорят и мирно расходятся. Иногда после речей кричали «ура», но было все смирно.
Не то, когда появлялись хулиганы и карманники!..
Городской праздник был окончен. Москвичи… убрались восвояси, кто на трамвае, кто на извозчике, кто пешком.
Рабочие остались в роще, заняли чайные столики, снова стали собираться в свои партии…
Часу в седьмом образовалась… одна партия, человек в триста, которая прошла по четвертому просеку до линии Московско-Ярославской ж. д. и на 5-й версте, на полотне, расположилась, и начались речи…
В самый разгар речей вихрем по 4-му просеку налетел взвод казаков, и толпа скрылась в чаще леса.
Это был последний эпизод в Сокольничьей роще 1 мая…
Все страхи и ужасы этого дня, навеянные некоторыми газетами и массой прокламаций, оказались вздорными.
Пусть же празднуют и рабочие!
Пусть 1 мая в Сокольниках будет их день. Как Татьянин день для студентов».
Увы, история сложилась несколько иначе.
Именно в Сокольниках произошла первая попытка взять с автомобилиста штраф за превышение скорости. Ограничение имелось – 20 верст в час. Но совершенно непонятно было, как же эту скорость определить со стороны. И вот находчивый сокольнический городовой замерил расстояние между двумя дорожными фонарями, произвел несложные арифметические вычисления и принялся ждать. Вскоре ему показалось, что некий автомобиль проехал расстояние между фонарями несколько быстрее, чем положено. Он остановил автомобиль, однако сразу выяснилось, что эта машина – собственность московского градоначальника. После чего проверка на скорость на долгие годы перестала привлекать московскую полицию.
За год же до Первой мировой войны облик Сокольников практически сформировался: «Теперь Сокольники – очаровательный уголок. Широкие аллеи с прекрасными дорогами, электричество, безупречные подъездные пути сделали то, что москвич, особенно занятой, которому нельзя далеко уезжать из города, тянется сюда со своим летним скарбом, наполняя дачи в конце апреля…
Дачи тут дороги и, конечно, разбираются загодя. Впрочем, на окраинах можно получить и недорогую дачку, но там Сокольники носят характер скорее города и могут удовлетворить лишь очень невзыскательных людей.
«Хорошая» публика последнее время стала избегать Сокольников. Действительно, в праздничные дни, когда происходит великое переселение народов, в Сокольниках жутко – очень уж пьяно и шумно».
Дачный поселок – вот чем сделались Сокольники. Дачи там были солидные, снимались надолго, на годы. Один из тамошних дачников, Николай Щапов писал в мемуарах: «Мы переезжаем туда между 1 и 8 мая по старому стилю; в это время распускается листва. Живем мы, сколько я себя помню, на одной и той же даче подрядчика Горбунова, в Сокольниках, около Богородского моста в Алексеевском (Ростокинском) проезде. Снимает ее отец за 500 руб. в год. На ней остается на зиму много нашей специально дачной мебели, но все же возов пять перевозится ежегодно туда и обратно с бельем, одеждой, книгами, посудой, игрушками, кухонной утварью, корытами, бочками, курами и т. д. Минин рояль перевозится отдельно особой конторой. Все сборы ложатся на маму. Из сарая в комнаты приносится несколько сундуков. В одни укладывается белье и одежда, в другие (в сено, чтоб не разбилась) – посуда, в третьи – съестные припасы: мука, крупа, масло, сахар – много сахара, ведь будет вариться варенье. В день переезда, ранним утром приходит пять подвод с пятью неуклюжими возчиками-мужиками. Зато папа из амбара присылает самого ловкого, расторопного артельщика – черноватого Василия Козлова. Последний является с запасом красиво сложенных, остро пахнущих рогожек и с пучком крепких, уже нарезанных на концы бечевок. На дворе, на солнышке расстилаются две рогожки, на них складываются тюфяки, подушки, одеяла всей семьи. Внутрь запихиваются зеркала и зонты. Все это покрывается опять рогожами и по краям зашивается бечевками, продетыми в медную иголку. Это – тюки. Кухарка укладывает кухонную посуду в бочки. Все перевозимое имущество вытаскивается возчиками на двор и по указаниям Козлова нагружается на подводы. Он заботится о том, чтобы возы были нагружены равномерно, а не так, чтобы все тяжелые сундуки попали на одну подводу, а легкая плетеная мебель – на другую. Надо, чтобы в дороге ничего не развалилось, не потерялось и не побилось и чтобы сопровождающим было удобно сидеть наверху вместе с самыми хрупкими грузами – курами и детским велосипедом. Наверху усаживаются Козлов, дворник, кухарка и горничная. Уложив возы, возчики, дворник и сам Козлов собираются в кухне: им полагается водка и закуска. Потом обоз «с Богом» трогается. Ворота закрываются, наступает тишина. Мы тоже закусываем, няня подметает пол, потом отправляется нанимать легковых извозчиков. Мама запирает шкафы, сундуки, окна и двери. Правда, наиболее ценные вещи (шубы, зимние платья, столовое серебро) уже свезены в фабричную кладовую и уложены там с камфарой и скипидаром (позже стали употреблять нафталин) в огромный, горбатый, обитый жестью сундук. Садимся попарно на извозчиков: мама и Мина, няня и я (баба Саша в Ростове). В руках – самые нежные, бьющиеся вещи: лампы, вазы, часы. По дороге обгоняем медленно плетущиеся возы, машем сопровождающим руками, бабы смеются, сидя наверху, мужики степенно шагают сбоку.
Отпираем дачу. В ней немного затхло, сыро, но на террасе и в саду – блаженство. Молодые зеленые листочки испускают аромат, в траве – молодые, нежные цветочки, воздух, по Лермонтову, свеж и ясен, как поцелуй ребенка. Тишина. Дачников еще нет, и они ничего еще не запылили, не насорили. Я опять проголодался, мама сует мне булочку. Съедаю ее на террасе. Терраса еще непривычно гола, Не повешены и не прибиты дворником занавески из парусины, обшитые красной каймой с фестонами. Птичка в кустах щебечет: «йу, йу»».
Ничем не заменимое очарование, сладость ожидания длительного счастья.
Процветал в Скольниках и спорт – теннис, футбол, велосипедные катания. Для циклистов (так в то время называли велосипедистов) оборудованы были специальные дорожки. Промышляли и особенные жулики, специализацию которых составляла кража именно велосипедов. Это, по большей части, были молодые люди с открытым и доверчивым лицом. Такой жулик подходил к циклисту, заводил с ним «профессиональный» разговор по поводу колес, подшипников, педалей и рулей, нахваливал велосипед своего собеседника, говорил, что думает купить такой же, каталоги изучил, все вроде бы подходит, но боится рисковать, приобретать не прокатившись – все таки вещь не дешевая. За чем же дело стало! – восклицала жертва и предлагала прокатиться на велосипеде. Жулик какое-то время отказывался, потом все же садился, первое время ехал рядом с жертвой, улыбался, смеялся счастливым смехом, говорил, что ему все безумно нравится, постепенно увеличивал скорость, а когда оказывался в определенном отдалении от жертвы, начинал крутить педали со всех сил, и его силуэт исчезал в акварели деревьев.
Время от времени здесь проходили спектакли – прямо на траве, без декораций, перед зрителями, восседающими на садовых лавочках. Спектакли были новшеством и привлекали публику. Особенное впечатление производили мощные электрические лампы, подвешенные на деревьях и подсвечивающие актеров. Лампы создавали ощущение сказочной нереальности.
В советское же время дачи частью сохранились, частью были снесены. Оставшиеся можно видеть на так называемых просеках – улицах Сокольников. Дух дачного поселка ушел окончательно, и его не вернуть.
* * *
А чуть дальше – Пятницкое кладбище. Его устроили в 1771 году и, как во многих случаях, причиной послужила эпидемия. На этот раз была чума. На кладбище два храма – Параскевы Пятницы (в честь которой кладбище и названо) и Симеона Персидского. Здесь, среди прочих, захоронены Т. Н. Грановский, М. С. Щепкин с сыновьями, Н. Х. Кетчер и другие знаменитости. Их хоронили с почестями и торжественно. Грановского, к примеру, несли от самого университета на руках, а это путь неблизкий.
Но больше прочих выделяется не памятник какой-нибудь общеизвестной знаменитости, а высокий черный обелиск со страшной надписью: «Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Алексеевича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии в городе Ляо-Ян в июле 1900 года. Останки привезены в Россию в 1901 году».
При здешнем, кладбищенском храме Параскевы Пятницы действовала церковно-приходская школа. В нем же, кстати, легендарный патриарх Тихон в 1924 году отслужил одну из своих последних служб. Она чуть было не стала последней – он во время службы упал в обморок. Верующие с испугом бросились к нему. «Да нет, я еще жив,» – произнес патриарх.
Спустя же пару лет после тревожного события сотрудники Московского уголовного розыска накрыли здесь так называемый «притон разврат». Тот «притон» содержал некий гражданин Акимов, арендовавший на кладбище маленький домик. Он торговал беспошлинным спиртным и пускал в дом влюбленные пары. Когда «притон» Акимова накрыли, в нем обнаружилось семь таких пар.
А до революции на кладбище существовала богадельня. В 1890 году газета «Московский листок» сообщала: «1 июля проживавший в богадельне при Пятницком кладбище один из призреваемых, психически больной, заштатный псаломщик Дмитровского уезда Иван Иванов Соколов, 25 лет, бросился со второго этажа, с высоты 7 аршин, в выгребную яму и, хотя вскоре был вынут, но уже без признаков жизни».
Заметка называлась «Самоубийство сумасшедшего».
Мемуаристка же Вера Харузина описывала посещение этого кладбища в один из дней: «Тетя из нашего посещения Пятницкого кладбища устроила нечто вроде поездки за город. Отправились мы туда в яркий весенний день, в ландо, захватив все нужное для завтрака и чаепития на воздухе. Я сидела на переднем сиденье, между тетей и тетей Софией Ивановной, – и мне бросилось тогда в глаза изящество и благородство внешнего облика тети Софии Ивановны: ее прямой и легкий еще стан, красивая посадка головы, ее пленяющие изяществом манеры. Это было время нашего последнего свидания с ней: в ноябре этого же года (1880) она скончалась в деревне Уваровке, Веневского уезда Тульской губернии, где ее муж, Иван Дмитриевич Гущин, арендовал имение Уваровых. Теперь мы катили в ландо по новым для меня и интересным улицам, а против нас сидели Катя с круглым румяным лицом и в траурной мантилье и шляпе и Коля в гимназической шинели и синем форменном кепи. День был яркий и красивый – и мне дышалось сравнительно легко.
Был праздник – и поэтому кладбищенская церковь была полна народа. Бесконечно долго читали поминанье после сугубой ектеньи. Тетя предложила нам сесть отдохнуть, но мы сказали ей, что выйдем ненадолго из церкви и погуляем где-нибудь поблизости. Тетя отпустила нас, сказав, чтобы мы никоим образом не уходили далеко. Тетя слышала, что на глухом загородном кладбище иногда скрываются босяки и беглые. Она рассказывала нам про бывший с ней случай, очень напугавший ее. Раз она углубилась в отдаленные места кладбища и встретилась там со священником. Каковы же были ее удивление и испуг, когда священник этот вдруг бросился от нее бежать, и при этом она заметила, что борода у него привязная. Тетя была уверена, что это был беглый каторжник. После этого случая она не уходила уже далеко в глубь Пятницкого кладбища. Но мы смеялись над страхами тети, не верили привязной бороде и были бы рады, случись с нами такая необычайная встреча».
Впрочем, несмотря на все эти события, Пятницкое кладбище считается, да и всегда считалось вторичным, если не третичным в городе Москве. Исследователь А. Саладин описывал его в таких словах: «Пятницкое кладбище удобно соединено с городом трамваем, останавливающемуся у Крестовских водонапорных башен. За ними надо только пройти мост через линию Николаевской железной дороги и спуститься вниз, где в ограде устроена боковая калитка.
Кладбище не может похвалиться благоустройством. Расположено оно в какой-то мрачной низине, заросшей лиственными породами и густою травою. Дорожки неровны, вымощены кирпичом, узки и неудобны для ходьбы. К некоторым памятникам невозможно подойти – так много здесь всяких оград и решеток. Часто попадаются даже двойные ограды: памятник окружен небольшой решеткой, а та заключена в более обширную ограду».
Недалеко за кладбищем, через огороды, видна Сокольничья роща, а близ церкви торчат безобразные вышки и трубы заводов, отравляющих, воздух зловонием.
Как ни удобно сообщение, а Пятницкое кладбище посещается слабо. Между тем здесь есть могилы таких людей, к которым должны быть отнесены слова Некрасова:
Вам же не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,
Чтобы широкие лапти народные
К ней проторили пути…
Но это будет, если только будет, в то гадательно отдаленное будущее, когда наш народ
Белинского и Гоголя
С базара понесет.
А пока не только лапти народные, но и городские сапоги не проторили тропы на Пятницкое кладбище, где погребены Т. Н. Грановский, И. З. Суриков, М. Н. Щепкин, А. И. Урусов».
Tasuta katkend on lõppenud.