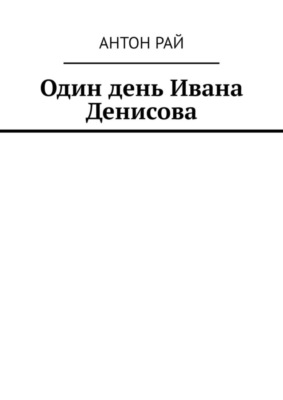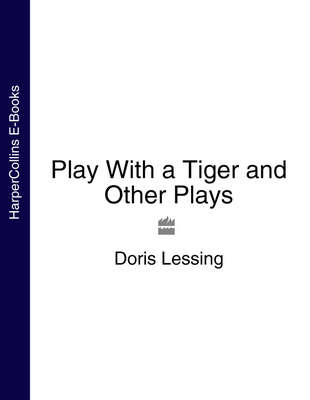Loe raamatut: «Нежные розы пера»
НЕЖНЫЕ РОЗЫ ПЕРА
Пролог
День загадывался обычным. Пожалуй, Кампанелла в рок-исполнении – лучшая идея для мелодии будильника, если в девять утра у вас намечено селекторное совещание, а в пять вы только легли спать в пылу пьяного умата. Достоевский с его всестраданием – гимназистка по сравнению с вами; вот где наука мученичества – отодрать слипшиеся веки и открыть глаза. Для начала – пробить каплями нос от скопившегося за ночь гноя. Дальше – дело мотора. Можно позволить себе пять минут понежиться в кровати, не больше. На то, чтобы встать с кровати, можно потратить ещё десять минут. Семнадцать шагов прямо, поворот, затем ещё девять шагов до ванной бодрой походкой восставшего из ада – на это уйдёт ещё три минуты, не меньше. Главное, не смотреть в зеркало. Сорок пять минут – ровно столько нужно овощу, чтобы превратиться в человека.
То же, что и вчера. Так же, как и пятнадцать лет подряд. Ритуальный пакетированный чай с чёрной смородиной и мятой, каждодневные тосты по-французски. Моя экономка Лара пыталась первое время разнообразить утреннее меню, но все её попытки исправить мою любовь к привычке терпели крах. Она смирилась, и теперь сидит в своей каморке, считая минуты, когда я уйду и она сможет наконец-то убрать весь бедлам. Замечательная всё-таки девушка, даром что из деревни, а почти не ворует. Не иначе как влюбилась дура. Перед тем как решу её уволить, может, трахну её напоследок, на память.
Многие мои коллеги по колхозной дурости совершают две жестокие ошибки: покупают себе пентхаусы и берут их (что самое страшное) в домах, которые мы же и строим, чтобы было подешевле. Стоят себе на сто четырнадцатом этаже, потягивая вино из бутылки, смотрят на гирлянду Москвы и думают, будто бы жизнь удалась. Когда передо мной остро стал квартирный вопрос, я, не задумываясь, переплатил, зато теперь я пью чай и гляжу с высоты пятого этажа на Патрики.1 Утром тут особенно прекрасно. Одинокие собачницы, студенты – недоюристы, заблудшие театралы, интерны – зубрилы с Филатовской – все они праздно шатаются вокруг этой распиаренной лужи, взывая то к прошлому, то к будущему, выпрашивая у великих классиков в немом молчании что-то настолько сокровенное о своей судьбе, что даже сам вопрос, будь он сформулирован, стал бы для них ответом. Если кто-нибудь из прохожих посмотрит на небо, то обнаружит вместо каждодневных туч семь цветов радуги. Но вместо этого они проходят тюремный квадрат вдоль ограды пруда, понурив голову, даже не замечая, что я стою с кружкой чая в руке и смотрю с высоты четырёх лестничных пролётов на них, жалких и одиноких, зная, что их ответ лежит на рельсах несуществующего в этих краях булгаковского трамвая. Моя философия так же пошла и убога, как и их бег, и это хорошо, что её прервал второй будильник. Пора.
Десять минут на сборы, тридцать – на дорогу до офиса. Однозначно, если хочешь быть первым – нанимай секретаршей лесбиянку, которая будет спать с машинисткой начальника. Пока я ехал, разговаривая с ней по телефону, та вкратце обрисовала ситуацию. Босс недоволен тем, как периферийные области страны реагируют на программу реновации жилищного фонда. Если Москву мы отстояли (отступать некуда), то в отдельных регионах нашей великой Родины управляющие на местах не справляются с местными краеведами, которые забили мозги своим князькам-губернаторам; мол, так и так, сносить здания нельзя, историческая застройка, здесь жил наш почётный горожанин, а здесь был проездом великий литератор/художник/театрал (нужное подчеркнуть). Тем хуже для филиалов… и тем лучше для меня. Да, придётся поездить, пожить в душных отелях периферий, но большая премия в конце квартала угомонит мою мятежную натуру. Тут, как и в висте, самое главное – не выдать мою сардоническую гримасу при начальнике, чтобы сумма откупной была больше.
Сколько бы ты ни взял на работу HR-ов2, контролёров управления и коучей, они никогда не смогут упорядочить и организовать броуновское движение офиса; скорее, их голоса вольются в общий вой суеты, и они будут так же, как и все, имитировать, имитировать и имитировать упорядоченную и слаженную работу. Муравьям Бог дал муравейник, пчёлам – улей, людям досталась канцелярия. Тысячи холодных отказов и звонков потеплее, гвалт голосов, будто бы все они жарятся в адском пламени – всё ради чисел в таблице, всё ради диаграмм и графиков в презентациях. Работа ради работы, ради одобрительного взгляда, ради белых разводов на столешницах в уборных, ради котла, вертела, сковородок, подсиженных мест. Между кабинетом начальства и офисными коробками топ-менеджеров этажом ниже – три фута бетона и звукоизоляции, не меньше. Как думаете, где мой кабинет?
Я не успел зайти и положить дипломат на стол, как босс помахал мне рукой через стекло. Старый лис знает, что я его подсиживаю и пишу отчёты акционерам, но ему, как прожжённому, умудрённому опытом функционеру, это даже нравится. Ворон ворону глаз не выклюет, и вот я сажусь в неудобное кресло напротив его стола, чтобы он, заговорщически подмигнув, начал свою очередную тираду:
– Дим, а ты маме звонил?
– П… простите?
– Дим, ты вот весь в работе, не спишь ночами. Гляди, какие мешки под глазами, хоть сахар сыпь. Поверь трижды заслуженному деду, семья – это главное в жизни.
Ну да, особенно когда у тебя на семью записано всё имущество.
– Виктор Степанович, – парировал я. – Так ведь я только о семье и думаю. Не в картонную же коробку свою благоверную вести. Да и мама моя, дай ей Бог здоровья, живёт не то чтобы плохо. И ведь работаю я, думая исключительно об этом.
– Это всё верно, – сквозь зёв процедил начальник. – однако деньги, отнюдь, совсем не самое главное в жизни.
Куда ж ты исчез, гад, со своей постылой проповедью, когда своих «партнёров» по гаражному кооперативу в бетон заливал? И ведь смотри, какую рожу корчит, точно толстовец за пахотой. Тебе бы в Порфирии Порфирьевичи, в шпики, Иуда.
– Виктор Степанович, вы меня звали так, кофе попить или по делу?
– Суетишься, Дим, суетишься. – Босс откинулся в кресле, чтобы снова произнести то, что я и так знаю. – А между тем дело есть, причем безотлагательное, самое что ни на есть срочное дело.
Итак, сейчас самое время пройти в переговорную, встать возле белой интерактивной доски, и, слепя скучающих топов лазерной указкой, сказать:
«Дорогие коллеги. Как мы видим на графике №6, любая уважающая себя строительная корпорация, вроде нашей имеет огромный потенциал для энергичного расширения. Именно поэтому диаграммы четыре, пять и шесть показывают нам, что филиалы во всех регионах нашей необъятной родины просто необходимы. Мало того, именно они делают нам основные показатели и составляют преимущественную выручку. Но тем не менее, проблема удалённого управления этими филиалами из федерального центра показывает нам, и мы это явственно видим на круговой диаграмме №3, что количество факапов при строительстве жилищных комплексов в региональных центрах имеет тенденцию неуклонного роста без установленного плато. Говоря проще, уважаемые топ-менеджеры, вы нахрен никому не нужны. Вы бессмысленны, ваша работа – фикция, втирание очков начальству. Единственный человек, который хоть как-то способен удержать эту компанию на плаву… это я. Объявите ли вы забастовку, уйдёте ли поголовно под сокращение штатов – ничего не изменится, пока я, полудурки, езжу по регионам и решаю проблему с филиалами. Я, кризисный управляющий, даю вам деньги, жму руки тем, кому мне противно, общаюсь с местными царьками и сую в их потные ладони жалкие гроши, которые они называют «лавэ». Я – это их грозная «проверка из Москвы», ревизор, судья, сама власть во плоти. Меня, а не вас, боятся все наши божки в кожаных креслах в каждом городе, где есть наша контора. Как показывает нам таблица, вы всего лишь чёрточка, галочка, буквочка в штатке, и ваши паспортные данные нужны только затем, чтобы вписать их в пробел между зарплатой и датой получения. Вопросы? Обратная связь? Вопросов нет, что ж. Конец предыдущего слайда.»
Щёлк.
– … в Сперанск. – Виктор Сергеевич, как и всегда, принял мою дрёму за сосредоточенное внимание к собеседнику. Однако на этот раз, пожалуй, мне и вправду стоило бы его послушать.
– К… Куда? В Сперанск?
– Ну да, – босс удивлённо посмотрел на меня. – Я думал, ты обрадуешься. Всё-таки как-никак родной город. Малая родина, что уж там. Маму проведаешь, по родным местам походишь, не командировка – а сказка, ну. А надоест, вернёшься домой, там и делов-то, что козла на место поставить. Справишься?
– Конечно, – ответил я и молча побрёл готовить документацию.
***
Лампада светит тускло, греет долго.
могильный ржач троянского коня -
скупой свидетель мимолётной дружбы.
и ровно так, как не бывает ада без огня,
как не бывает слякоти без лужи,
так нет и никогда и не было тебя.
и я кормлю сердечной тканью волка,
собой себя историю кроя.
Пока летел, накидал в самолёте пару строчек. Всё моё увлечение стихами, казалось бы, должно было выветриться к двадцати девяти годам, сойти на нет в бесконечной грызне за место под офисным солнцем, но не вышло. Как-то умудрялся находить в себе силы, спрятанные невесть где в потаённых закромах души, и писал, писал стыдливо ещё простым клерком, как тать, укравший у самого себя прекрасные минуты невесть ради чего. В моём домашнем сейфе нет никаких ценных бумаг и денег (я не дурак и имею ячейку в банке), но в нём лежит полуистертая тетрадка, в которой, быть может, и осталось что-то от меня, но это что-то уже несоизмеримо далёкое от того меня, сидящего в костюме-тройке и устало глядящего в иллюминатор.
Встречали с помпой. Аркаша, управленец Сперанского филиала, арендовал премиумный автомобиль, набил его шампанским и цветами (видно, памятуя о моём прошлом визите в город Аракчеев, когда я решил взять с собой Ларису, представляя её всем, как мою пассию). Пока ехали до офиса, я многозначительно молчал, копаясь в телефоне – всегда так делаю, когда хочу накрутить драмы. Но в данный момент времени действительно было не до слов и распеканий – я вернулся в город, который покинул лет пятнадцать назад и в который поклялся никогда не заезжать без видимой на то причины. Вокруг меня, через окно, сквозь щель стеклоподъёмника дуло колхозным смрадом и гнилью, моё городище осталось ровно таким, каким я его оставил когда-то. Реклама, торговые центры рядом и везде, дряхлый трамвай, площадной аквамарин – ничто не могло скрыть уныние и серость. Напротив, неон кричал, что Сперанск стал проституткой, укравшей у матери последнюю помаду.
Насилу приехали. Аркаша, как полуграмотный управленец-завхоз, смекнул, что негоже ставить своих сотрудников во фрунт с караваем и солью возле входа; напротив, нужно усадить менеджеров в кресла, строго-настрого наказав не обращать внимания на человека из Москвы. Мол, мы тут делами занимаемся, а тут ещё вы со своей проверкой. Умно, Аркаш. Небось в Москву собрался?
Кабинет этого стольного князя находился за стеклянной перегородкой, как и все офис-боксы современных сетей, раскинутых по захолустьям. Хай-тек мебель из шведского магазина на скорую руку, обезличенное пустое пространство – всё вокруг кричало о своей пародийности, об умении походить и казаться, нежели взывало к серьёзному и продуктивному труду. Я сел на кожаную тахту, расстёгивая дипломат, Аркаша как-то по-детски неловко разместился в своём кресле. Чёрт, кажется, я забыл в Москве свой тюбик с каплями. Надо успеть заскочить в ближайшую аптеку, пока из моего носа не полило как из ведра.
– Дмитрий Николаевич, – перебивчиво воскликнул южнорусский князёк – Мы вот с вами по телефону всё о работе, да о работе говорим. А сами-то вы как? Рады приехать в родные, так сказать, пенаты?
– Я-то… конечно. Как-никак, в родном доме и стены помогают. Но хочешь, Аркаш, по честности скажу, как другу?
– Конечно! – воскликнул без пяти минут повешенный.
– Я бы сроду сюда не приехал, если бы Старший не приказал. А ты знаешь прекрасно, Виктор Степанович меня просто так никогда не посылает.
– Честно говоря… – Аркаша начал подбирать слова, смекает. – Я понимаю, почему Старший вас послал. Но уверяю вас, ситуация уже улажена, вам остаётся лишь только в этом убедиться.
– Да неужели… Ты говоришь мне, что делать? – усмехнулся я в ответ. Позвольте же напомнить вам, Аркадий Викторович, в прошлом году, в Москве, вы вместе с советником губернатора клятвенно заверяли нас, весь совет, всех акционеров, что Сперанск идеально попадает под программу реновации жилья. Что жилищный фонд Сперанска на сорок…вру. Сорок три процента состоит из ветхого и аварийного жилья, что проекты кварталов «Мечта» – это идеальный, доступный вариант для жителей этого города, и что самое главное, рентабельный. Было?
– Ну…да.
– Было, – я достал следующий документ. – Затем советник губернатора Лисович был отстранён от занимаемой должности постановлением губернатора Сперанской области от 24 сентября прошлого года за номером… так, секундочку… ага, №1394-П. И вы вновь уверили совет, что на делах филиала это никак не отразится, это было?
– Было, – вновь ухнул Аркаша.
– После чего была отправлена экспертная комиссия, которая нашла наиболее рентабельный участок под строительство жилищного комплекса, а именно: равноудаление от объектов социальной инфраструктуры, транспортная доступность и, что самое главное, был заключен договор с местной группой компаний «СервисПромРесурс-ГК» на строительство самого большого для Сперанска Торгово-Развлекательного Центра для обеспечения нужд жилищного комплекса и города в целом. Всё верно?
– Верно.
– Всё. Верно. И вы настойчиво уверяли нас, что всё у вас везде схвачено, что осталась сущая формальность – утвердить новый генеральный план города и вписать наш гипотетический микрорайон в эту проформу – пустяк, ерунда. Однако… – тут необходимо выдержать драматическую паузу. – Однако местные политические активисты, руководствуясь своими соображениями, основали движение по остановке всех планируемых работ, перегородили доступ к технике, привлекли внимание местных и федеральных телеканалов и подвергли нашу корпорацию гипотетическим имиджевым и имущественным рискам. Так?
– Да, но… – на Аркаше лица не было.
– Никаких «но», Аркадий Викторович. Руководство Корпорации не может расценивать ваши действия иначе как «халатное отношение к исполнению своих функциональных обязанностей». Вы не взвесили все «за» и «против», не попытались договориться с этими… активистами, и своими попытками скрыть от федерального офиса всю информацию о сложившейся ситуации, можно сказать, уже упустили выгодный для нашей фирмы контракт. Ввиду этого обстоятельства… – и здесь должен наступить катарсис, поэтому я задержал дыхание. – … руководство Корпорации приняло решение о вашей профессиональной непригодности и о назначении меня на должность кризисного управляющего Сперанского филиала. Прошу немедленно передать дела и покинуть офис компании в течение ближайших часов, в противном случае вы будете сопровождены к выходу охраной.
Я видел этот взгляд сотню раз, его ни с чем не спутать. Только что, казалось бы, у тебя было кресло, стабильная работа, жена изменяла, но возвращалась домой, ибо знала, что такое «кормилец», дети – оглоеды, живущие на всём готовом. И вот, кончено. Аркаша, дурак, конформист, цепляется за свой уютный мирок и даже не подозревает, что он то как раз, в отличие от меня, получил вольную, стал свободным, испытал такое потрясение, что отрезвел, очнулся от сна; что прочувствовал то, что я уже никогда не почувствую. Что я отдал бы всё, всю эту минуту, чтобы поменяться с ним местами. Но вместо этого он пучит желваки, кулаки его сжимаются все крепче, и вот он уже встаёт с кресла, над столом, надо мной, чтобы крикнуть:
– Ах ты сука! Мудак б***ь московский! «Как другу», понимаешь! Приехал тут, на понтах весь сидит, бумажки листает! Да ты знаешь, говно, сколько я потов истратил, бегая по мэриям – кафетериям, понимаешь? Тому дай, этому дай, тут нельзя строить, нужна мелиорация, вашу мать! А ты эту землю-то видел, скотина?! Да я с шестнадцати лет разнорабочим по стройкам жилы рвал, пока ты, сопля, ничего тяжелее книжки не поднимал! Да я последние штаны на бетон изводил! Да… ты… – тут Аркадий Викторович упал в кресло и поник. Мне же нужен всего один патрон для контрольного выстрела, я всё-таки гуманист.
– Ничего личного, Аркаш. Это только бизнес.
***
Мне всегда было интересно, а что происходит в мире пьесы после того, как упал занавес. Вот, например, немая сцена в «Ревизоре». Все стоят в исступлении, городничий распростёр руки, Лука Лукич, почтмейстер в знаке вопроса, а после…Что случается «после» при падении занавеса? Интересно было бы посмотреть, как все эти герои выйдут из окаменелого состояния и что они будут делать после. Благо, жизнь интереснее. Я сижу на тахте, листая журналы, а Аркаша при чутком взгляде охранника и коллег через стекло собирает вещи. Когда я предложил помощь и арендованный автомобиль, то почему-то повешенный отказался. Вместо этого гордый и вновь обретённый человек, глядя вполоборота не то на бывший кабинет, не то на меня, сказал уже спокойным голосом:
– Знаешь, Дим… Я ведь так рад был, когда узнал, что ты в Москве, в нашем деле, пусть и по юридической части. Думал, вот, свидимся, спишемся, дело какое-нибудь откроем. Когда ты мне позвонил, я был вне себя от счастья. Наконец-то! В одном дворе жили, один мячик пинали, теперь у нас будет общее дело… Думал, что ты человеком стал. Нет в тебе человека. Бывай, друг.
– Аркаш… – окликнул я его, ждущего лифта в проходе.
– Ну!
– Я ничего не забыл. Бывай, «друг», – и лифт унёс этого некогда весельчака, некогда душу нашей детской дворовой компании навсегда из моей жизни. Я же, напротив, пошёл в кафетерий, выпил стаканчик порошкообразного латте, а затем пригласил в свой временный штаб местного кризис-менеджера.
В кабинет вошла субтильного вида очаровательная девушка, которая всем своим видом хотела показать всему окружающему миру олицетворения слова «строгость». Очевидная карьеристка, с серьёзными замахами на амбиции. Интересно посмотреть, что у неё сильнее – желание сделать карьеру или деланная гордость.
– Добрый день, присаживайтесь, – сказал я надменно скучающим тоном. Игра началась. – Простите, я ещё не со всеми успел познакомиться, такой день, устал от перелёта. Как вас…
– Катерина, – перебила она, и тут же добавила. – Можно просто Катя.
Скучно. Даже азарта нет.
– Катя, скажите, а вы знаете, кто я и зачем я здесь?
– Конечно, я же не слепая, – ответила она с неким задорством. А вот и начало норова.
– Катя, – улыбнулся я ей в ответ. – Ну раз мы все тут всё знаем, предлагаю не тянуть кота поперёк живота и рассказать мне текущую ситуацию и, что не менее важное, какие меры принял Аркадий Викторович до моего прибытия сюда.
– Во-первых, – Катя открыла папку с документами. – как говорил Каша (о как!), ситуация и вправду стабилизировалась. Были приняты все меры, чтобы сделка не была сорванной. В частности, взамен предполагаемого ранее места застройки в Южном районе города, администрацией области было предложено рассмотреть в качестве альтернативы район Центральный. Город готовится к тысячелетию, и обновление облика города к этой дате представляется для города приоритетным. Более того, администрация области готова субсидировать наши работы под некоторый процент за счёт средств федерального и местного бюджетов, так как мы попадаем сразу под две целевых программы: круглая дата и ….
–… реновация ветхого жилья, это понятно, – перебивая Катю, сказал я. – Но тем не менее позволю заметить, я и сам своего рода ваш земляк, и знаю эти места наперечёт. Мне интересно, какие именно кварталы Центрального района мы можем взять в оборот.
– Это моё «во-вторых», – Катя подала мне новую бумагу. – Я долго анализировала все факторы, необходимые нам для рентабельности строительства взамен упущенной площадки. Это и транспорт, и доступность до культурно-социальных объектов, и налаженный жилищно-коммунальный ресурс. Выбор пал…
Я читаю бумагу и вижу улыбку Аркаши, который знал. Сука, знал, что я её увижу. Не буди лихо, пока оно тихо, Дима…
– … на территорию квартала по улице Паромная. Старые дома, двухэтажные бараки, построены заводом «Луч»…
– … в пятидесятых годах прошлого века, исторической и культурной ценности не представляют, спасибо, – тревожно ответил я. – Там как раз это… дом мой… бывший. Скажите, какое их состояние на данный момент.
– Все подготовительные меры были приняты до вашего приезда, Дмитрий Николаевич, – весело отрапортовала Катя. – Готовы под снос, бригада на месте, как раз сегодня…
– Машину к парадному… Срочно!!!
***
Потом рассчитаемся с ГИБДД. Едем на автомобиле Кати, потому что Аркаша заблаговременно отпустил «премиум». Главное, едем! Только бы успеть, мчим сквозь бульвары и проспекты, сквозь восходящие потоки движения, сквозь сигналы недовольных, по встречной, поперечной, сплошной полосе, но едем, едем, едем. Как назло, влил дождь мелкой рябью, постукивая по лобовому стеклу дробью моих нервных рук. Я хотел, мечтал увидеть этот момент, когда всё закончится, когда мой проклятый барак рухнет, напичканный динамитом, я хотел почувствовать торжество момента, эпикурейский восторг от падающих друг на друга кирпичей. И ведь главное, не Бог это сотворил, не ирония судьбы, не злой рок, а я, я, я! О, сколько мыслей, сколько страстей я испытал, покидая дом, проклиная его, поклявшись возвратиться всего один раз. Вот он, триумф воли, моей силы мысли!
Ещё лет семь назад, как только я скопил необходимую сумму, я сразу же предложил родне переезд из этого тлетворного клоповника, доживающего свои последние дни, в огромный новый дом. Я любил и люблю свою семью, я хотел, чтобы она забыла, что значит выходить с тазом на улицу и вывешивать бельё на натянутую меж двух деревьев верёвку. Я звонил ей, спрашивал, просил выслать ей ещё денег, но в ответ лишь слышал, как она скучает по старому дому. Я никогда не понимал, почему ей так не хватает грязных заплёванных сигаретными бычками тесных лестниц, выкрученных и разбитых ламп с переломленной вольфрамовой нитью, отколовшихся от фасада кирпичей и постоянно текущей, продуваемой всеми ветрами крыши. Наконец, сегодня будет покончено, и она больше не будет скучать, как не скучаю я по бессонным от озноба ночам.
Из-за угла торгового центра показалась моя улица. Катя припарковалась у бордюра, я велел ей найти прораба, а сам, поправив очки и, отряхнув штанины, пошёл в сторону своего двора. Выцветшие агитплакаты десятилетней давности развевались от ветра, намертво приклеенные к стенам, будто бы были самой опорой строений, глинообразная грязь была везде, всюду, и невозможно было пройти, не запачкавшись в ней по самое горло. Мой двор был ровно таким, каким я его и запомнил, уходя, только не было футбольного поля – на нём стояли бульдозеры, проржавевшая опора качелей была выкорчевана из земли и теперь валялась пьяницей возле валежника, и единственное, что оставалось, как было, так это турник – насмешка, памятник самому себе. Объяснившись с рабочими, ленно покуривавшими возле одного из самосвалов, я решился взглянуть на то, что должно было быть разрушено ровно через час – мой дом. Двухэтажный красный барак с двумя подъездами, прогнившими досками на крыше и пристроенной в насмешку справа от строения трубой и котельной, которая никогда не топилась. Старый, дряхлый, немощный кирпичный старик глядел на меня зияющими оконными впадинами, и только осколки стекла да торчащая из седьмой квартиры красная занавеска кричала мне, что когда-то тут кипела жизнь, и эта жизнь была моей.
Простояв где-то с минуту, переминаясь с ноги на ногу, я не выдержал и вошёл внутрь, в свой подъезд. Было темно, но я помнил всегда, что лампа никогда не горела и не зажжётся, сколько бы ни щёлкай переключателем. Помнил каждый сантиметр, изучив его в детстве, помнил всё в тончайших деталях вплоть до впадинки между дверью и стеной, где я прятал сигареты от родителей. Пошарив там, я обнаружил мятую пачку с шестью сигаретами. Иронично, но я решил закурить.
Одна, две, три, четыре ступеньки, поворот. Десять ступеней до продола, ровно столько же – до лестничного пролёта. Квартира справа, номер Три. Моя квартира. Двери не было, только манящий проём и вытоптанный коврик с надписью: «Добро пожаловать!». Отерев об порог подошвы, остукав ссохшуюся грязь с башмаков, я зашёл.
Пять шагов прямо, затем три шага налево. Опираясь на стену, я прошёл в то, что некогда было гостиной. Не было никакой мебели, цоколь люстры вывернулся в страшную спираль, а на стенах виднелись остатки обоев, цветочный узор которых бесил меня, когда я смотрел на них сквозь письменный стол, заваленный школьными учебниками. Щёлк. Это включилась гудящая трубка чёрно-белого «Горизонта», который ловил всего три телепрограммы. Конец предыдущего слайда, щёлк. И где-то на кухне зашипела выдуманная мной радиола. Щёлк, и вот я стою у окна, смотря на рабочих во дворе, что ждали заветного часа, потягивая чай из объёмных термосов. Они смотрят на меня, стоящего возле оконной рамы, как когда-то смотрели на меня Аркаша, Саня и Андрей, зазывая меня на улицу. Щёлк, и вот уже нет никаких рабочих, а есть лишь детская площадка со ржавыми качелями, песочницей и турником, двумя скамейками и разбитым возле них палисадником. Щёлк, и вот уже Лаваш пытается попросить у ПодайПатрона мелочь на опохмел, а тот замахивается на него в ответ, обещаясь вызвать милицию. Так никогда и не вызовет.
Щёлк! И стало казаться, будто бы весь окружающий меня мир – лишь злая выдумка, неправда, эрзац, симулякр; что сейчас залетит в эту разбитую оконную раму сквозняк, поднимет меня, маленького, песчанистого, упрёт меня в потолок; что вот он я, ничтожный, кружусь, кружусь, кружусь опавшим отклеившимся листочком обоины, и нет меня, никогда не было, как не было ни прожитых мною беспечных лет; не было ни мук, ни слёз, ни разбитого сердца; что всё вокруг – пустое и пошлое, ничтожное, как ничтожно время; что я сейчас проснусь, продеру веки, открою глаза, а там…
1
– Ты будешь вставать, скотина эдакий? – бабушка молодцеватым движением сорвала с меня одеяло так, будто бы презентовала новый автомобиль. – Я кому сказала ещё вчера: потом почитаешь, нам просыпаться в шесть!
– Но ба-а-а-а… – свёрнутый изюмом, я шипел, пытаясь спрятаться от ядовитого солнца в подушку. – Сейчас лето, а дед всё равно никуда уже не уйдёт.
– Ах, не уйдёт… Да я тебя сейчас, сволота, вместе с ним положу!
Уворачиваясь от хлыста, оригинальным образом сделанным из простыни, я спросонья побежал на кухню, где уже пузырилась и булькала покрытая корой овсяная каша. Мама была дома, как и положено быть дома всем учителям русского языка и литературы в середине лета, и теперь, разгоняя скуку и считая дни до поездки на моря, она каждодневно кухарничала возле единственно работающей конфорки нашей электроплиты. Верно сказано: чем старше дама – тем вкуснее борщ, и в тот период моего детства она была очень и очень молода, поэтому я ковырялся в густой и застывшей на тарелке каше, словно передо мной поставили ломоть гончарной глины. Спираль, висевшая на люстре, давным-давно выветрилась, поэтому то на окно, то на фрукты, то на корзину с печеньями попеременно садились мухи. Кажется, это был мой шанс. Дождавшись, пока одна из несчастных не прижужжит на край тарелки, я тут же вскрикнул: «Мам, я это есть не буду!», на что с не меньшей долей учительского софизма она ответила: «Каша хорошая, просто ты – говно.»
Мама никогда не была жестокосердным человеком; напротив, я не обижался на такие подковырки, ибо незнамо в какие года, совершенно не разговаривая об этом, мы как-то условились подкалывать друг друга по поводу и без, прекрасно всё понимая про себя. Делать было нечего – бой проигран, и я с неутомимой целеустрёмленностью экскаваторщика принялся за повинность, в то время как бабушка бегала по квартире, наводила суету и паковала нужные для неё вещи. Предстояла поездка на кладбище.
Можно перенести Новый год и Рождество. Можно отменить день рождения. Ежегодная поездка к деду на кладбище наступит всегда, в один и тот же день, час, с точностью до миллисекунды; и значило это, что в прихожей на гвоздике уже висел мой мешковатый костюмчик «на вырост», в котором меня наверняка увидели бы во дворе, а, как следствие, засмеяли. Я уже слышал ехидные «Классно выглядишь!» от Аркаши и Сани и поэтому тянул-тянул-тянул как мог минуту переодевания, и уж только когда бабушка пошла закрывать «на всякий пожарный» газовые вентили, я с неохотой втиснулся в пиджак.
В театральном кружке, куда я ходил после школы, после нескончаемой череды скороговорок, мы делали интересное упражнение. Открывался шкаф, и преподаватель по очереди доставал нам всевозможные костюмы и маски – от Буратино и Пьеро до королей и маркизов, от солдатских кителей до генеральских эполет. Надевая всё это, мы должны были, как представляли себе по детской фантазии, оправдать перед преподавателем наш костюм. Если я был в костюме собаки, мне было положено гавкать на всех своих сокурсников и есть конфеты с рук. Если я был в костюме клоуна, мне приходилось падать на банановой кожуре. Просунув свои руки в лацканы пиджака, я вообразил себя взрослым.
Выходя из подъезда, я с облегчением обнаружил, что во дворе не было никого, кроме ПодайПатрона, который ковырялся возле своего оранжевого «Москвича», пытаясь не то поменять свечи зажигания, не то ремень ГРМ. Вообще-то, на самом деле его звали дядя Боря, и он страшно сердился, когда его называли как-нибудь иначе. Но ПодайПатрон был таким человеком, которым сердится на всё и всех: лавочке под его окнами, принесёт ли почтальон повестку слишком поздно – дядя Боря, хоть и был по натуре своей очень добрым и работал мясником на рынке, всегда не упускал случая спустить собак на первого попавшегося на руку, если это, конечно, не была его жена, перед которой с грозой двора случалась удивительная метаморфоза, превращая грудастого великана в покладистого подкаблучника. Да и сам дядя Боря в таких случаях становился каким-то мягким, пластилиновым, сжимался куда-то в себя, и только слышно было: «Конечно, солнышко» или «Муся, не сердись».
И я стоял возле крыльца и смотрел на ПодайПатрона, на его работу, смотрел на его солидольные руки, как реки пота стекают по его выпирающему лбу, как ловко и умело тот орудует гаечным ключом, будто бы сталь являлась какой-то частью, протезом, продолжением руки, что мне хотелось бросить прямо за землю вонючее мусорное ведро, да подойти, подбежать, пожать ему руку, помочь ему; и пусть горело бы синим пламенем и костюм на вырост, и кладбище, и все ритуалы. И тут, будто молния, меня ударило фразой мамы про него, сказанной когда-то вскользь: «Мясник и есть мясник». И я пошёл в сторону мусорки, даже не удостоив его кивком.