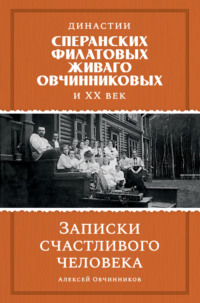Loe raamatut: «Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека», lehekülg 2
После Октябрьского переворота Алексей чудом добрался до Москвы и летом 1919 года зарегистрировался как военный летчик. Он был направлен в качестве инженера на авиационный завод в Брянск, где проработал чуть меньше года. В начале 1920-го он был арестован и под охраной перевезен в Петроград, где помещен в тюрьму. Его последняя записка сестре Тане из тюрьмы была датирована февралем 1920 года: «Близится весна. Голодаю, слабею, надеюсь к Пасхе быть дома…» Получив письмо и выхлопотав разрешение, Татьяна выехала в Петроград и, придя в тюрьму, узнала, что Алексей Михайлович Овчинников умер от тифа 6 марта 1920 года и был похоронен в общей могиле, место которой неизвестно. Ему было в то время 32 года.
Теперь давайте вернемся на пятнадцать лет назад, в счастливые дни 1904 года. Семья Овчинниковых, как я уже писал, снимала в это лето флигель в имении Белкиных Воскресенское, недалеко от станции Бутово Курской железной дороги. Туда к ним нередко приезжали гости. Чаще других Александр Константинович Трапезников, ухаживавший за старшей дочерью Овчинниковых – Марией, с которой он обвенчался в 1905 году. Однажды на несколько дней приехала целая компания молодых Живаго: Татьяна Романовна – барышня лет восемнадцати, ее брат Вася – ровесник Алеши, и сестра Наташа, серьезная тихая девочка со сдержанными манерами, которой в то время было двенадцать лет. Их отец, Роман Васильевич Живаго, был богатым домовладельцем. С его супругой, Таисией Ивановной, была близко знакома Вера Александровна Овчинникова. Возможно, это была первая встреча моего деда Алексея Михайловича со своей будущей женой, моей бабушкой Натальей Романовной Живаго, встреча, с которой началась их дружба, которая затем переросла в любовь. В 1906 году Алеша окончил последний, 7-й класс Практической академии и осенью стал студентом Императорского технического училища. По словам Попова, он сильно вырос, похудел, сменил детскую прическу «бобриком» на длинные волосы «на пробор», смазывая их бриолином. Он начал учиться играть на виолончели и благодаря своему прекрасному слуху добился успехов. Вместе с Живаго он стал часто бывать в консерватории, а после концертов провожал Наташу и Васю до их особняка на Никитском бульваре, нередко засиживаясь у них допоздна.
В марте 1907 года Наташе Живаго исполнилось 16 лет. В день ее совершеннолетия Алеша подарил ей букет прекрасных роз, купленный в одном из лучших цветочных магазинов. Однако, будучи очень стеснительным, он попросил своего бывшего воспитателя Владимира Попова, ставшего его близким другом, чтобы цветы были преподнесены Наталье от них обоих. Что и было сделано. 27 апреля 1911 года состоялась свадьба Алексея и Натальи. Жениху было в это время 23 года, а невесте – 20. Но об этой свадьбе и дальнейшей жизни Натальи Романовны Овчинниковой-Живаго я расскажу в следующей главе.
Глава 2
Живаго
К роду Живаго я имею такое же отношение, как и к роду Филатовых: мать моего отца, моя бабушка, Наталья Романовна в девичестве носила фамилию Живаго. Кто же такие Живаго? В книге И.Кусовой и Г.Чикваркиной «История рода Живаго»16 дается объяснение этой довольно редкой русской фамилии. По их словам, В.Даль в своем толковом словаре переводит эту фамилию, как «живые», «подвижные». Там же приведен подробный анализ истории этого рода начиная с XVI века. Эта история тесно связана с городом Переславлем Рязанским, в последующем ставшим просто Рязанью.
Моя бабушка по отцу, Наталья Романовна Живаго, родилась в 1891 году в семье богатого домовладельца Романа Васильевича. Его отец Василий Романович происходил из старинного рода Живаго. Многочисленные представители этой семьи занимали видное место в купеческом сообществе Рязани. Один из Живаго, Егор Андреевич, был даже избран городским главой. Его брат Афанасий Андреевич17 пять сроков подряд избирался заседателем гражданского суда Рязани, за что был награжден золотой медалью на Анненской ленте с надписью «За усердную службу», что не помешало ему успешно заниматься коммерцией и вместе со своей супругой Мариной Ивановной, урожденной Ануровой, родить пятерых сыновей и четырех дочерей. Его сыновья также занялись коммерцией. Старший наследник, Михаил Афанасьевич18, стал крупным купцом-предпринимателем в Рязани. Однако его единственный сын, Иван Михайлович, перебрался в Москву, окончил историко-филологический факультет Московского университета и в течение многих лет преподавал в различных учебных заведениях, зарекомендовав себя талантливым педагогом. В 1866 году Московское общество любителей коммерческих знаний избрало его на должность инспектора (руководителя) Московской практической академии коммерческих наук. Он проработал в этой должности более тридцати лет, за свои заслуги был награжден множественными орденами – Станислава, Анны и Владимира разных степеней и стал действительным статским советником.
Второй сын Афанасия Андреевича, Сергей Афанасьевич19, тоже переехал в Москву и в 1822 году завел «золотопрядильную, мишурную и канительную» фабрику и открыл на Тверской улице магазин военной атрибутики, продававший золотые эполеты, аксельбанты и другое офицерское обмундирование, которое он поставлял даже к императорскому двору. Сергей Афанасьевич Живаго был знаменит в своей родной Рязани тем, что активно способствовал открытию в этом городе первого коммерческого банка, внеся в его основной капитал двадцать тысяч рублей. Этот банк, известный как «банк Сергея Живаго», был основан в 1862 году и во многом помог развитию города. Он прекратил свою деятельность в конце 1918 года, когда советской властью был издан указ о его национализации. Следует упомянуть, что спустя 75 лет, в июне 1992 года, по инициативе мэрии Рязани было принято решение о создании первого в Российской Федерации муниципального коммерческого банка. Ему было присвоено имя Сергея Живаго.
Проживая в своем доме в Газетном переулке, Сергей Афанасьевич Живаго, являлся старостой храма Успения Божьей Матери на Вражке, расположенной недалеко от его дома. В 1860 году на свои средства он капитально отстроил эту церковь, придав ей современный вид. Разрисовал этот храм его брат, Семен Афанасьевич20, четвертый по старшинству сын Афанасия Андреевича Живаго, академик живописи и профессор Императорской академии художеств и специалист по исторической живописи, знаменитый иконописец, специально приехавший для этого из Петербурга.
Третий сын Афанасия Андреевича Живаго, Иван Афанасьевич, прадедушка моей бабушки Натальи Романовны, а стало быть, имеющий прямое отношение ко мне, также переехав в Москву, занялся торговлей винами и открыл первый в Москве погреб иностранных вин, находившийся на Лубянской площади. Позже, в 1838 году, он купил участок земли на углу Большой Дмитровки и Салтыковского переулка и построил на нем собственный дом. В него он перевел свой магазин «заморских вин»21, хорошо известный москвичам того времени, покупавшим там «рейнские вина, токайские и венгерские хереса и мальвазии». От двух жен у Ивана Афанасьевича родилось 12 детей, большинство из которых умерли в младенческом возрасте.
Только у одного из его сыновей, Василия Ивановича Живаго (моего прапрадедушки), родилось многочисленное потомство, и он, единственный продолжатель данной ветви рода Живаго, стал компаньоном, а затем и наследником своего дяди Сергея Афанасьевича, получившим от него фабрику и магазин офицерского обмундирования на Тверской улице. По словам Александра Васильевича Живаго22, сына Василия Ивановича, «Сергей Афанасьевич потребовал, чтобы мой отец переехал жить к нему в дом в Газетном переулке. …Вставая рано, старик требовал, чтобы Васенька пил с ним утренний чай. «Всякое бывало, – говорил отец, – другой раз не доспишь, вернувшись поздно домой…, к утреннему чаю умоешься и идешь в столовую приветствовать дядю с добрым утром, а в течение дня и виду не покажешь, что не спал». Сидеть в магазине молодежи не полагалось, да и некогда было. Нет покупателей – готовили товар к отправке в провинцию или писали счета. По воспоминаниям его сына Александра Васильевича Живаго «…бывали года, когда торговля шла особенно хорошо. Празднества, приезды двора, войны давали магазину хорошие заработки. Особенно хорошо торговали в Крымскую кампанию…» Но эта работа была далеко не легким делом и требовала от владельца магазина знаний всех особенностей весьма разнообразного в те годы обмундирования и умения различать многочисленные полки времен императоров Николая I и Александра II.
По воспоминаниям Александра Живаго, «в 30-летнем возрасте отец задумал жениться и обзавестись семьей. Образованный вполне достаточно по тому времени, начитанный, скопивший хорошие деньжонки, дельный, вращавшийся в хорошем обществе, свободно говоривший на французском и немецком языках, большой любитель театра и верховой езды, изящно одевавшийся у своего друга Циммермана, известного портного на Кузнецком мосту, Василий Иванович был завидным женихом». Под стать жениху была выбрана невеста, Евдокия Вострякова, дочь московского фабриканта Родиона Дмитриевича Вострякова, которая ко времени сватовства успела отклонить семь предложений. После свадьбы молодые устроились в нижнем этаже дядиного дома в Газетном переулке. Порешили молодые называть своих детей, «если Бог благословит», именем того святого, память которого празднуется в день рождения ребенка. 18 ноября 1858 года родился первый сын. Его назвали Романом (он станет моим прадедушкой). Через два года – второй сын, Александр. После него у супругов родились еще три сына: Леонид, Максимилиан и Сергей и три дочери: Мария, Леонила и Елизавета. Но брак их нельзя было назвать счастливым. Большая семья и множество детей требовали от отца и особенно от матери больших усилий и средств. А Василий Иванович, будучи довольно скаредным человеком, заставлял жену собственноручно обшивать детвору, и она много времени проводила за кройкой и шитьем. Распорядок дня Василия Ивановича значительно отличался от жизни его семьи. Утром он уходил в свой магазин или на фабрику, где строго следил за порядком и дисциплиной. Особенно внимательно он контролировал сроки выполнения заказов, которые могли быть от весьма высоких персон, вплоть до членов Императорской фамилии.
В магазине у него было любимое окно. Около него он ежедневно проводил много времени. «Здесь его привык видеть, – пишет А.В. Живаго в примечании к своим запискам, – даже государь Александр Николаевич, однажды проезжая и указав на него дежурному флигель-адьютанту, заметил, что "старый вечно сидит у своего окна". Так передали отцу». У своего излюбленного окна он собирал вокруг себя стариков генералов и некоторых артистов Малого театра и вел с ними непринужденные разговоры. «Особенно часто, – продолжает автор «Воспоминаний», – заходил к нему в магазин молодой Михайло Садовский – "артист московский", как он любил рекомендоваться, и актер Петров, француз по происхождению, умный, весёлый, пользовавшийся хорошим успехом на сцене Малого театра и с особым блеском игравший роль француза гувернера в пьесе Дьяченко. Здесь встретишь, бывало, и «дедушку» Ивана Алексеевича Григоровского, известного чтеца и рассказчика, и братьев Кондратьевых, служивших различным музам в Императорских театрах, увидишь Драгомирова, Радецкого и других известных генералов, любивших поболтать с отцом за стаканом чая. Нам, ребятам, видеть отца ежедневно подолгу не приходилось. Отдохнет вечером, придя из магазина, пообедает и пойдет в Думу или в свой купеческий клуб, где его очень любили и считали приятным собеседником.
Два раза в год в квартире родителей обычно собиралось много гостей. Шумно справлялись именины отца в день Нового года и матери 1 марта. Часам к восьми съедутся гости, а около часа ночи все садились за обильный ужин. Хороший, выбранный самим отцом окорок и искусно приготовленный матерью ее знаменитый фаршированный поросенок служили украшением стола. Особенно, кроме того, славились пасхи ее работы…». Среди гостей бывали и артисты, и музыканты, и певцы. «Однажды, – продолжает Александр Живаго, – весенней ночью на Тверской у дома, где мы жили, собралась толпа и вслушивалась в рев, несшийся из нашей квартиры, где состязались приглашенные отцом певцы. Долго прислушивался к пению оперного баса, чеха Толмачека, сидевший в гостях отец протодьякон и, наконец, и сам заревел, задумав не только с ним сравняться, но и убить певца мощью своего выдающегося голоса».
Василий Иванович был завзятым театралом, предпочитая посещать Малый театр, где он лично знал многих артистов. В течение многих лет он абонировал ложу в Итальянской опере в Большом театре и Артистический кружок, где «с особого разрешения ставились спектакли и отличались многие артисты и артистки, сделавшиеся впоследствии нашими знаменитостями». Приучал он к театральному искусству и своих детей. «Заметив во мне любовь к театральным зрелищам и, видимо, довольный этим, он брал меня с собой, чем доставлял мне всегда громадное наслаждение» – вспоминает его сын.
Летом семья переезжала в арендуемую Василием Ивановичем дачу в подмосковном имении графа Н.П. Шереметьева «Останкино». В то время там бывало много постоянных дачников, все больше приличных людей, нередко с творческими способностями. «Весело, благородно и дружно, – сравнивает Останкино его детства с последующими временами А.В. Живаго, – жили семьи порядочных людей… Знакомые между собой семьи дачников, изящных по природе, дорожили хорошими отношениями, всегда находили много общих интересов, увлекались, насколько могли, искусствами и нередко старались общими силами помочь тем близким, которые, по слухам, страдали».
Общими усилиями дачников был куплен на Политехнической выставке 1872 года деревянный павильон, сделанный в русском стиле. Его перевезли в Останкино и устроили в нем танцевальную площадку, где проводились благотворительные балы. Несколько позже в этом павильоне была построена сцена, и начались частые любительские спектакли, в которых принимали участие многие дачники, а нередко приезжие гастролеры, многие из которых были известными артистами. Активно участвовали в этих спектаклях и члены семьи Живаго, и сам Василий Иванович, который хорошо рисовал и в свободное время помогал готовить декорации к спектаклям. Кроме того, он часто сам финансировал постановки.
«Довольством сияло лицо покойного отца, когда спектакль имел успех. Он переживал вместе со своими артистами все их треволнения, а артисты относились к делу серьезно, добросовестно учили роли и из кожи лезли вон, чтобы угодить своему требовательному, но любившему их душевно «антрепренеру», как его в шутку тогда называли. Отец не жалел и личных средств на то, чтобы помочь беднякам из артистического мира и в Останкине часто давались спектакли с благотворительной целью. Какая-нибудь престарелая артистка в крайней нужде или потерявший ангажемент провинциальный артист, оставшийся без куска хлеба – все найдут помощь, обратившись к устроителю спектаклей. Узнал, например, отец как-то, что одна молоденькая француженка, артистка гастролировавшей весною в Москве заезжей труппы, сломала ногу и кое-как лечится, не имея никаких средств. Французам, ее товарищам, были предложены гастроли в останкинском театре. По возвышенным ценам они играли весьма мило изящные французские пустячки, имели большой успех и сделали хороший сбор в пользу несчастной»23.
Несмотря на кажущуюся идиллию, и в Останкино нередко пошаливали заезжие из Москвы воры. А.В.Живаго вспоминал, что «когда мы были совсем маленькими мальчуганами, однажды ночью нашу дачу ограбили вчистую. Никто не слыхал, как хозяйничали в нижнем этаже бесцеремонные воры, забравшие все платье, белье, столовое и чайное серебро и пр. …Провожали отца, отправившегося в Москву в очень оригинальном костюме. Черный фрак и чесучевые панталоны, найденные, по счастью, в детской верхнего этажа, заставили его, несмотря на жаркий день, ехать в московскую квартиру в пролетке с поднятым верхом и с развернутым на ногах фартуком… Вскоре после кражи покойный отец завел своих, полюбившихся ему донельзя, бульдогов, которые не переводились в нашем доме до самой его смерти. У него были первоклассные экземпляры собак этой, на вид страшной, породы, которых покупали в Англии».
Однако вряд ли стоит представлять Василия Ивановича Живаго этаким барином и меломаном. «Управлял он своими делами расчетливо и весьма успешно. Магазин преуспевал, постоянно приобреталась все новая недвижимость. К концу жизни купец 2-й гильдии Василий Иванович Живаго имел в разных частях Москвы пять домов, не считая отцовского дома на Большой Дмитровке, который Василий Живаго после смерти отца перестроил. По самым приблизительным подсчетам его состояние оценивалось в один миллион рублей и выше… В семье Живаго держали свой выезд, пока однажды лошади не разбили экипаж и «не высадили его, – по словам А.В.Живаго, – из коляски на тумбу у дома генерал-губернатора»24.
Воспитывал свое многочисленное потомство Василий Иванович довольно строго. Его родственник Иван Михайлович Живаго, грозный инспектор Практической академии, о котором я уже писал ранее, неоднократно советовал своему двоюродному брату чаще применять телесное наказание расшалившихся детей. «Не знаю, не по его ли рецептам, а нечего греха таить, пороли нас нередко и, пожалуй, было за что, – вспоминает свое детство А.В. Живаго, – за обедом часто не в пользу пищеварительной функции производилась проборка того или другого сынка. Разбирать все наши прегрешения считалось возможным именно почему-то за едой, потому главным образом, что другого подходящего для сего времени не находилось. Хитроватая детвора частенько прибегала к хорошо испытанному средству заставить отца сменить гнев на милость. Нам хорошо было известно, что он, большой любитель гречневой каши (у отца вошла в поговорку фраза: «Если бы я был богат, я каждый день ел бы гречневую кашу»), с особым удовольствием приготовлял это и нами всеми любимое кушанье; поливал он кашу щами, соусом, солил и сдабривал сливочным маслом. Хором мы начинали просить приготовить кашу и нам, и этого было достаточно, чтобы обеденная гроза затихла, а большой пустой горшок из-под каши с очевидностью и безошибочно доказывал, что его появление на столе может быть подчас чудодейственным». …«Я далек от мысли считать родителей моих слишком суровыми. Отец бывал временами настроен очень благодушно, шутил с нами, великолепно рассказывал всевозможные эпизоды до анекдотов включительно, но с годами его раздражительность росла и никто из нас, не считаясь с гнездившейся уже в его организме болезнью, не будучи в состоянии разобраться в симптомах её, не жалел его душевного покоя, и таким образом создавался часто материал для весьма легко возникавшего его общего возбуждения».
К пятидесятилетнему возрасту Василий Иванович стал часто болеть. У него были обнаружены симптомы аневризмы аорты. Несколько раз он ездил на юг, в Крым, живал там подолгу, месяцами. Но скоро ослабел, отошел от дел и 17 декабря 1889 года скончался.
Роман Васильевич Живаго – коммерсант, музыкант и коллекционер
Мой прадед Роман Васильевич Живаго родился в 1858 году. Естественно, что видеть его я не мог. Даже мой отец, живший со своей матерью в имении Романа Васильевича «Новое», не помнил своего деда, так как к моменту его смерти отцу было всего три года. Основные сведения о его жизни я смог почерпнуть все из той же книги И.Кусовой «История рода Живаго» и кое-что из воспоминаний Александра Васильевича Живаго, родного брата Романа Васильевича, который был моложе его на неполных два года. Существенно дополнил мои знания о своем прадедушке другой его правнук Василий Никитич Живаго, мой троюродный брат, за что я приношу ему огромную благодарность.
О раннем детстве Романа Васильевича, как впрочем, и о всей его дальнейшей жизни я знаю немного. Александр Васильевич Живаго пишет, что, будучи трех лет от роду, он «частенько гонялся с большим черным тараканом в руках за трусоватым братом Ромашей». Однажды, будучи в том же возрасте, Саша не желая надеть шарф перед выходом на прогулку и вырываясь из рук одевавшей его прислуги, «раскроил себе кожные покровы надбровной дуги левого глаза о край выдвинутого ящика комода. И мерещится мне круглый ясеневый стол прихожей, на котором я сижу и ору во всё горло и Ромаша, сующий мне игрушки и ревущий не тише меня… Приглашенный врач наложил мне ряд швов. Это чуть ли не единственное воспоминание из моего самого отдаленного прошлого».
Ромаша, в отличие от своего младшего брата был тихим и покладистым мальчиком. Александр Васильевич вспоминает гувернантку детей Живаго Екатерину Алексеевну и пишет, что … с послушным и покойным Ромашей хлопот у неё было немного. Екатерина Алексеевна была неплохой художницей и приучила к рисованию обоих братьев Живаго.
Свое образование Роман, как и Александр, не без совета двоюродного брата своего отца Ивана Михайловича Живаго, начал пансионером школы г-на Керкова при реформатской церкви, куда поступил в 10 лет. Проучившись там четыре года, он был зачислен в четвертый класс Практической коммерческой академии. Эта академия, возглавляемая его дядей, была «семейным» учебным заведением для многих отпрысков рода Живаго и Овчинниковых. Учился он старательно, хотя «звезд с неба не хватал». Став, как тогда говорили, «академистом», он, как и его отец, увлекся театром, хотя по воспоминаниям его младшего брата, «по средам перед театром почему-то у Ромаши часто болела голова или он не успевал приготовить уроки» и в театральную ложу отправлялся еще больший театрал Александр.
Окончив шестой общеобразовательный класс академии, Роман Васильевич, как пишет его брат, «прошел два специальных и в 1873 году получил звание личного почетного гражданина Москвы». По окончании академии в 1877 году он отбывал воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося, а затем провел несколько лет за границей. Вернувшись в Москву в 1887 году, он женился на Таисии Ивановне Казаковой, девице купеческого происхождения, подруге Веры Александровны Овчинниковой, моей прабабки. В 1884 году у них родилась дочь Татьяна, в 1889 году – сын Василий, а спустя два года – вторая дочь Наталья, моя бабушка. Вместе со своей семьей Роман Васильевич поселился в особняке, принадлежавшем его отцу, на Никитском бульваре. Особняк и поныне стоит на том же месте. Незадолго до Первой мировой войны Роман Васильевич приобрел имение «Новое» при селе Покровское-Новое Клинского уезда, в нескольких километрах от станции Подсолнечная (теперь город Солнечногорск). Там во вновь построенном трехэтажном доме с флигелями и большим парком прошли первые годы жизни моего отца и его сестры Натальи.
О коммерческой деятельности Романа Васильевича сведений немного. Известно, что он получил неплохое наследство и был совладельцем магазина военно-офицерского обмундирования и до Октябрьской революции жил безбедно. Роман Васильевич состоял членом правления Московского торгово-промышленного товарищества, членом совета Московского городского ремесленного училища им. Г. Шелапутина, действительным членом Московского общества любителей коммерческих знаний и Общества бывших воспитанников Императорской Московской практической академии коммерческих наук. Одно время он занимал пост директора Московского филармонического общества. Был почетным членом ряда благотворительных обществ (например, Московского общества пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета и Общины сестер милосердия им. Святого апостола Павла). Много сил и времени отдавал деятельности общественных организаций, связанных с разведением и защитой животных и птиц (в том числе Московского общества любителей птицеводства и Российского общества покровительства животным).
Роман Васильевич обладал большим художественным и музыкальным талантом. Прекрасно писал масляными красками и великолепно играл на скрипке. На протяжении многих лет в его московском доме на Никитском бульваре каждую неделю проходили домашние квартеты, в которых вместе с ним играли многие известные российские и иностранные музыканты. Его коллекция музыкальных инструментов, включавшая скрипки Страдивари, Гварнери и других известных мастеров, считалась одной из лучших в Москве. Помимо участия в домашних квартетах, Роман Васильевич неоднократно выступал в публичных концертах, как в России, так и за рубежом. В частности, известно его успешное выступление в концерте, данном в 1908 году в городе Баденвейлере (Германия) по случаю открытия там памятника А.П. Чехову.
Как и его братья, Роман Васильевич был заядлым охотником и являлся почетным членом всевозможных охотничьих клубов. Кроме того, он был большим любителем породистых собак, возглавлял Московский гордон-сеттер-клуб и обладал великолепными гордон-сеттерами и пойнтерами. Особенно славился его кофейно-пегий пойнтер Рокет-1, выигравший в 1898 году чемпионат России, а затем получивший еще целый ряд призов в России и за границей.
В декабре 1917 года московским Советом рабочих депутатов были национализированы московский дом Романа Васильевича со всей обстановкой и обожаемая им бесценная коллекция скрипок, в которую он вложил много сил и средств. По моему предположению, эта коллекция была положена в основу Государственной коллекции музыкальных инструментов, экспонаты которой неоднократно временно выдавались ведущим российским музыкантам – Давиду Ойстраху, Елизавете Гилельс, Михаилу Фихтенгольду, Марине Козолуповой, Борису Гольдштейну и другим, и во многом способствовали их победам на международных конкурсах, позволив прославиться на весь мир. Роман Васильевич не смог пережить потерю своего детища и скончался 29 января 1918 года в своем имении Новое за несколько месяцев до его экспроприации местными Советами. Похоронен он был на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. Этого кладбища, как и кладбища Покровского монастыря, где были похоронены другие мои предки, сейчас не существует.
Александр Васильевич Живаго – врач, путешественник, египтолог.
Младший брат Романа Васильевича Живаго Александр не был моим прямым предком. Так же как и знаменитый педиатр, родной брат отца моей бабушки по материнской линии, Нил Федорович Филатов, он приходился мне двоюродным пращуром. Я решил написать про него, так как это был уникальный по своим разносторонним интересам человек. Он оставил после себя чрезвычайно интересное литературное наследие – книгу воспоминаний и дневники, которые он начал вести в детстве и продолжал до самой своей смерти. Подлинник «Воспоминаний» А.В. Живаго хранится в архиве Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а большая часть дневников – в Театральном музее А.А. Бахрушина в Москве. «Воспоминания» А.В. Живаго дают представления не только о жизни обеспеченной московской семьи, ее обычаях и привычках, но и о самой Москве XIX века, навсегда ушедшей в прошлое и исчезнувшей из памяти моих современников.
Во вступительной статье к воспоминаниям А.В.Живаго, изданным (к сожалению в сокращенном варианте) его потомками Николаем Живаго и Петром Горшуновым в 1998 году к столетию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, их редактор Вадим Гельман пишет, что Александр Васильевич Живаго по праву занимает важное место в ряду деятелей отечественной культуры. «Благодаря тому, что сохранился его личный архив, есть возможность проследить, с одной стороны уникальную, а с другой – трагически типичную судьбу русского интеллигента и творческой личности в переломный период истории страны, уцелевшего в вихре войн, революций, при большевистском режиме».
Александр Васильевич родился, – как он сам указал в своих воспоминаниях, – «Августа 28-го 1860 года…» в доме своего двоюродного дедушки Сергея Афанасьевича Живаго, где в то время жила семья его отца Василия Ивановича. «Впечатлений от доброго старого времени, даже до 10-летнего возраста, у меня немало. Большим буяном рос я, плохо слушался родителей, …а потом и добрейшую первую нашу гувернантку Екатерину Алексеевну Заборовскую. Некрасивая, далеко не молодая уже в то время, старая дева, она умела занимать брата Романа и меня. Институтка, сравнительно недурно образованная, хорошо знавшая французский язык (отчаянно плохо было ее произношение); немало труда затратила она на то, чтобы усадить за книги и тетрадки своего любимчика Сашу, отчаянного баловника и непоседу».
Далее я привожу повествование Александра Живаго об их выходах в город в сопровождении гувернантки. Оно мне представляется удивительно «сочным» и показывает давно забытый моими современниками торговый центр Москвы 70-х годов позапрошлого столетия. «Ежедневные прогулки, всегда сопряженные с поручением купить то или другое и всегда с опаской растерять мальчуганов, совершались, собственно говоря, только в трех направлениях: на Тверскую, на Кузнецкий мост и в Город (Гостиный двор). На Тверскую ходили большей частью в колониальный магазин Андреева, где так приятно пахло всякой снедью. Мятный пряник, десяток орехов или несколько черносливин, сунутые нам в руки, давали возможность «Киксевне» приценяться и отдавать распоряжения по доставке на дом тех или иных товаров, развозимых по Москве чудными битюгами разных мастей. Смотреть ездили этих могучих, чисто русских лошадей, стоявших в своих нарядных сбруях у крыльца магазина под гостиницей «Дрезден»… Большое удовольствие доставляли мне прогулки на Кузнецкий мост и особенно посещение книжного магазина Маврикия Вольфа, только что открытого тогда отделения его петербургской фирмы; большой по тому времени магазин помещался на левой стороне Кузнецкого моста в том доме, где теперь английский магазин Шанкс. Заходили в магазин Ревеля, бойко торговавшего дамскими материями, в большой магазин "Русские изделия" в доме князя Гагарина, полный модниц, заезжавших туда за всевозможным товаром, а частью ради интересных встреч и свиданий. Заглядывали, но не часто, за пирожками или конфетками в старенькую кондитерскую Трамбле, бывшую Педотти… Холодные мраморные львы, стоявшие у подъезда магазина Саг-Галли, задерживали на минутку – надо было снимать забравшихся на них всадников. Не оторвет нас бедная Екатерина Алексеевна от окон эстампного магазина Дойяпо, помещавшегося в старом доме на месте нынешнего пассажа Джамгарова.
Оживление на Кузнецком мосту в те времена было большое, того и гляди попадешь под раскормленных лошадей, запряженных в кареты и коляски с рыластыми, толстобрюхими кучерами, хваставшимися своими конями, разноцветными, угластыми бархатными шапками и зычными голосами. В восторг всех приводила серая пара с горячей пристяжкой усатого полицмейстера Огарева. Говорили, что квартальные тайно платили кучеру его солидную мзду за то, чтобы он уже издали оповещал постовых служителей о проезде предержащей власти. Ну, и надсаживался, оповещая, чернобородый гигант…