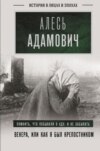Tsitaadid raamatust «Хатынская повесть»

...у палачей, у убийц всегда на лицах, в глазах обида. Обида на тех, кого уже убили, убивают, должны убить…

… Тот, кто был хотя бы однажды ранен или кон- тужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это будет. До этого лишь зная, что смертен, а теперь – ощутил.

Когда-то Гегель бросил горькую мысль, что история учит лишь тому, что что она никого ничему не научила. Казалось бы, и сегодняшнему человеку есть от чего прийти в отчаяние: снова Хатыни, снова адольфы!.. Снова находят легковерных все забывающих простаков, находят недальновидных, находят жестоких - опять отыскался сухой хворост для ползущего огня. Снова коротенькие наркотические идеи и наркотики вместо идей.

— У меня с Шиллером другое чувство: «Когда боги были человечней, человек божественнее был».
— Когда это они были человечней?
— Когда не в бронированных лимузинах шныряли, а сидели на Олимпах. Всегда богам люди отдавали свои качества, начиняли их собственными достоинствами и недостатками, но никогда такой дрянью, гадостью, подлостью не нафаршировывали своих богов, как в двадцатом веке.

Истинно свободен тот, кто готов пойти на смерть, это и сегодня верно.

Чем ближе человек к опасности, тем он – после какого-то момента – делается неосторожнее. Уже кажется, что все равно произошло непоправимое, что был слишком неловок и уже вроде бы все равно, как кончится, только бы поскорее все произошло.

Поразила меня однажды фотография в Белградском партизанском музее. Наверное, и сейчас она там. К ней издали начинаешь идти, едва взглянул – как на свет. Удивительная красота человеческой улыбки! Но подходишь и вдруг видишь, что на шее у счастливо улыбающегося юноши петля! А сзади, за спиной у него, стоит фашист, изготовившийся выбить из-под ног казнимого опору. Кому он улыбается, этот юноша с белым отложным воротником вокруг чистой тонкой шеи, с таким открытым студенческим лицом? Кому такая улыбка? Назло палачам? Но ни тени вызова, презрения, никакого напряжения! Будто невеста перед глазами у него, а не его убийцы. Не будь за спиной у юноши той деловитой фигуры в мундире, можно было бы решить, что просто на самодеятельной сцене забавляются студенты, изображают казнь по-молодому неумно и весело, как что-то невозможное, и «казнимый» видит вокруг себя улыбающиеся лица друзей. А не хари убийц… Кому же эта человеческая улыбка? Последним людям, которых он видит? Ведь других уже не будет, лучше, желаннее. Никогда. Это все-таки последние. Нет, нет!.. Я не мог с этим согласиться. И не мог отойти от улыбающегося партизана. И наконец понял. Человек заметил глаз фотоаппарата и сквозь него посмотрел за спины убийцам – на друзей, может быть, на невесту. Он видит людей, которых оставляет жить вместо себя! Палачи сами предоставили ему эту возможность…

Но у некоторых раненых взгляд, глаза неправдоподобно спокойные, сосредоточенные. Это умирающие. Они умрут независимо от того, как окончится этот неправдоподобный бой. Когда смерть подступила к человеку и уже не уйдет, он остается один. Сколько бы и кто бы ни был рядом.

— Зато и другое появилось. Раньше сколько поколений рождались, жили, помирали — и все при одной формации. Казалось людям, что нероны, людовики, тираны — это навеки, что рабство, что абсолютизм, чье-то самовластие не кончатся никогда. А сейчас в одну человеческую жизнь вмещаются и первое, и второе, и четвертое. Можно умнеть — и врозь, и скопом! Одной ногой в крестовых походах, второй — на далеких планетах. Не слова это, а реальное чувство — у нас (по крайней мере, кто захватил и тридцатые годы), — что мы живые современники и тем, кто жил пятьсот лет назад, и тем, кто придет через пятьсот. Да, всем всегда казалось, что их поколение на самом изломе истории. Но тут уже действительно прямой угол. Разве нет у тебя такого чувства, что на одной плоскости — нероны, людовики, гитлеры, а на второй — гармоничный мир ефремовской «Андромеды»? А ты, а мы — на вершине прямого угла. И то, и другое — в поле зрения, твоя биография, твое время…

Странное и сложное это чувство – вспоминать первую встречу с человеком, который войдет потом в твою жизнь. Ты еще не знаешь, кем, чем он для тебя станет, будет, и все в нем еще кажется необязательным, как и сама встреча, случайным: улыбка, походка, глаза, жесты. Все в таком человеке как бы врозь живет. Это вначале. Ну почему обязательно черные цыгановатые глаза, если и брови, и волосы человека, торчащие из-под вытертой зимней шапки, и эта дремучая небритость на щеках – все такое светлое, льняное, соломенное? Или до чего же не на месте этот удивленно длинный нос, на котором расселись аж две горбинки (зачем-то две!), если у человека такой спокойный, умный, просторно белеющий лоб! К чему такие тонкие и кривые ноги, запеленатые в онучи, если весь человек и стройный, и сильный и это можно оценить, несмотря на бесформенную серую свитку, которую он безжалостно перетянул ремнем с огромной командирской пряжкой-звездой! Все вначале кажется таким же необязательным, несочетающимся, почти нелепым, как и его зимняя кожаная шапка среди сочной зелени.