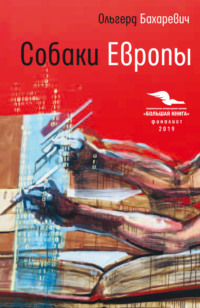Loe raamatut: «Собаки Европы»
Белорусскоязычная версия романа «Собаки Европы» вышла в 2017 году в издательстве «Логвiнаў»
© Бахаревич Ольгерд, 2019
© «Время», 2019
* * *
Ю.
In the nightmare of the dark
All the dogs of Europe bark,
And the living nations wait,
Each sequestered in its hate;
Intellectual disgrace
Stares from every human face,
And the seas of pity lie
Locked and frozen in each eye.
Follow, poet, follow right
To the bottom of the night…
W. H. Auden. In Memory of W. B. Yeats
…В темноте кошмарной той
Лают все наперебой
Псы Европы. А народ,
Полон ненависти, ждёт
Расширения границ.
Тупость пялится из лиц,
Море жалости в глазах
Заперто навек во льдах.
Так ступай туда, поэт,
Там ступай, где гаснет свет…
У. Х. Оден. Памяти Йейтса
I. Мы лёгкие, как бумага
1.
Как же мне надоел ваш белорусский язык, кто бы знал.
И кто бы знал, с каким наслаждением я пишу это. Надоел. Опостылел.
Ос-то-чер-тел.
Опротивел.
Достал.
Брысь, моя обрюзгшая мова, брысь. Ты вдоволь натешилась. Тобой не заработаешь, не убьёшь, не наиграешься, тебя уже не забудешь. Будто незнакомая баба в привокзальном тумане, похитительница оставленных на минутку детей, однажды ты появилась из ниоткуда, взяла меня за руку и повела в заплёванный подземный переход, полный тусклых витрин, озябших голубей и продавцов лотереек, – а я всё оглядывался туда, где остались стоять чемоданы: надёжные, начинённые будущим, уже ничьи. Ты разлучила меня с родными, это тебе благодаря мне привиделся однажды какой-то особый, странный народ, прозрачный, неуловимый, на самом-то деле – не существующий. Год за годом мы ходили с тобой по свету, ночевали в разных убогих местах, каких-то мухо-молочных деревеньках, библиотеках, заброшенных замках, на подозрительных постоялых дворах – где придётся; ты покупала мне дешёвые китайские игрушки и кормила, пока я не вырос, ты учила меня говорить тихо, а думать быстро, днём ты заставляла меня клянчить на улицах мелочь, а ночью обещала мне царство, и вот куда ты в конце концов меня привела –
в эту тёмную,
словно задымлённую,
съёмную
однокомнатную квартиру,
в доме с мемориальной доской,
в городе М.,
во времена всеобщего помрачения.
И ваш русский язык меня тоже достал. О-кон-ча-тель-но. Так приелся, что мочи больше нет. Кто бы знал, какую оскомину он успел мне набить за последние сорок лет. Что им ни скажешь, этим езыкомъ, всё уже было, всё откликается тысячей глупых эхо и вонью давно остывших буквиц. Готовые конструкции, чугунное литьё, язык-труба, положенная поперёк наших жизней. Ты всегда чего-то от меня хотел, мой русский язычок. Ещё в животе у мамы, когда я и человеком ещё не был, а так, слепленным чучелком, – ты уже настойчиво ко мне стучался, читал мне морали, душил своими ватно-марлевыми повязками, заражал меня страхом. Язык, который всегда приходит будто с обыском, язык, который всегда имеет право. Брысь, русский, брысь, жестяной язык жэков и пажеских корпусов, язык большой и липкой литературы, голос миллионов маленьких, свирепчатых в своей ежедневной злобе людей.
А английский? Он достал не меньше. То, что вы называете английским, всего лишь раздутое, как опухоль, резиновое сердце, которое натужно качает миллиарды слов, неживое сердце, на которое светит неумолимая лампа. Холодное люминесцентное свечение. Язык-фастфуд, от английского повсюду пятна, будто весь наш мир – всего лишь куча салфеток на чьём-то столе. Английский – язык на трансжирах и искусственных добавках. О, он умеет подмазать!.. Как же много людей думает, что знает английский, и считает, что этого им вполне хватит для счастья. Наивные дураки. И как много мы могли бы сказать друг другу, если бы отказались от этого вашего инглиша, если бы крикнули раз и навсегда своё «нет» этой отвратительной оргии взаимопонимания.
Испанский? Астматический кашель убийцы, какого-либо честного монстра Че. Смех мясника-тореадора. Немецкий? Горькая редька, которая когда-то вообразила себя гением и сверхчеловеком, а теперь всячески выпячивается, чтобы снова казаться нормальной. Французский? Недолущенное письмо сверху, невзрачный философский жаргон внутри. Польский? Высокомерие вторичных поэтов, от которого слова аж трещат, брызжут, лопаются, как колбаски на сковороде…
«Что это вы там всё пишете?» – он поднимает глаза от телефона и недовольно скрипит стулом.
«Пишу», – вяло оправдываюсь я, прикрывая ладонью серые листы.
«Пипишу… – передразнивает он. – Напиписали уже на три листа. Дайте сюда».
Он решительно вытягивает бумажки из-под моих рук. Лицо его кривится, будто он сейчас заплачет.
«Что это? Что это, я вас спрашиваю? Ну ёж вашу не скажу, ну что это такое? Ну за что мне вот это всё, а? Вы глухой? Или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с… А вы что пишете? Брысь, брысь, какие-то колбаски, чучелки… Блин, да я не понимаю ни слова, тут не разобрать ваще ни хрена!»
«Давно не писал от руки…»
Он грубо, с наслаждением мнёт мои листки, и мне становится жаль написанного. Даже больше, чем себя. Я люблю бумагу. Она меня успокаивает. Мне душно, страшно и смешно одновременно. Он сминает бумагу в комок и бросает куда-то за мою спину – но я всё равно вздрагиваю и отворачиваюсь, будто он метил мне в лицо.
«От руки! От руки, блядь, он не писал! Да тут что от руки, что от ноги! Тема не та! Тема! Понятно? Мне факты нужны. А это бред какой-то. Я же вам русским языком сказал…»
Он обхватывает голову руками и закрывает глаза. Государев муж принимает за меня муку смертную. Государев муж в отчаянии. Государев муж молчит. Государев муж карает меня тишиной своего душного кабинета. Проходит минута, а может, и две, и я начинаю слышать, чем живёт это удивительное здание, в котором на каждом этаже по дюжине государевых мужей. За стеной нервный женский хохот, где-то далеко наверху шумит кран и заходится дрель – видимо, кого-то там выводят на чистую водопроводную воду и сверлят глазами. Наверное, если бы я сейчас тихонько поднялся и выскользнул в коридор, мой государев муж ничего бы и не заметил. И вдруг у него булькает в животе. Я сразу же чувствую к нему симпатию – будто в брюхе под пиджаком у него сидит какой-то другой он, маленький, не государев, а вполне себе обычный муж, человек, со всеми своими привычками-пестричками, прыщиками, ручками-ножками, кучками-колючками.
Может, у него даже кошка дома есть.
А у кошки мячик.
В какое-то мгновение мне кажется, что всё это и правда можно было бы решить просто и легко: сейчас я тихо выйду отсюда и никому ничего не скажу, а он откроет глаза, улыбнётся и вычеркнет меня из этих его протоколов, и пойдёт на обед, и полезет в телефон, как будто ничего не было, и забудет меня, а я забуду его, и мы больше никогда не встретимся.
И как только я начинаю верить в то, что это возможно, его чрево утихает, он приходит в себя и сердито впивается в меня своими глазами:
«Послушайте меня внимательно, Олег Олегович. Повторять больше не буду. Погиб человек, а это не шуточки. Нам известно, что вы имеете к этому делу самое прямое отношение. Поэтому я вам и сказал: возьмите бумагу и напишите, чётко и ясно, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с…»
Он копается в бумагах:
«Вот. С Козловичем Денисом, Бундасом Станиславом, Кашкан Натальей. Вы понимаете, о чём я? Олег Олегович? Может, напомнить вам, а? Что именно произошло? А, напомнить?»
Я ничего не отвечаю. Имена мне и правда ничего не говорят. Они чужие. Я никогда не называл их так.
«Хорошо, я напомню… – он на ощупь достаёт какую-то зловещую папку. – Вот. Козлович Денис Валерьевич, вы же с ним знакомы, правда? Здесь, на фотографии, он трошки не в форме, но узнать можно. Любите смотреть на трупаков, а, Олег Олегович? И книжки читать любите… Лю-ю-бите, я зна-а-ю… А здесь у нас и книжка, и фишка, и трупишка…»
Я отворачиваюсь. Он доволен, он думает, что я уже почти готов. Ещё немного поднажать, и из меня потечёт сок. Из глаз, из пальцев, на бумагу, на его лицо, кислый сок вины, из которого он, винодел, сделает славный напиток – и справедливость засядет за свой роскошный банкет, будет пировать, пировать, бля, ведь мы же все любим справедливость. Краем глаза я, конечно, посмотрел на фото. Не мог не взглянуть, я же человек информационной эпохи, как и он, мы уже не можем просто отвернуться, отвернуться и не вернуться, лишних картинок, букв, звуков больше не существует, не существует чужих дел и тайн, нам всюду надо сунуть свой нос – иначе мы не уснём. Мы весь день только и делаем, что читаем. Поэтому я украдкой взглянул на снимок – и он заметил, что я взглянул, заметил, не мог не заметить.
Хитроглазый, могучий государев муж следит за моей реакцией. Откуда ему знать, что я эйдетик – что мне достаточно бросить совсем короткий взгляд на что-то, чтобы это что-то перескочило в моё сознание и закрепилось там навсегда. Лучше, конечно, чтобы это что-то было буковками на бумаге или на экране – а не мёртвым голым парнем, которого я совсем недавно искушал несуществующими сокровищами. Козлик, Козлик, что же ты наделал. Давай договоримся хотя бы сейчас, что это была просто игра. Вставай, изгладь себя с этого асфальта, с этого снимка, из моей памяти, давай договоримся, что мы никогда не были знакомы. Тогда и этот, по ту сторону стола, исчезнет. Растает в воздухе строгий муж государев, – и мы все пойдём домой. Можно, мы уже все пойдём домой?
«Я, конечно, иностранными языками не увлекаюсь, – задумчиво говорит он, пряча фото в папку. – Но даже я, блин, могу сказать: у него на коже написано что-то не по-русски. Ножиком нацарапано. Ножик-то мы нашли… А вот что там за текст… Хрен разберёшь. Это не английский, не немецкий, не французский… Мы, ясен перец, покажем знающим людям, но пока что расшифровать не получается. Видите, Олег Олегович, я от вас ничего не скрываю, я вам как родному… А вы?»
И ещё один лист бумаги. Он ложится передо мной аккуратно, словно мне нужно подписать какой-то договор и от одного моего росчерка зависит, будет ли нам с ним профит, нам и нашему удивительному предприятию, у которого пока что нет конкурентов.
«Интересно, да? – он снова впивается мне в глаза. – Я это сам переписал. От руки. Прямо с кожи этого Козловича. И не жалуюсь. Может, скажете мне, что это? Поможете нам? Что здесь написано? Вы же умный, языками владеете. Владеете же?»
«Кто кем владеет, это ещё вопрос…»
«Что вы там бормочете? Какой допрос? Просто беседуем. Вот, полюбуйтесь».
То, что я вижу, заставляет меня вздрогнуть. Он нетерпеливо перегибается через стол, смотрит то на этот короткий текст, то на меня. Конечно, я знаю, что написано на том листе бумаги. Бальбута на самом деле простая – достаточно иметь немного фантазии, быть хотя бы чуточку поэтом. И разумеется, усвоить корневую систему, но это легко. Корневая система – звучит, как на приеме у дантиста. Тридцать два зуба – сто тридцать слов. А вот у неандертальца зубов было сорок четыре.
«Как чижей у Хармса», – говорю я.
«Что вы сказали?»
«Да так, ничего».
Цифры, цифры, цифры. Цифры против слов. Я всё продумал. Корневая система против карательной.
Как же мне хочется писать. Всё объяснить, во всём оправдаться. Рассказать кому-то, да так, чтобы с самого начала. Ведь иначе никто не поймёт. А этот болван забрал бумагу.
Я уже не отворачиваюсь. Тупо смотрю на подсунутый мне текст. На бумаге слова выглядят солидно. Будто это не я их придумал. Будто я здесь ни при чём. Смешно будет, если они доберутся до правды. Переписано, конечно, неумело, с ошибками, – а может, и оригинал был такой, Козлик любил пропускать буквы, все молодые болеют дисграфией, теперь вообще все дислектики, а виновата она, глобальная сеть, это она отменила законы письма – вычеркнула правописание вместе с этикой из списка умений и навыков. И эмпатию вычеркнула.
Во что же ты играл со мной, Козлик?
«Да какие там языки, – я пытаюсь взять себя в руки. – Вы меня с кем-то путаете, я не полиглот».
Он не верит.
«Да ну? А мне говорили…»
Я совсем забыл, что кроме Козлика есть и другие. Каштанка. Буня. Неужели и они сидели вот так, в душном кабинете, и отворачивались, и делали вид, что не имеют никакого отношения к тому, что всё-таки взяло и произошло.
«Ну, может… Нет, не знаю. На что-то похоже, но на что… Нет, не могу сказать. Может, это баскский. Но я им не владею. Только слышал, что это очень трудный язык. Не знаю. Да я вообще в школе немецкий учил!»
Последние слова звучат почти истерично. И всё же я чувствую гордость. Потому что всё всерьёз. Наконец-то меня и моё произведение кто-то воспринимает всерьёз. Пусть это всего лишь маленький человек в душном кабинете.
И тогда он вдруг начинает вслух читать то, что написано на листе – этим своим деревянным голосом, ставя ударения так, будто хочет меня унизить, он читает, будто грубо срывает одежду с какого-то беззащитного существа, и тело этого существа постепенно проступает сквозь мрак его идиотизма, трудноузнаваемое, но ещё живое тело. А он мучает, терзает своим поганым языком, слово за словом тянет. И смотрит на меня злорадно. Государев муж смотрит на меня, будто читает сейчас со злых складок на моём лбу, а не с листа серой бумаги. Искалеченные им слова гремят у меня в ушах. Записка, которую оставил Козлик, совсем короткая, но это бездарное чтение быстро доводит меня до бешенства.
Это нужно читать совсем не так, надо нараспев, мягко, это же музыка, не обязательно знать значения слов, чтобы их правильно произнести, у вас же нет слуха! – хочется мне крикнуть ему в лицо.
Но я сдерживаюсь.
Прижмурившись, государев муж долго смотрит на меня, а потом складывает всё в папку.
«Не хотите вы нам помогать, Олег Олегович. А придётся. Есть свидетели. Которые, согласно их показаниям, неоднократно… Короче, которые видели вас с Козловичем, Кашкан и этим, как его… Бундасом Станиславом. Что-то же вас связывало. Да ещё как связывало».
«Ничего особенного. Просто знакомые».
«Знакомые… Да уж. Слишком знакомые. Вас часто видели вместе. В самых разных местах. А ещё… Ещё эти трое неоднократно приходили к вам домой. То есть в незаконно снимаемое вами помещение… Чем вы там занимались?»
«Ничем. Языки учили».
«А говорите, не полиглот, только немецкий… Что же вы всё врёте, а? Я же вас насквозь вижу. Что за языки?»
«Разные…»
«Какие?»
«Это не важно».
«То есть садились и учили? И больше ничего? Ничем больше не занимались? Может, вы языками не в том смысле занимались? А? Язык – слово неоднозначное».
«Нет. Мы говорили – и всё».
«На каком языке?»
«Которого не существует».
«Но вы на нём говорили?»
«Да».
«Значит, он существует?»
«Нет. То есть, конечно, да, но только… Никто о нём не знает».
«Так он существует? Да или нет?»
«Нет».
«Ясно. Замечательно. Действительно, чего это я к вам прицепился? Всё же нормально. Это я просто какой-то подозрительный. А вы невинная овечка, жертва полицейского государства. Сорокалетний неженатый мужчина приглашает к себе домой двух молодых людей и одну несовершеннолетнюю, говорит с ними на языке, которого, блядь, не существует, а потом один из парней ножиком режет себе на коже какие-то слова и голый выбрасывается из окна. Прекрасно. Вопросов нет. Никакого криминала. Обычное дело, тут и думать нечего. Простое, как мычание. Наверное, надо извиниться перед вами и отпустить на все четыре стороны. Чтоб вы пошли домой и дальше говорить на несуществующих языках, водить к себе новые партии несовершеннолетних и учить их писать на коже ножиком. От руки».
«Я не учил… ножиком. Понимаете… Мы говорили. Это искусственный язык. Я его придумал».
«Зачем?»
Я отвожу глаза. Я растерян, как ребёнок. Я боюсь таких скоростей, у меня тогда ладони становятся, как из бумаги. Поэтому я не нахожу ничего лучшего, как только пробормотать с масленой улыбкой:
«В смысле?»
«Я спрашиваю: зачем?»
К этому вопросу я и правда не был готов. Наверное, я даже побледнел. Нахмурившись, недоумённо выставив вперёд брови, он смотрел на меня так, будто только что поймал меня на лжи. Я ожидал, что сейчас придётся прочитать ему лекцию об эсперанто и других конлангах, рассказать, что я не единственный в мире такой урод, интересующийся искусственными языками. И вскользь намекнуть, что «искусственность языка» в данном случае – термин некорректный, надо говорить именно о constructed languages. Искусственность – это мёртвое состояние, иллюзия. А нас было четверо живых – без всяких иллюзий. Почему-то я надеялся, что понять всё это будет под силу его юридическому, сладострастно-бюрократическому умишку – мелкой умочке государевой, мозжечку, в котором нет места ни фантазии, ни красоте. Но какие-то же книжки он читал. Есть же кошка у него дома! И мячик у кошки есть! Он же не тупой. Простое, как мычание, – это же не каждый муж в этом государевом доме так завернуть сможет. Да, я не испытывал к нему ненависти. Только что мы говорили, худо-бедно, но говорили, куда бы это всё ни привело, и я старался понять его, а он меня. И тут это беспощадное, нелепое, такое обидное «зачем?»
А и правда – зачем? Люди придумывают конланги, чтобы осчастливить других людей. Чтобы дать шанс людям на взаимопонимание. Или чтобы отомстить богу. Или ради интеллектуального развлечения – чтобы решить художественную задачу, головоломку. Заполнить пустые клеточки вечерком, чтобы всё сошлось и можно было спокойно пойти пить чай и думать о вечном. О том, как заработать денег и остаться живым. А ещё люди создают языки, чтобы знать, что у них, языков, внутри.
Но зачем всё это было мне?..
«Дайте мне бумагу, – попросил я дрожащим голосом. – Пожалуйста. Я боюсь говорить, мне надо писать».
«Нет, – он покачал головой. – Снова вы мне про колбаски начнёте, про чемоданы с будущим. Сделаем так. Есть у нас здесь один кабинет… Он пока что пустой. После ремонта. Я дам вам диктофон и закрою там на часок или два. А вы возьмите и всё расскажите. Всё, как есть. Представьте, что пишете. И начинайте говорить. Не забывая о том, что ваша задача – ответить на все мои вопросы. А дальше всё будет зависеть только от вас. И никаких красивостей, договорились?»
Я киваю. Вот как оно вышло. Стоило ему заговорить вот так, деловито и спокойно, и теперь он для меня как родной. Мне даже хочется руку ему пожать – или обнять.
Всю жизнь я мечтаю говорить так, будто я пишу. Я слышал, что за эти виды деятельности отвечают разные половины мозга. Но проблема в том, что всё слышимое мне всегда кажется ложью. Я знаю, что невозможное возможно. А иначе и жить незачем.
Он провёл меня в пустой кабинет, где не было ничего, кроме стола и стула, и включил машинку.
Я назвал своё имя и не без труда вспомнил, какой сегодня день.
«Никакой литературщины! Только факты, имена и даты», – строго напомнил он, закрывая за собой дверь.
«Да-да, конечно, понял», – поспешно замахал я руками. Мне хотелось, чтобы он как можно скорее ушёл.
В дверях повернулся ключ. В зарешёченное окно заглянуло солнце и разложило на столе свою доску для китайской игры. Теперь я был один, сидел и не знал, с чего начать. Машинка на столе записывала моё дыхание, стук сердца, далёкие звуки дрелей и кранов, дробь пальцев. Несколько минут я молча смотрел на неё – и на какой-то момент мне показалось, что я уже всё сказал. Вся история уже там, в этой дьявольской коробке. Кто-то с той стороны дёрнул ручку двери – и раздражённо потопал обратно по коридору. Я подтянул стул поближе к столу, дышать становилось всё труднее, я не мог выдавить больше ни слова. И тут я заметил нитку. Её кончик торчал из приоткрытого ящика пустого стола. Одному богу известно, как она туда попала, эта синяя нитка, зацепившаяся за гвоздик в деревянном ящике. Осторожно, стараясь не порвать неуловимый, тонкий синий хвостик, я освободил её, вытащил и намотал на указательный палец. А потом размотал. И намотал снова. Она была длиной в ладонь.
Игра меня захватила. Я уже не думал о словах. Я играл со своей подружкой-ниткой, а кто-то другой, кому надоело на нас смотреть, покашлял и начал говорить. Вполуха я прислушивался к его болтовне. В какие-то мгновения мне хотелось прервать его и поправить, но нитка была важнее. Впрочем, с самого начала этот кто-то выбрал не тот тон, не те слова, иногда он бесстыдно врал и выставлял себя гораздо умнее, чем есть. Его послушать, так всё очень просто. Как в книжках. Но надо дать ему выговориться.
Послушать только, что он несёт… Только бездарь начинает рассказ с кофе. Кофе… Мол, видите, какой я богемный, романтичный, европейский, какой я кофейный, ароматный, крепкий орешек, без кофе я никуда, без кофе я калека, ни начать, ни кончить. Кофе…
Но, если разобраться, так оно и было.
2.
Однажды я сварил себе кофе, сел за стол и придумал свой язык.
Придумав, я откинулся на спинку стула и неторопливо огляделся.
В пепельнице скрючились пять окурков. Безымянный цветок на подоконнике задумался о Blut und Boden. В моём тихом, неинтересном дворе было уже темно, в доме напротив давно включили свет и завесили окна. Как в примерочных кабинках. Голые люди за занавесками примеряли на себя друг друга: давит? Не давит? Нормально… Сойдёт для сельской местности, как говорили мои городские родители.
Ноутбук тихо мурлыкал в тишине квартиры, освещая моё лицо.
Серое лицо человека, который придумал свой язык.
На какой-то момент я увидел себя как бы со стороны. Будто я сижу у костра, и вокруг лес, и я знаю только три слова, и мне хватает.
В такие мгновения, когда ты сидишь перед включённым ноутбуком в тёмной квартире и смотришь в окно, иногда может показаться, что всё на свете придумано тобой. Что именно ты только что настучал на клавишах этот удивительный мир, который живёт своей жизнью. Опасное ощущение. И как же больно бывает, когда понимаешь, что ты тут вообще ни при чём. И действительно, вокруг не было ничего, к чему я был бы причастен. Всё – от крыши над головой до наимизернейшей микросхемки, от уличных фонарей до колёсика зажигалки – было придумано, сделано, построено, покрашено и названо другими. И люди за занавесками не собирались становиться ко мне в очередь. Об их намерениях я вообще ничего не знал. Как и они о моих. Обычно в моём распоряжении было только время. Пустые клетки, в которые нужно себя вписать. Клеток мало, а тебя много. Поэтому надо идти на всяческие ухищрения. Мучить себя и других.
На этот раз, однако, вышло иначе.
С того момента, как я сел за стол с чашкой кофе, прошло два часа. Казалось, что вокруг ничего не изменилось, кроме освещения. Я остался прежним. И мир был такой же, как два часа назад. Такой же, и всё же совсем другой. Там, за окном, ходили люди, и каждый из них пользовался чужим языком, а у меня был свой. Сам по себе этот факт ничего не решал – и всё же наполнял меня странной радостью. Будто меня признали виновным в преступлении, на которое я никогда бы не решился.
Я чувствовал усталость. Величественную усталость бога, весёлую усталость творца. Вдруг я почувствовал, что голоден, пошёл на кухню, везде включая свет, достал из холодильника кусок колбасы и начал жадно жевать, запивая дешевым вином прямо из пакета. За стеной залаял пёс, зазвенели ключи, там расклеили рот телевизору и он сразу во всём признался. Я нажал кнопку электрического чайника, старый чёрный советский счётчик у дверей затрещал, колёсико завертелось, как пластинка, с которой сейчас польётся то ли вальс, то ли джаз, то ли марш. Что-то, что давно уже не в моде. Неожиданно мне стало страшно, что файл мог пропасть – я бросился обратно к столу, проверил: он был на месте, придуманный мной язык светил мне в лицо, как луна. Я аккуратно скопировал файл на флэшку и спрятал её в надежном месте. А потом выключил ноутбук, открыл окно, выбросил окурки. Скоро должна была прийти Верочка. Но ни она, ни соседи, никто, никто во всем мире не должен был узнать, что сегодня вечером
я сварил себе кофе,
сел за стол и
придумал…
Я назвал его бальбута. Одному богу известно почему.
А богом был я.
Лингвоконструированием я начал увлекаться еще в детстве.
Помню, мы с приятелями вырезали из бумаги фигурки людей, раскрашивали их и играли на полу в государства: воевали, мирились, торговали, прирастали землями – ковровыми Сибирями, горными хребтами диванов и другими колониальными владениями. Надо было обзавестись как можно большим количеством народа: из-под наших ножниц на пол сыпались солдаты, крестьяне, чиновники, священники, моряки, купцы. Больше всего, конечно, мы любили делать солдат: придумывали им обмундирование и оружие, знаки различия, чины и даже характеры – для самых героических. Игру эту выдумал я – и мгновенно подсадил на неё остальных, мы могли ползать по полу часами, перемещая наши войска и поселенцев, строя города и постоянно ведя перестрелки и сражения: тыщ, тыщ, тыдыщ. Тысячи фигурок были подвластны нашим приказам. Нам было лет по двенадцать-тринадцать, эпоха компьютерных игр ещё не наступила, но мы получали от нашей забавы такой кайф, которого не получишь от современных стрелялок, аркад и стратегий. Мы играли после школы у меня дома, сделанный нами мир нужно было убрать до прихода родителей с работы, иначе сворачиваться приходилось в спешке, под ногами у взрослых, и можно было в суете забыть, какие пределы установлены на сегодняшний день в нашем мире. Иногда взрослые приходили раньше и всё же заставали нас за этим групповым помрачением. Сначала они не обращали внимания, что делается у них под ногами, но со временем наша игра стала их настораживать. Видно, существовали какие-то неизвестные нам родительские совещания, где они обсуждали, что с нами не так. Однажды отец одного из приятелей, встретив как-то на улице нашу компанию (мы как раз шли ко мне с полными карманами фигурок), остановил нас и с какой-то добродушной яростью в глазах сказал, глядя в глаза не кому-то иному, а именно мне – и ухватив меня за руку выше локтя:
«Слышь? Вы ж здоровые ребята! Что вы хернёй занимаетесь? Шли бы уже девок тискать… Или набухайтесь возьмите. Или там, не знаю, лбы себе поразбивайте. Что вы всё по полу ползаете, как малые?»
«Папа, иди куда шёл», – пробормотал мой приятель. Мы стояли и стыдливо лыбились, не зная, что сказать. Он был Папа. С правом наказывать или миловать, с плевками вместо глаз, пролетарскими кулаками, с пенисом, перегаром, принципами. А мы были никто, подростки с бумажными игрушками в карманах школьных пиджачков.
«А ты отцу рот не затыкай! Будешь с ним и дальше ползать, не мужик из тебя получится, а хуй бумажный!»
Он сжал мою руку ещё сильнее. Он был выпивши. Он считал, что мои родители обходятся со мной недостаточно сурово. Но что он мог сделать? Только отпустить меня, залезть к сыну в карман пиджачка и вытрясти из него целый народ, солдат, странствующих монахов, полководцев, купцов, кузнецов – вытрясти просто на асфальт, на который кого-то недавно стошнило свежей зловонной весной, кого-то большого, кто плыл теперь по небу и у кого мы уже тринадцатый год путались под ногами.
Он растоптал фигурки, буквально вмесив их в лужу, этот всемогущий отец, настоящий Бог, не бумажный, на асфальте теперь была грязная каша из фантазий его сына, и он имел полное право заставить своего отпрыска стать теперь на колени и слизать её. Я смотрел на этого отца, как загипнотизированный. Такая власть меня восхищала. Он заметил мой взгляд, плюнул и пошел прочь.
Трезвым он меня боялся. И называл за глаза так: «этат бальной». С уважением и презрением одновременно – бывает и такое. Мы жили в недавно построенном микрорайоне на самом краю города, здесь все знали всех, здесь трудно было хранить тайны. Он боялся, что я заражу его сына своей «балезьнью» – своей бумажнохуёвостью, своей бумагоползучестью, своей ненормальной любовью к книгам.
Как я уже сказал, идея игры принадлежала мне, приятели завидовали и постоянно пытались как-то повлиять на правила, а мне это не нравилось. Поэтому иногда мы поднимались с пола и противостояние продолжалось в воздухе – и уже не бумажные люди, а суровые боги становились друг против друга, сжимая кулаки.
И именно мне принадлежала другая идея: начать делать для игры не только бумажных солдат, монахов и рабочий люд, но и женщин. Что и говорить: над женскими фигурками мы сидели значительно дольше. Попробуй вырежь все эти таинственные изгибы и кошачьи очертания, все эти кружева загадочных тел, придуманных кем-то для нашего наказания, тел, от одной мысли о которых потели ладони, болели соски и ныло между ног. Стоит руке дрогнуть – и вместо женщины получишь опухшую, бесформенную старую ведьму. А старухи – они ведь не считаются. В наших играх вообще не было ни стариков, ни детей. Только здоровые белые бумажные мужики, которые постоянно думали об убийстве себе подобных.
Какая же это болезнь – быть мальчиком. Моё тело напоминало мне тогда весеннее дерево. Я чувствовал что-то родное моему бедному мальчишескому телу в первых почках на ветках, в том, как же больно им весной распускаться, в их утренних мартовских стонах, которые, кажется, слышал только я сам. Какая же это была мука. Мука тринадцатилетия. Ведь фантазия у нас тогда работала так, что не нужно было никакое порно, никакие стимуляторы. Однажды я не выдержал и начал делать фигурки обнажённых женщин, все заржали и с облегчением начали мне подражать, а потом мы лежали животами на своих империях и сравнивали, у кого что вышло, мы валялись на полу красные, как будто с нас содрали кожу, и почему-то не хотели смотреть друг другу в глаза, и становилось страшно, что сейчас вернутся родители и застанут нас за этой игрой. Мы настолько этого боялись, что уничтожали женские фигурки после каждой игры, и следующий раз их нужно было вырезать заново. И мы мастерили, неистово и неуклюже, – и больше не понимали, кто мы: боги, рабы или сумасшедшие, и громко смеялись, и ругались, и лезли на стены от чего-то невысказанного, страшного и неизбежного.
Однажды, успев уничтожить все обнажённые фигурки как раз перед приходом родителей, я, сидя с мамой и папой перед телевизором, с ужасом заметил, что одна фигурка осталась лежать под диваном. Как я мог недосмотреть, как мог её не заметить! Что будет, если мама её найдёт (она убиралась часто, чуть ли не каждый день)… Я уже не мог смотреть фильм, я думал только об этой забытой фигурке. А родители сидели рядом со мной, как прикованные. С трудом дождавшись, когда фильм наконец закончится, я долго не выходил из комнаты, но никак не мог остаться один. Потом меня послали на кухню за вареньем, потом родители выходили из комнаты, но по одному, каждый раз по одному, я никак не мог выбрать момент, чтобы схватить ту злосчастную фигурку и спрятать в штаны. Я сгорал от стыда. Наконец оставшись в комнате без родителей, я полез под диван, но фигурки там не было! Никакой фигурки, только полная пустота и чистота – и эта абсолютная чистота пугала меня больше любого скандала. Она была там. Я видел её. Куда она подевалась? Ответ на этот вопрос долго не давал мне покоя.