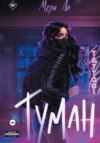Loe raamatut: «Криптонит»
Из чего ты сделана?
Когда я была маленькой, меня ничто на всём свете не могло испугать.
Я была ураганом остроугольных костей, растрепанной, жёсткой чёлки, спадающей на дикие глаза, и воплей – но мне казалось, что я страшнее тигра и от моего рёва многоэтажки обрушатся в пыль. Я перебегала дорогу прямо перед проезжающими машинами, а водители матерились мне вслед; я прыгала по деревьям, кидалась в мальчишек булыжниками и хохотала, когда они пугались, потому что я – я ничего не боялась кроме собственного испуга.
Мне хотелось пронести эту слабоумную смелость до самой своей старости, но уже лет в пятнадцать она начала трескаться, и я поняла, что она была сделана из пластика, а не из камня. Или льда (потому что он тут же растаял бы под его глазами).
В мои ураганные семнадцать от меня прошлой уже ничего не осталось – я надела жемчуг и встала под вспышками фотокамер, как под обстрел. Под этими камерами в моём взгляде больше не было дикости – только царственное величие и чуточку тоски, которую я украла у звёздных актрис чёрно-белого кино.
Но внутри – в пределах фотосессий, когда моё тело ощупывали профессиональным взглядом, цепко выхватывая недостатки, которые невозможно продать (но всё ещё меня не видели) – я была слепым котёнком. Неприспособленным, одомашненным, испуганным потомком хищников, забывшим, что у него есть когти. Или – ещё не отрастившим их.
Я забывала о своей необузданной дикости и покорно стояла под обстрелом, непонимающе щуря глаза, пока меня ловили в кадр, чтобы показать на Дискавери. Так я себя ощущала – живым экспонатом.
– Приготовься и…! Да, вот так… нет, нет, чуть поверни голову, нет… ну что такое… нам нужен перерыв! Встретимся через пять минут! Иди, попей водички, отдохни и возвращайся отдохнувшей и повеселевшей! – и тут же жёстко, но тихо, чтобы слышала только Ира: – Это никуда не годится, приведи её в работоспособное состояние, сей-час-же!
Вспоминая эти фотосессии, я могу привести только одно сравнение: безвкусный, пресный секс. Тебя мучают долгое время, и ни ты, ни фотограф не можете достичь оргазма. Ты для него бревно, а он для тебя насильник.
Ты спишь на ходу, а тебя трахают.
После того, как Миша, матернувшись себе под нос, недовольно швырнул фотоаппарат одному из своих ассистентов, я позволила себе взглянуть в огромное панорамное окно студии.
Панельные многоэтажки большого города (я там не жила, только ездила на эти фотосессии) сливались с серостью неба.
Мрачно, но вполне в духе туманного ноябрьского утра. Мы начали в семь вечера воскресенья. Уже понедельник – а значит: школа, математика, уроки…
Как далеко это сейчас, но вспоминается по-прежнему с ужасом. В семнадцать это и вовсе было личным апокалипсисом, который начинался каждое утро и повторялся в следующее, как день сурка.
Я протёрла рябившие от вспышек и бессонной ночи глаза, и тут же подбежавшая Ира испуганно отодрала мои руки от лица.
– Господи-боже, Юля, ты сотрёшь макияж!
И принялась оттирать с нижнего века пятна от туши. Я отводила взгляд, лишь бы не смотреть на её сосредоточенное, слегка зелёное лицо так близко, но выгнать её из своего пространства не могла, хотя меня выворачивало. Нет: я хотела откусить ей нос, но больше – спать. Я покорно стояла бы и дальше, если бы она не дёрнула меня за юбку и не шикнула, заставляя завалиться вперёд, как марионетку:
– Давай без своих выкрутасов! Миша от тебя вешается!
Таким тоном, будто я всё это время не старательно корчила из себя модель, а мазала собственным дерьмом стены. Будто я трёхлетняя. Будто она мне настоящая мать.
Я медленно перевела на неё взгляд, чувствуя, как болят глаза из-за лопнувших капилляров.
Раз.
Два…
И в один миг взорвалась, как звезда, дожившая свой век.
Я резко скинула с себя её руки. Мимо замелькали удивлённые лица, плакаты, смешиваясь в разноцветное пятно. Холодный воздух бил горевшее лицо, пока я шла так быстро, что почти бежала.
Я не заметила, как одубевшие ноги задели простыню, служившую декорациями, и всё упало к чертям; не услышала воплей Иры, летевших в спину. Я вообще ничего не слышала – в ушах у меня была вата, а грудь не могла сдержать желающее выбраться сердце.
Я тоже хотела выбраться.
Иногда она всё-таки во мне просыпалась – та десятилетняя вечно орущая дикарка, которая успокаивалась только со странными игрушками деда из старого металлолома. Они мигали зелёным и красным, из них торчали леска и проволока, но как же я их любила! А потом пришла Ира и выбросила весь этот «мусор».
Я помню ту гримёрку, в которой мы ютились чуть ли не на головах друг у друга, – вешалки с безразмерным тряпьём, которое напяливали на нас, худощавых (а мы порой прыгали из-за этого до потолка), камерное тёмное пространство, в котором вечно пахло потом и парфюмерией, маленькие туалетные столики со всем этим косметичным дерьмом. Я чуть не скинула его полностью, пока искала трясущимися руками средство для снятия макияжа. Не нашла. В процессе разнесла весь столик. Да и чёрт с ним. Возьму сухие салфетки и буду стирать ими наждачную матовую помаду – я её ненавидела. После себя она оставляла лёгкий проститучный флёр. Или кровавый – будто наелась стекла.
Я вспоминаю эти моменты – и мне хочется взять как можно таблеток с прикроватного столика, потому что мне становится трудно дышать. Потому что перед глазами всё расплывается, как тогда.
– Что это с ней? – недоумённо шушукались девочки, глядя на меня издалека, но ближе не подходя. В такие моменты всё во мне становилось визгливым и хрупким, будто ломающееся стекло:
– Вам заняться нечем?
В том маленьком душном помещении я никогда не могла полностью вдохнуть и не могла себя узнать – со стороны это наверняка выглядело по-идиотски, когда я металась и огрызалась на всех. Я будто загнанная дичь дёргалась в капкане.
Но они отставали и сразу замолкали – и это меня успокаивало.
– Ты ведёшь себя как ребёнок! – Ира меня подняла за плечи, как куклу – снова. Я отправила ей взгляд исподлобья и мысленно пожелала умереть, не заботясь о том, как по-детски это было. А так оно и было. Ну и что ты сейчас сделаешь? Возьмёшь карандаш для губ и вонзишь его в артерию? А потом пойдёшь плакать в уголочке?
Милая маленькая Юля. Какой глупой ты была.
– Не трогай меня! – тут же процедила я. Внутри у меня была целая истерика. Эту истерику в мои семнадцать могло спровоцировать что угодно – любой взмах бабочки на другом конце планеты. – Мне уже надо в школу!
«И ты мне не мать!»
Однажды я в детстве выкрикнула эту фразу ей в лицо, но потом она дала мне пощёчину. Я кричала это снова и снова, пока ей не надоело меня бить.
– В школу пойдёшь, когда мы сделаем нормальную фотосессию! – у меня дёргался глаз от этого слова, так что я опять переборола желание плюнуть ей в лицо. Она стояла в этом своём модном костюме и держала блондинистую голову ровно – ухоженная, твёрдая. Она смотрела на меня так, будто между нами была настоящая война, и ей во что бы то ни стало, надо было её выиграть. Но дело в том, что я тоже ненавидела проигрывать, особенно ей.
– А, так значит, «внеклассные кружки» важнее моей учёбы? – я разом выливала весь свой яд, сардонически ухмыляясь, сама чувствуя тошноту от этого яда на моих губах. Руки были сжаты в кулаки, а глаза безумно сверкали – я видела это в зеркале. Я была совсем на себя не похожа – металась, как птица в клетке.
– Кому ты такая, с таким характером, будешь нужна? Тебя больше ни одно агентство не возьмёт – Миша уже хочет нас выгнать!
– О боже, – я закатила глаза, повеселев. – Выгнать, значит? Скажи ему, что за это я подарю ему новый дом. Когда он выплатит мне гонорар, естественно.
Какое же несравнимое удовольствие мне доставляло видеть возраставшее бешенство на её излишне красивом, но постаревшем лице – я чувствовала власть над ней.
– Да ты посмотри на себя! Это называется «модель»?
И швырнула на столик распечатанные фотографии. Мой взгляд машинально упал на одну из них – и все мои многочисленные слова застряли в сжатой глотке.
Завитые светлые волосы. Красивые черты лица, не совсем правильные, но интересные, резкие – то, что хорошо продавалось, поэтому меня и взяли. Иногда я смотрела на свои фотографии и застывала, чувствуя нечто скользкое и противное внутри. Будто я забывала, кто я. Будто мне показывали не меня, а чудовище Франкенштейна, изуродованное чужими пальцами, чужими вырвиглазными нитками. Я смотрела на зажатую костлявую девчонку в короткой юбке и расстёгнутой белой рубашке, которая корчилась в сексуальных позах, и мне становилось тошно.
Я разъярилась, как и всегда, когда видела любое проявление своего несовершенства.
Мне сказали, что я буду лицом Гуччи, лицом Дольче и Габбана, а теперь превратили меня в полное убожество. К чёрту их.
Даже не застегнув блузку, я пошвыряла вещи в сумку. Ира, сжав губы, завертелась вокруг меня, начав истерично что-то кричать, но на моём лице уже была каменная маска, и я полностью оглохла. Родителей это всегда бесило – как я легко, по щелчку пальцев абстрагировалась от остального мира. Мне кажется, это крайность всех шумных в детстве людей. Когда тебя долго не слышат, в подростковом возрасте ты становишься ничем.
Или – не собой, надевая на себя сотни чужих масок. Но никогда не собой.
– Юля! Юля, чёрт тебя подери! И куда ты собралась! Сучка поганая, – вдруг прошипела она. – Водитель тебя не повезёт, будешь пешком добираться, слышишь?
– Мне плевать, – ответила я, отправив ей спокойный взгляд. – Я больше здесь не появлюсь.
Она что-то ещё выкрикнула мне вслед, но я послала ей средний палец, не оборачиваясь, и каждый шаг давался мне легче предыдущего, несмотря на ноющие от шпилек ноги.
Тогда я была так счастлива – у меня на лице играла улыбка (я чувствовала её болящими мышцами на лице). Я представляла, что мне больше никогда не придётся быть цирковой обезьяной.
Но что-то во мне безобразно корчилось и кряхтело, краснело, пыхтело, выворачивая меня наизнанку, когда в голову приходили те уродливые фотографии.
Я не могла этого вынести.
* * *
– Ого! – присвистнула Вера, окидывая меня насмешливым и восхищённым взглядом. – У вас сегодня, я так понимаю, нюдсы.
Я встретила её на широком подоконнике туалета – там, где она прогуливала физику, математику и добрую половину предметов. Мы сидели на нём, поставив ноги на батарею и хихикали над тем, какие наши одноклассники дебилы. Хихикали над всем. И дымили в окно в молчании.
Она обратила ко мне худое лицо – и зелёные глазищи вцепились в меня. Иногда они могли быть довольно пугающими, когда она сверлила ими в наших дебилоидных пацанов и посылала их в причинное место, но я видела их хитрыми – или наивными и огромными, стоило мне рассказать очередную байку со своей так называемой работы. «О боже, неужели…»
Сейчас в туалете тоже пахло табаком. Она была в своих потёртых джинсах, а на коленях у неё лежал неизменный блокнот с исписанными рифмованными строчками.
– Не спрашивай, – закатила я глаза и попросила пальцем у неё сигарету. У нас была своя система жестов – два раза махнуть указательным значило «дай покурить». Красные мальборо. Я закашлялась, потому что хотела скурить сигарету побыстрее – мне необходимо было попасть на физику.
– Выглядишь классно. Ильич сдохнет, пуская на тебя слюни, – хмыкнула она.
После таких фотосессий я слышать не могла о своей красоте. Мне хотелось убить кого-нибудь об стену.
– Заткнись, а, – слишком резко выпалила я, хотя хотела бросить это как шутку. Вера непонимающе и испуганно посмотрела на меня – птичка, которая и так боялась чирикать. Тогда у меня между рёбрами что-то кольнуло. Но я всегда выбирала это игнорировать.
Не глядя на неё, я вернула ей недокуренную сигарету и, скомкано попрощавшись, побежала на физику – чувствуя, что всё ещё задыхаюсь. Коридоры казались нескончаемыми. Наконец я нашла нужный кабинет.
И застыла на несколько секунд. В эту дверь я всегда боялась стучать.
Потом разозлившись на себя, я всё-таки дёргаю за ручку и вхожу. Десятки кислых лиц обращаются ко мне.
Такие моменты я помню отчётливо, будто я нахожусь там. Потому что в пределах этих дверей я становлюсь острой и колючей, проволокой, и пространство вокруг меня будто тоже обостряется, режет как нож.
Я с разбегу вмазываю в него свой взгляд. Сначала в чёрные татуировки на предплечьях, видимые из-за короткого рукава, затем в джинсы, потом в короткие тёмные волосы, и только потом промеж глаз. Не в них.
Он незаинтересованно смотрит на меня, но я уже жду почему-то грома и бури. Жду, с вызовом глядя на него, но трясясь внутри.
Гром и буря – вот из чего он был сделан. В свои семнадцать я постоянно думала об этом – о том, что у него внутри. Тогда мне казалось, он был создан, чтобы мне было страшно и неуютно.
– Извините за опоздание, Александр Ильич, проспала, – выпаливаю я, заставляя голос звучать громче.
– Я не слышал стука, – кинул он низким голосом в полной тишине. Когда он говорил, все подавленно молчали. На его уроках тоже молчали – только за пределами этих дверей позволяли себе много, много разных слов. Я задрожала от злости, которая приближалась ко мне неконтролируемыми всплесками. Но выплеснуть я их могла только своими громкими шагами и излишне громким стуком.
Тогда у меня была непереносимость Александра Ильича. Аллергия, поэтому тело реагировало порой странно и непредсказуемо.
– Извините, – с нажимом произнесла я, держа спину прямо. Я не могла позволить себе превратиться в жижу под его равнодушными серо-голубыми глазами, похожими на стоячую воду подо льдом.
– Проходите, Юдина. И застегните рубашку.
Когда непослушные после холода и ослабевшие пальцы неуклюже (боги, впервые я делала что-то неуклюже) застёгивают пуговицы, лицо медленно начинает покрываться краской. Я бросила на него беспомощный взгляд – это получилось совсем бесконтрольно, я не хотела.
В ответ натолкнулась лишь на холод, скрывающий на дне неприязнь, или даже нечто похожее на отвращение, будто он смотрел на червяка. И испуганно отвернулась. Он подумал, что я специально его соблазняю?..
Я спряталась за волосами.
Проверяли домашнее задание, которое я, конечно же, не успела сделать. И конечно же, он меня спросил. Тогда случалось много того, о чём я думала с ужасом – будто сама судьба макала меня дерьмом с головой. Сейчас многие говорят, что всё зависит от твоего настроя и программ в голове, но тогда я об этом не думала – мне казалось, всё вокруг хочет меня уничтожить.
– Юдина, вы готовы? – кинул он мне, приподняв подбородок, отчего казалось, что свысока. Он расслабленно сидел на стуле, крутя в пальцах ручку. Журнал открыт. Он всегда выглядел так, будто он тут невзначай с этими прозрачными глазами смотрит, но не видит – будто ему на всё плевать. И когда он появился здесь полгода назад, нас это обмануло. Ему действительно на всё насрать – но он был запрограммирован на то, чтобы вызывать у людей ненависть.
Я уткнулась ему взглядом куда-то в острую скулу, закусив щёку изнутри. Хотелось скулить. Что он, чёрт возьми, здесь делает? Мише бы он понравился. Идеальный типаж.
Он не подходил этому месту – но ровно до того момента, как не вставал у доски и не начинал объяснять закон относительности или ещё что-нибудь.
– Нет, – хрипло сказала я.
– Я думал, вам нужны хороший средний балл, разве нет? – приподнял он бровь, после того, как сделал пометку в журнале. И мимолётом посмотрел на меня, безмолвно припоминая один дурацкий момент, когда я подошла в прошлом году, пытаясь его уговорить поставить мне пять. Сейчас я понимаю, как дебильно это выглядело. Но тогда он точно также приподнял бровь.
«Пять по литературе? По математике? Извините, Юдина, это не ко мне».
Козёл.
– Д-да, – выцедила я.
– Отлично, – тут он встал с места, потеряв ко мне интерес. Написал на доске тему точными, печатными буквами. – Продолжаем предыдущую тему. Номер триста три. Кто хочет попробовать?
Так буднично. Так, будто ему скучно. Я помню, как меня бесил этот тон. Не то чтобы другие учителя устраивали на своих уроках концерты или радовали доброжелательностью, но… но.
Моя рука оказалась в воздухе первой. Обычно я не задумывалась, поднимая её, но тут мне требовалось серьёзное усилие.
Он прошёлся взглядом по классу. Потом натолкнулся на меня. Меня вводил в какое-то неистовство этот его взгляд – будто он не воспринимал меня всерьёз, как будто забавная собачка пытается что-то сказать. В его понимании я навсегда закрепилась как блондинка, которая хлопает глазками, убеждающая поставить пять. А теперь ещё и проституточная соблазнительница.
Это не было далеко – я всё-таки была блондинкой-моделью. Их обычно так и воспринимали.
– Хорошо, Юдина, попробуйте исправить положение, – и я встала с места, высоко поднимая голову. Подошла. Посмотрела в глаза с уже знакомым вызовом (который давался мне очень тяжело) и взяла из его ладони мел. Именно физика мне тогда воспринималась так, будто это моё личное поле боя. Будто никого не существовало кроме меня и его, которому нужно было доказать что-то, макнуть головой в его неправоту.
Я начала писать решение, буквально вдавливая мел в доску и чувствуя, как спину под его взглядом жжёт.
Всё-таки я не была цирковой обезьянкой. Я была сделана из стали.
О прозрачных глазах, панике под рёбрами и конференции
Я никогда не была поэтессой, как Вера, – я игнорировала существование чувств. Вера казалась мне соплежуйкой, а себя, сбегающую в мир атомов, чертежей и цифр, я считала человеком конкретики и фактов.
С утра до ночи я талдычила физику на чистой злости. У меня никогда не было гениальных мозгов, как у дедушки (или, если уж на то пошло, – вообще мозгов), было только моё упрямство, которое я использовала как топливо.
– Она девочка небесталанная, но ей нужно много стараться, чтобы чего-то достичь, – сказал как-то деда в моём детстве, когда я притащила ему первую попытку изобретательства – пародию на его гениальные механические штучки, которые он делал на скорую руку. В тот вечер они после конференции пили водку, а мне хотелось всех впечатлить, но танцы и представления ребёнка для них были неинтересны – это я уже понимала. – Она похожа на свою мать – та тоже слепит что-то из говна и палок, и думает, что ей за это положена Нобелевка. Стоит и бьёт ногой, ждёт, что я ей скажу, что она гениальна, а как укажешь ей на ошибки – убегает, обзывает дураком и плачет весь день. Но упрямая была, что сказать… Юлька ваша такая же.
И хохотал. А я навсегда запомнила это всепоглощающее ощущение стыда. Мама в моём детском мозгу навсегда закрепилась как глупышка, и вести себя как она – это просто ужас. Мне всё ещё хотелось обозвать деда дураком и топнуть ногой, сказав, что он ничего не понимает, что я не огранённый бриллиант, талант, который рождается раз в тысячелетие, но он, ректор технического университета, доктор физических наук, владелец стольких наград и грамот, явно понимал больше меня. А я терпеть не могла постоянные сравнения меня с глупышкой мамой. И с тех пор начала биться в стену лбом.
Ире это не нравилось, потому что она уже вытоптала для меня дорожку – которая, как она думала, была вся сделана из цветов. Мне же было по душе пробиваться сквозь тернии к звёздам.
Папа был по большей степени равнодушен к моим увлечениям – настолько, что порой мне хотелось стать настолько громкой, что не услышать меня было бы невозможно. Просто из любопытства: как он себя поведёт, когда увидит меня? Тогда я не понимала, почему на месте отца для меня стоял непробиваемый бетон.
Это была обида, а я любую свою эмоцию трансформировала в злость и ненависть. Мне казалось: это внутреннее состояние сильного человека, который способен оседлать весь мир и расстрелять несогласных. Поэтому я презирала отца.
У нас был огромный дом – дедушка с барской руки отдал его отцу после смерти мамы, чего папа так и не смог простить ему, поэтому с завидным постоянством пытался проиграть его в карты. Дед, называя его никчёмным нытиком, неспособным без его дочери и дня прожить, покрывал его долги. Потом появилась Ира, которая в отличие от отца, бизнес вести умела явно лучше – у неё была своя линия косметики, – и уже она стала платить за отца в бесконечных казино и разговаривать с мутными типами, придавливая их трусливые глотки шпильками. Я её ненавидела, но не понимала, зачем ей такой же трусливый отец.
Деда называл её «бездарной торгашкой, продавщицей на рынке», и я как верная собачка глотала его слова, чтобы потом с точностью до интонации бросать их в лицо Ире. Повторять его надменный тон в разговорах с Верой, скучающе вытягивая руки с длинными ногтями. Вера только отмалчивалась на эти оскорбления, что меня доводило до белого каления – она не имела права иметь отличное от моего мнение. Не имела права считать себя лучше меня.
Мне нравился наш дом. Белокаменные лестницы с крутыми поворотами, балкон со второго этажа, прямо как из фильмов про аристократов, просторный белый холл с настоящим камином. Но каждый раз, выходя за пределы своей комнаты в эти прохладные коридоры, где каждый шаг отскакивает от камня и эхом бежит вглубь, дальше, я ломала пальцы и запрещала себе смотреть на высокие потолки – чтобы не ощущать себя букашкой. Этот дом был воплощением деда в моей голове.
– Почему ты ещё не одета? Я пересылала тебе письмо от Миши с расписанием фотосессий на неделю, – я вздрогнула от громкого голоса Иры, оказавшейся в моей комнате. Даже не постучавшей. Меня мгновенно ввело в исступление то, как брезгливо она посмотрела на разбросанные кучи листков с формулами и книг. Тогда я этого не замечала, но сейчас, вспоминая это, я понимаю, как неуютно она себя чувствовала, когда врывалась ко мне – несмотря на костюмчики от Прада, она была очень напряжённой и боялась и шагу лишнего сделать. Лицо превращалось в каменную маску, а глаза смотрели прямо – только на меня, как будто я собака, которую надо контролировать взглядом. Как меня вымораживала её дрессировка – словами не передать. Я делала назло буквально всё. – Почему так сложно убраться, боже, неужели тебе приятно жить в этой грязи?
– Ты не поймёшь, что такое творческий хаос, – прищурившись, отвечала я. Я воинственно вздёргивала подбородком, наслаждаясь своим хамством. Тогда я казалась себе самой умной, а она – никчёмной и глупой «торгашкой», раз не отвечала мне и – о боги – не могла отличить кинетическую энергию от потенциальной. – И если ты не слышала, как я в тот раз сказала, то повторю ещё раз, для особо одарённых: я. Не. Пойду. Туда. Больше.
Она тоже начинала закипать – её бесило, когда я ей грубила. «Девчонка, малолетняя неблагодарная хамка, которая и жизни не хлебнула…» Ну да, я не начинала свою великую карьеру с того, чтобы драить полы в торговом центре, и не то что бы жалею об этом.
– Ты хоть раз можешь нормально ответить на замечание? – всплеснула она руками. Я так радовалась, когда выводила её на эмоции – это значило, что я победила. Со мной было очень тяжело – на дне её голубых глаз всегда была обречённая усталость. Но она не сдавалась. – Если ты по глупости хочешь расстроить свою карьеру, то подумай хотя бы ещё раз…
– Так вот именно, что ты не даёшь мне самой думать! – закричала я, бросая на пол подушку. Как была в розовой пижаме – так и стояла посреди комнаты, отчаянно защищая своё. – Я уже всё решила, отстань от меня с этим моделингом! Вечером я пойду с дедой на конференцию. И не говори, что он заморочил мне мозги!
Она только покачала головой, тяжело вздыхая и покорно опуская голову. Вести разговоры о дедушке было полностью бесполезным делом; это всегда скатывалось в поток нескончаемой ругани из моего рта.
Выходила я из комнаты уже при полном параде – агрессивно-красная помада на губах, белая рубашка и чёрная юбка, на десять сантиметров выше допустимой длины. Впротивовес своему страху этого дома, я специально громко цокала каблуками. Когда я пришла в кухню, вызывающе глянула мачехе в глаза и хрустнула яблоком, которое взяла с хрустальной менажницы. Помятый после вчерашней попойки отец читал газету, прихлёбывая кофе.
– И это весь твой завтрак? – приподняла бровь Ира. – Возьми хотя бы оладушек. Соня для кого пекла?
Я чувствовала себя победительницей в этой нелегкой войне – а она смела говорить о каких-то завтраках. В такие моменты я чувствовала себя неправильной, глупой, искривлённой – она вела себя как обычная мать, и значит, моя война не имела смысла. Значит, всё это не имело смысла.
Но так далеко думать в свои семнадцать я не умела.
– Для твоего мужа, который и посрать без твоей помощи не может, – фыркнула я, зная, что он меня даже не слышит. Это аморфное существо вызывало во мне только презрение.
– Следи за языком!
– В этом доме позавтракать спокойно можно, хоть раз без этой долбанной куриной ругани? – поморщившись, отец приложил руку к лысеющей голове. Дедушка в свои шестьдесят пять выглядит гораздо представительнее его – пусть и волосы у него с проседью, но они хотя бы полностью прикрывают темечко. Я проследила полным брезгливого отвращения взглядом, как Ира вскочила с места и начала кудахтать над ним, предлагая аспирин.
С Верой мы встретились на школьной парковке – её тоже привёз водитель. И тут же устремились друг к другу, обнимаясь на пути, и, захлёбываясь в громком хохоте, рассказывали друг другу последние новости.
Она послала средний палец своей мамаше, и мы заржали. Оказавшись вместе, мы чувствовали себя наконец полноценными и самыми всемогущими в этом мире. Никчёмные подростковые проблемки, которые до этого казались концом света, теперь были не более, чем поводом для смеха.
Двое против всего мира – так это называется?
– Она говорит, ты плохо на меня влияешь. Что из-за тебя я не делаю домашку, – доставая сигарету из спрятанной под нашим камнем пачки, говорит Вера.
– Очаровательно. Тётки без высшего образования так отчаянно хотят выставить меня дьяволом, мне это даже льстит, – хмыкнула я, прикуривая из пальцев Веры. Мы сидели на бордюре от клумбы, наблюдая за подъезжающими одноклассниками, чтобы надменно переглядываться. Нас не любил в классе буквально никто, и я их понимаю. Вдруг я приподняла брови. – Что это, чёрт возьми, такое?
– О боже, – засмеялась Вера, когда в поле нашего зрения появился задрипанный запорожец с развевающейся плёнкой вместо заднего стекла. Автомобиль лихо припарковался, и через секунду он невозмутимо хлопнул дверью, и все слова застряли у меня в глотке вместе с сигаретным дымом.
Почему я сразу становилась испуганным молчанием, дрожащим нутром, потряхивающимися от адреналина пальцами, одним невесомым стыдом, когда он смотрел на меня? Я давилась своими гадкими словами вместе с одуревшим сердцем под его прозрачным взглядом. Он выцвечивал меня как радиоактивный ренгтен, даже если этот взгляд останавливался на мне буквально на секунду. Я ненавидела эту секунду, перемалывающую мне кости.
Чтобы не смотреть на разворот широких, слегка ссутуленных плеч, на обтянутую чёрной курткой широкую спину, на острые скулы (я боялась туда смотреть, чтобы не обжечься), я смотрела с лживой брезгливостью на его машину и, не слыша своих слов, говорила Вере что-то злое. Не замечая, что она внимательно сканирует мой профиль.
Я смеялась, не слыша своего смеха.
И только стоило ему пропасть из моего пространства, я могла вдохнуть. Могла выпрямить спину и надеть на лицо издевательскую саркастичную усмешку.
Мир снова вращался правильно, пуская правильные импульсы ровного сердцебиения.
* * *
– О боже, ты видела этот потрясающий обмен слюнями? – хохотнула Вера в коридоре, когда мы уже вышли из класса. Урок литературы, на котором мы обсуждали «Ромео и Джульетту», и наши одноклассники решили продемонстрировать великую любовь поцелуями на задней парте, прошёл замечательно. Меня едва не вырвало.
– Мне кажется, Бог, создававший их, уже сам понимает, насколько убогой вышла его шутка, – сморщилась я. Вера, которую религиозная тема триггерила едва не сильнее, чем меня Ира (тоже что-то семейное), что-то пробурчала себе под нос. А я, хмурясь, продолжала размышлять. – Я не понимаю, что Маша в нём нашла – в нём же нет ни капельки мозга. Я не понимаю, как вообще можно встречаться с ровесниками. Они никчёмны.
– Не знаю, по-моему, Славка нормальный, – пожала Вера плечами, и я уставилась на неё. – Что для тебя значит «быть никчёмным» – не зарабатывать миллионы в наши семнадцать?
– Быть никчёмным – значит, и не стремиться их зарабатывать. Значит, что и через десять лет у них вряд ли получится. Потому что всё, что их интересует, – бухло и машины. Если бы я хотела найти себе мужчину, то искала бы того, кто выше меня по всем параметрам, а не того, с кем надо нянчиться, – резко выпалила я, сжав челюсти. В те годы существовало только моё мнение и неправильное.
– Хотел пригласить тебя на дэрэ – но услышал, что мы все никчёмны, и передумал, – на моё плечо легла чужая массивная рука, и я поморщилась от запаха дешёвого дезодоранта, смешанного с резким потом. Дементьев с бритой почти под ноль башкой насмешливо смотрел на меня, пока я отправила ему гневный взгляд. – Ну так что? Пояснишь за мою никчёмность, принцесса?
– Убери от меня свои вонючие руки! – прошипела я, пытаясь вырваться, но его рука только сильнее давила на мои плечи, сминала талию, прижимая к чужому боку. И внутри меня что-то тихо запищало от паники. Ему это шутка, но меня тошнило от него. И я была настолько испугана, что даже не заметила, как мои огромные глаза нашли Александра Ильича, скучающе наблюдающего за нами с диванчика. Он сидел там, ожидая ключи от кабинета.
– Дементьев, правда, отстань от неё… – Вера пыталась спасти меня, но он так зло зыркнул на неё, что она замолчала.
– Я, конечно, знал, что в тебе так много выебонов, но по-моему…
– По-моему, звонок сейчас прозвенит, а если хотите пообжиматься – то не в стенах школы, пожалуйста.
Я вздрогнула, услышав его низкий голос. Он посмотрел на меня всего раз – опять же, мимоходом, будто я сливаюсь со стеной. Будто ему неприятно смотреть на эту стену.
– Мы сами решим, где нам обжиматься, Алесандрильич, – оскалился Дементьев, пока я стояла ни жива ни мертва. Как он может так с ним разговаривать? Ему не… страшно? У него нет гудящей подобно рою пчёл в рёбрах паники?
Александр Ильич легко встаёт с места, подходит к нам. Он возвышается над Дементьевым на полторы головы, а я и вовсе упираюсь взглядом в его тёмную футболку. Он легко оттаскивает его за шкирку, откидывая как щенка. Так непринуждённо – а я с таким безумством в зрачках, застывших, будто под анестезией, ловлю его движения.
Я не успеваю проконтролировать свой мозг, который вычленяет запах его туалетной воды и которому он кажется вкусным. Ненормальный мозг.