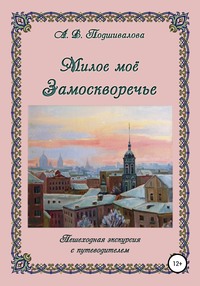Loe raamatut: «Милое моё Замоскворечье»
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА!
Предлагаемые путеводители по Москве, в первую очередь, предназначены гидам-переводчикам, экскурсоводам, туроператорам, родителям, учителям и учащимся школ – всем тем, кого интересует Первопрестольная, ее история, история ее архитектуры, поэзии и прозы. С текстами в руках вы самостоятельно можете организовать свой досуг и досуг ваших друзей, использовав всю информацию, рассчитанную на 3–4 часа, или разбив ее на части.
Главное достоинство работ заключается в том, что информация путеводителей четко соизмерима со временем маршрутов.
Автор-составитель сочтет свою цель достигнутой, если эти путеводители помогут лучше почувствовать своеобразие облика и внутреннего духа Москвы и, может быть, пробудят более глубокий интерес к ее истории.
Составитель, не желая утомлять читателя, преднамеренно избегает в описании достопримечательностей обилия статистических данных. Свою задачу он видит в создании поэтического образа вечного города с его неповторимой цветовой гаммой, богатством постоянно меняющихся панорам.
В 2008 году в издательстве «Спутник» вышли две книжки автора: «Милое мое Замоскворечье» и «Голубая лента Москвы» (более полную информацию любознательный читатель найдет в Приложениях).
Пятидесятилетний опыт работы гидом-переводчиком и экскурсоводом позволил автору составить не только тексты, но, что было особенно важно, связать их с ниткой маршрутов.
Темы предлагаемых экскурсий:
Москва – муза Б. Пастернака.
Милое мое Замоскворечье.
Москва-река.
Москва в поэзии и прозе.
Москва Сталинская.
Москва 1812 года.
По дороге в Сергиев Посад.
С уважением и благодарностью за отклики и замечания, автор-составитель А. В. Подшивалова
Начинаем экскурсию
Светлой памяти А. Н. Богословского —
литературоведа и историка
посвящаю.
Составитель данного путеводителя не ставил своей целью описание всех достопримечательностей этой заповедной части города, о них написано уже много интереснейшего материала. Автор, выбрав один из полюбившихся ему исторических маршрутов, предлагает вам познакомиться с ним. Хочется надеяться, что этот путеводитель поможет вам лучше узнать об истории этого особого мира – Заречья. Наша прогулка начнется у станции метро «Новокузнецкая» и закончится у станции метро «Третьяковская».
Милое мое Замоскворечье…1 Маршрут пройдет по Пятницкой улице, Климентовскому переулку, улицам Малая Ордынка, Большая Ордынка, затем по Большому Толмачевскому и Лаврушинскому переулкам; мы подойдем к Третьяковской галерее, к церкви Воскресения в Кадашах. По Кадашевской набережной, через Лаврушинский мост, выйдем на Болотную площадь, перейдя которую, окажемся на Софийской набережной, где полюбуемся панорамой Кремля; увидим бывшие дома купцов Харитоненко, Бахрушиных, церковь Софии Премудрости Божией. За гостиницей «Балчуг-Кемпински», свернув в Садовнический переулок, окажемся у церкви Георгия в Ендове. Перейдя Чугунный мост, вернемся на Большую Ордынку; затем познакомимся со святынями Черниговского переулка, с Куманинским подворьем и закончим прогулку по Замоскворечью у дома купца Долгова, что напротив церкви иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость».
«Если вы бывали в Москве, да не знаете таких ее частей, как например, Замоскворечье и Таганка, – вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере 2, может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою», – так начинает свои воспоминания о Замоскворечье Аполлон Григорьев 3.
И далее: «…Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатирически; кто не изображал его так?.. – Право, только ленивый!.. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон…
Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах… в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались… Вы, пожалуй, в них заблудитесь…».
Итак, погуляем и мы по Замоскворечью, пропев «Оду пешему ходу», по словам М. Цветаевой, познакомимся с архитектурными сокровищами, которые оно собирало веками.
Довольно интересен герб Заречья: широкая ярко-голубая волнообразная полоса символизирует Москву-реку, узкая полоса – Отводной канал.
Золотой цвет герба говорит о благополучии, богатстве этого уголка Москвы, зеленый – о его пышной и разнообразной растительности. На гербе крестообразно расположены: золотой бердыш – секира – основной вид вооружения стрельцов и Меркурьев жезл – символ торговли. Изображение на гербовой эмблеме атрибутов войны и мира означает, что Замоскворечье прославилось как в военное, так и в мирное время, когда замоскворецкое купечество вело здесь оживленную торговлю. Не случайно ныне в Замоскворечье находится Комитет по внешним экономическим связям и торговле Российской Федерации.
Но обратимся к истории Заречья.
Низменная равнина, расположенная на правом берегу Москвы-реки, названная Замоскворечьем или Заречьем, всегда была миром особым, не частью Москвы, а именно страной.
Первое летописное упоминание о Замоскворечье датировано 1365 г., но древние славянские поселения этих мест были известны уже в 11 веке. В 15 веке здесь появляются первые слободы, среди них – слободы стрельцов, охранявших подступы к Москве с юга. Тогда князь Василий III поселил в Замоскворечье своих телохранителей, главных стрелков, собиравших налог – «мыт» – и наблюдавших за приезжавшими в город. Большие улицы на ночь запирались рогатками, у которых ставили караул.
В 1550 г. царь Иван IV организовал русское войско стрельцов, живших вокруг Кремля и Китай-города, но большей частью в Замоскворечье, с этого времени именовавшемся Стрелецкой слободой.
Каждый стрелецкий полк имел свои цвета одежды и собственное расписное квадратное знамя. Главным оружием была пищаль, в ближнем бою применялись бердыш, копье, сабля. Полки располагали артиллерией на конной тяге, собственным оркестром из ударных и духовых инструментов.
Войско стрелецкое состояло из людей вольных, в стрельцы шли люди «не тяглые, не пашенные и не крепостные, которые были собою бодры и молоды и резвы». Это были сторожа, стоявшие в карауле в царском дворе, около казны, и сопровождавшие царя во время выездов на богомолье. «В случае пожара они должны были с топорами и ведрами, с трубами медными водопускными и с баграми выходить… на тушение пожара»4, а в свободное от службы время стрельцы занимались ремеслами, торговлей, возделывали свои замоскворецкие огороды.
С 17 века в Заречье образуются и казачьи слободы, сохранившиеся в названиях Казачьих переулков. Казачья община поддерживала Иверскую церковь на Большой Ордынке, в которую казаки передали огромное серебряное паникадило, отобранное у французских шаромыжников в 1812 году.
В 18 веке реформы Петра I заметно изменили уклад Замоскворечья. Петр, подавив стрелецкий бунт, расформировал стрелецкое войско. Часть стрельцов была казнена, другая распределена по разным полкам новой Петровской армии. Земли стрельцов были отданы военным, мелким чиновникам, ремесленникам, купцам, скупавшим за бесценок стоявшие рядом дворы стрельцов, объединяя их в огромные усадьбы.
От Кремлевского холма через пологую равнину начиналось несколько дорог. Одной из них, скорее всего, в конце 15 века стала Большая улица – ныне Пятницкая. Она более древняя, чем Большая Полянка и Большая Ордынка. Улица начиналась у Балчуга и заканчивалась у Климентовского переулка, за которым в 16–17 веках простиралось «всполье» – поле.
На пересечении с Климентовским переулком находился Ленивый рынок, где шла бойкая торговля. Ленивыми называли те рынки, где товар продавался не в торговых рядах, а сразу с возов. А потому Большую улицу назвали позднее Ленивкой.
Название «Пятницкая» улица получила позднее по церкви народной святой Параскевы Пятницы, поставленной здесь в 16 веке и перестроенной на средства купцов Журавлевых в 1748 году.
Культ Параскевы Пятницы на Руси был широко распространен и соблюдался неукоснительно. К Параскеве обращались с особыми молитвами, ей служили молебны; в церковь приносили плоды садов и огородов, а также первинку льна – все это хранилось в доме до следующего года как святыня. На городских торжищах обязательно ставилась икона Параскевы Пятницы – покровительницы торговли.
Житие святой повествует о том, что ее благочестивые родители долго были бездетными; прося Господа о разрешении их неплодства, они по обету проводили день пятницы в подвигах молитвы, поста и в делах благотворительности. Господь услышал молитву, у них родилась дочь, которую они назвали Параскевой. Случилось это чудо в пятницу, а Пятница по-гречески значит Параскева.
С юности Параскева посвятила жизнь Богу. Во времена гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане в 303–304 годах Параскеву привели к правителю области, где она жила. Он готов был окружить девушку роскошью и благами земными, если она отречется от Христа и станет его женой. Но верная христианка, решив, что «лучше в петлю, чем на ложе ненавистное мужей», отказалась и приняла мученическую смерть: ее обезглавили.
Пятницкая церковь Замоскворечья называлась также «проща», или «прощная церковь». Это означало, что в ней хранится чудотворная икона, дающая прощение грехов и исцеление. Храмовая икона св. Пятницы выносилась на Кремлевский крестный ход.
При церкви находилась и Пятницкая церковно-приходская школа для детей обоего пола; во время сноса церкви в 1934 году удалось спасти резной иконостас редкой красоты. Его перенесли в Смоленскую церковь Троице-Сергиевой Лавры.
Интересно выражение «семь пятниц на неделе». Оно связано с невыполнением обязательств, которые купцы клялись исполнить в очередную пятницу – в день ярмарки.

Церковь Параскевы Пятницы за Ленивым рынком.
В 1944 году на месте Пятницкой церкви построили станцию метро «Новокузнецкая» в форме ротонды с куполом и колоннадой.
Весной 2008 года на площади зашумел фонтан «Адам и Ева под Райским деревом»5.

Современный вид площади.
 Дом № 20 – доходный дом, построенный по последнему слову рыночного строительства начала 20 века. Позднее в начале Пятницкой улицы появились и магазины: гастрономы, бакалеи. Они располагались почти в каждом доме.
Дом № 20 – доходный дом, построенный по последнему слову рыночного строительства начала 20 века. Позднее в начале Пятницкой улицы появились и магазины: гастрономы, бакалеи. Они располагались почти в каждом доме.
По нечетной стороне за домом Смирнова – магазин «Рыба», где прилавки до Второй Мировой Войны ломились от банок с крабами, черной и красной икрой. Затем шел магазин «Нашриат». До конца нэпа это был татарский магазин, где всегда продавалась любимая татарами конина. В татарской мечети, закрытой в годы войны, помещался районный призывной пункт. На четной стороне улицы к себе зазывали магазины «Грибы – ягоды», «Овощи-фрукты».
На Пятницкой в доме № 7 до 1917 года находилась и Филипповская булочная – знаменитого Ивана Максимовича Филиппова, чей дом под номером 9 стоял напротив. На первом этаже его дома был открыт магазин известной кондитерской фирмы «Эйнем».
Булочная торговала здесь же испеченными французскими булочками, «ситным», «заварным», «чайным» хлебом, а к прилету птиц в булочной пекли и детских «жаворонков», и пасхальные куличи. Впрочем, в годы атеизма куличам было придумано другое название: «Кекс весенний». До ВОВ в Филипповской булочной можно было купить мацу.
Эту часть Пятницкой улицы называли то «Обжорным», то «Питейным рядом», то «Замоскворецким Сити».
Пятницкую улицу воспел Булат Окуджава:
Как мне нравится по Пятницкой
на машине проезжать!
Восхищения увиденным не в силах я сдержать.
Кораблями из минувшего плывут ее дома,
Будто это и не улица, а история сама…
После пожара Москвы 1812 года Пятницкая улица обустраивается богатым купечеством, чиновничеством. Дворяне здесь почти не селились.
 С этого времени на Пятницкой строятся дома в стиле Екатерининской классики и камерного, уютного Александровского ампира, хорошим примером которого служит дом № 18. Это бывшая городская усадьба «послепожарной» Москвы 1812 года, созданная архитектором Осипом Бове. Прекрасен ее фасад с лепными украшениями в форме медальонов, с портиком в шесть белых ионических полуколонн. Хорошо сохранились и пилоны въездных ворот.
С этого времени на Пятницкой строятся дома в стиле Екатерининской классики и камерного, уютного Александровского ампира, хорошим примером которого служит дом № 18. Это бывшая городская усадьба «послепожарной» Москвы 1812 года, созданная архитектором Осипом Бове. Прекрасен ее фасад с лепными украшениями в форме медальонов, с портиком в шесть белых ионических полуколонн. Хорошо сохранились и пилоны въездных ворот.
Для экономии средств и времени в то время были разработаны типовые проекты для людей разного достатка – каждый мог выбрать нужный ему вариант проекта с внесением в него своих корректировок и, если позволяли средства, то заказать и индивидуальный проект.

Пятницкая, 18.
 На втором этаже дома № 18, который с 1880 года перешел во владение храма Василия Блаженного, жил священник, духовный писатель, священномученик о. Иоанн Восторгов, служивший с 1906 года в храмах Москвы. И. Восторгов еще в 1912 году с болью в сердце говорил: «У верующих порождается непонимание, кому же и чему верить. Вырастает отчужденность от церкви, подготавливается почва для равнодушного мужицкого нигилизма»6.
На втором этаже дома № 18, который с 1880 года перешел во владение храма Василия Блаженного, жил священник, духовный писатель, священномученик о. Иоанн Восторгов, служивший с 1906 года в храмах Москвы. И. Восторгов еще в 1912 году с болью в сердце говорил: «У верующих порождается непонимание, кому же и чему верить. Вырастает отчужденность от церкви, подготавливается почва для равнодушного мужицкого нигилизма»6.
В 1913 году о. Иоанн стал настоятелем храма Василия Блаженного, а 22 мая 1918 года он принял участие в знаменитом последнем Пасхальном крестном ходе, проведенном Патриархом Тихоном на Красной площади. Обращаясь к верующим, о. Иоанн страстно говорил о грядущей Голгофе России, о необходимости по мере сил защищать Православную веру. Именно в этом доме священника вскоре арестовали, а 5 сентября расстреляли в Бутово.
Перед расстрелом о. Иоанн освящал крестным знамением мирян; этот кровавый 1918 год стал началом войны, объявленной атеистами русской церкви, когда так много и безвозвратно было
…по ветру развеяно,
Разломано, разбито, разбазарено,
Разорено, на мелочи разменяно,
Разгромлено, растоптано, раздавлено…7
На Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году о. Иоанна причислили к Лику святых.
Теперь, в год 1025-летия принятия христианства на Руси, не может не радовать сердце огромная работа по реставрации и передаче верующим памятников русской духовной жизни Замоскворечья. Подтверждением тому служит храм Св. Климента Папы Римского в Климентовском переулке, куда мы и отправимся.
Пятницкую улицу с улицей Большая Ордынка соединяет Климентовский переулок, названный по церкви Св. Климента Папы Римского.
 Задержимся на Пятницкой перед домом № 31, стр.3. Дом принадлежал купцу К. М. Матвееву, сделавшему состояние на откупах – монопольном праве на торговлю табаком: «табачный сбор был отдан на откуп во всем государстве московскому купцу Матвееву на шесть лет – за 42 391 рубль ежегодно», – писал историк С. Соловьев в «Истории России с древнейших времен»8. Право на торговлю купец получил из рук самой императрицы Елизаветы Петровны. А потому, вероятно, он – Матвеев, ставший коллежским асессором и дворянином, – и выделил огромную сумму денег на строительство храма Св. Климента Папы Римского, включая возведение колокольни и отливку его большого колокола. Годовой доход Матвеева составлял 500 000 рублей.
Задержимся на Пятницкой перед домом № 31, стр.3. Дом принадлежал купцу К. М. Матвееву, сделавшему состояние на откупах – монопольном праве на торговлю табаком: «табачный сбор был отдан на откуп во всем государстве московскому купцу Матвееву на шесть лет – за 42 391 рубль ежегодно», – писал историк С. Соловьев в «Истории России с древнейших времен»8. Право на торговлю купец получил из рук самой императрицы Елизаветы Петровны. А потому, вероятно, он – Матвеев, ставший коллежским асессором и дворянином, – и выделил огромную сумму денег на строительство храма Св. Климента Папы Римского, включая возведение колокольни и отливку его большого колокола. Годовой доход Матвеева составлял 500 000 рублей.
Матвеев владел также железорудными заводами на Урале, мануфактурами, поставлявшими сукно для русской армии. Наследники Матвеева надстроили и перестроили дом в начале 19 века в стиле ампир, дом уцелел в пожаре 1812 года и был занят позднее Пятницкой полицейской частью.
 Мы перед храмом Св. Климента Папы Римского. Историки считают, что первую церковь Св. Климента основали на этом месте иностранные купцы. Строительство здесь каменного храма связано с историей 18 века: со счастливым восшествием на отеческий престол Елизаветы Петровны, совпавшим с днем празднования памяти Св. Климента Папы Римского.
Мы перед храмом Св. Климента Папы Римского. Историки считают, что первую церковь Св. Климента основали на этом месте иностранные купцы. Строительство здесь каменного храма связано с историей 18 века: со счастливым восшествием на отеческий престол Елизаветы Петровны, совпавшим с днем празднования памяти Св. Климента Папы Римского.
Климент был тесно связан с историей русской церкви. Он был христианским Папой еще до 1054 года, т. е. до разделения Церкви на Западную и Восточную. Родившись в очень знатной римской семье в 20-х годах I века, Климент получил блестящее светское образование, особенно преуспев в философских учениях. Достигнув совершеннолетия, он покинул Рим и отправился в Святую землю, где проповедовал Христос, а потом и Его апостолы. В своих странствиях Климент встретил апостола Петра и принял от него Святое Крещение, став одним из его учеников. Будучи четвертым епископом Римским, Климент страстно проповедовал Слово Христово. В начале II века святой был изгнан императором из Рима и сослан в Инкерманские каменоломни, что в Крыму, и в 103 году был умерщвлен. По приказу императора Траяна мученика Климента вывезли на середину моря и, привязав на шею железный якорь, бросили его в пучину моря.
С именем святого Климента связаны создание первой христианской общины в Крыму на рубеже 1 и 2 вв. н. э., распространение славянской письменности в 9 веке и Крещение Руси. В домонгольский период апостол Климент считался первым небесным заступником Русской земли и очень почитался нашими предками; ему молились и ныне молятся о здравии и благополучии детей, о воссоединении семей, о возвращении воинов из походов и плена.
Мощи Климента были привезены на Русь в мраморном саркофаге князем Владимиром. Некоторое время эти мощи и крест равноапостольной княгини Ольги были первыми святынями Руси.
В Москве лишь два храма с престолами Св. Климента, Папы Римского: церковь Рождества Иоанна Предтечи на Варварке и Замоскворецкий храм, который по описи 1770 года считался в числе пяти храмов, «наилучших по всей Москве».
Как мы видим, храм украшен милым сердцу императрицы Елизаветы Петровны пятиглавием – символом соборности на Руси, символом Небесного Града.
Колокольня и трапезная, возведенные в 1756–1758 годах, соединены с храмом на одной оси по принятой в Москве схеме – «кораблем»: храм, трапезная и колокольня. И это символично, ведь церковь – тот же корабль – Ноев ковчег, спасающий верующих в море житейском, а колокольня – его «корабельная мачта».
Замысловатая ажурная ограда с вазами на столбах создана в 1957 году по уцелевшему образцу 18 века, времени, когда храм был пышен, красив и сказочно богат великолепным интерьером, насыщенным деревянной скульптурой, которая ныне с такой любовью и усердием восстановлена. О как
…нужен нам иконостаса,
В венцах и славах, горний лик,
И Матери Скорбящей лик,
И лик нерукотворный Спаса 9.
В «дни окаянные» 1933–1935 годов после закрытия церкви с колокольни с ненавистью были сброшены колокола, и она замолчала – тогда казалось, навсегда. По преданию, мракобесы закрыли храм в Великую Пятницу, т.е. на Страстной седмице. Настоятель храма протоиерей М. Ф. Голунов был арестован, но остался в живых; вернувшись в Москву из ссылки после ВОВ, этот страдалец ютился в колокольне храма. Спустя годы он стал священником церкви Всех Святых на Соколе, создав там прекрасный хор.
В марте 2002 года в храм был назначен новый настоятель – иерей Леонид Калинин, с приходом которого произошли значительные изменения. Он не только постоянно и самозабвенно вел кропотливую работу по реставрации этой жемчужины Замоскворецкой земли, главное – он созидал и созидает молитвенную жизнь: в храм стекаются верующие и те обиженные и оскорбленные, которые, страдая за неправедно прожитые годы, скорбя о невосполнимых утратах близких, пытаются найти душевное равновесие и свой путь к Господу; они приходят сюда с разных концов Москвы, и, исповедуясь, их мятущаяся душа испытывает очищение.
Как и в благостные годы в храме:
А в светлые Пасхальные дни 2009 года солнечный свет засиял на золоте крестов, вновь увенчавших купола храма.
Храм Св. Климента – один из лучших образцов стиля барокко – не имеет, как считают искусствоведы, аналогов в московском зодчестве. Стиль «Барокко» — (от итал. «причудливый, вычурный») отличается буйством красок и форм. Для него характерна пышность и динамика композиций, светотеневые контрасты, богатая пластика.
Вместо прежних устойчивых форм – круга и квадрата – в планах зданий формы овала, эллипса в сочетании с прямоугольником, трапецией.
Барокко очень эмоционален. Стиль отличается роскошными скульптурными деталями, здесь все в движении, ритме. Интенсивная окраска фасадов в синие, красные, желтые, зеленые тона является особенностью русского барокко.
Эта церковь навевает милые воспоминания о Царском Селе и Петергофе. Храм, вероятно, возведен по проекту крестника императора Петра I главным архитектором Петербурга Пьетро Антонио Трезини, сыном Доменико Трезини – строителя Петропавловской крепости.
До сих пор остается загадкой: как попал проект храма в Москву и почему он был реализован через 20 лет после отъезда Пьетро Трезини из России и только через 10 лет после смерти архитектора…

Храм Св. Климента.
 За храмом, на углу Климентовского переулка, – доходный дом конца 19 – начала 20 века под номером 9, архитектора Б. М. Великовского, строившего в Москве по 10–15 домов в год. В его мастерской стажировались братья Веснины. Арх. Великовский возвел сей дом для Афанасия Моисеевича Эберлинга, семья которого жила на 3-м этаже; 2-й этаж хозяин сдавал, на 1-м этаже находились две дорогие квартиры, на 4-м и 5-м этажах – более дешевые квартиры. Хозяин дома был человек суеверный, а потому в доме не было квартиры № 13. На чердаке под стеклянной крышей располагался Зимний сад.
За храмом, на углу Климентовского переулка, – доходный дом конца 19 – начала 20 века под номером 9, архитектора Б. М. Великовского, строившего в Москве по 10–15 домов в год. В его мастерской стажировались братья Веснины. Арх. Великовский возвел сей дом для Афанасия Моисеевича Эберлинга, семья которого жила на 3-м этаже; 2-й этаж хозяин сдавал, на 1-м этаже находились две дорогие квартиры, на 4-м и 5-м этажах – более дешевые квартиры. Хозяин дома был человек суеверный, а потому в доме не было квартиры № 13. На чердаке под стеклянной крышей располагался Зимний сад.
 Свернем налево на ул. Малая Ордынка.
Свернем налево на ул. Малая Ордынка.
Узкая, извилистая Малая Ордынка всегда была тихой и провинциальной. Она как будто бы прячется в тени своих соседей – Пятницкой и Большой Ордынки. Неравнодушные к истории города приходят на Малую Ордынку, чтобы полюбоваться многими домами и увидеть деревянный дом купцов Хомяковых № 18, построенный в 1803 году и переживший пожар 1812 года.
На Малой Ордынке находится один из литературных адресов Замоскворечья. Это дом № 9 – дом бывшего церковного причетника, где в марте 1823 года в семье титулярного советника Николая Федоровича Островского родился и до трех лет жил будущий драматург – «российский Шекспир» Александр Островский.
Напротив его дома возвышалась пятикупольная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что в «Голиках», где на четвертый день после рождения при крещении сыну родители дали имя Александр.
Семья Островского принадлежала к среде духовной, потому Александр с детства воспитывался в духе православной веры. Его мать была дочерью псаломщика и церковной просвирни, т.е. той, что выпекала просфоры.
(А. С. Пушкин советовал чаще прислушиваться к языку московских просвирен, по его мнению, именно в среде этих женщин звучит самый чистый и правильный русский язык.).
Драматург был похоронен в Щелыкове – под Костромой, в имении отца. Церковь Покрова снесена в 1928 году. Музей на Малой Ордынке в его родительском доме был открыт в 1984 году.
Именно Замоскворечье, где писатель, меняя адреса, прожил в общей сложности 20 лет, стало источником его вдохновения. Здесь, в этой замысловатой путанице переулков и тупиков, с детства он слышал особый, яркий, своеобразный, неповторимый замоскворецкий говор, речь, полную пословиц, шуток, рассказов о свято чтимых праотеческих нравах, давших темы его творчеству. В 32 из 47 пьес Островского действие происходит в Москве – в Замоскворечье.
Драматург в своих произведениях подчеркивал добродушие, патриархальность и особенное гостеприимство свой малой родины – Замоскворечья: «…нигде нет таких больших и громогласных колоколов, как у нас за Москвой-рекой, и нигде в другом месте не пекут таких пирогов, запах которых распространяется по целому кварталу…»11.
Родительский дом с мезонином на Малой Ордынке дает представление о колорите деревянных домов Замоскворечья. О звонке в дверь тогда никто и не думал. Его заменял стук в калитку, на который отзывалась собака и выходил дворник. Окна домов традиционно украшались горшками с бальзамином и геранью, дворы были обширны, со всевозможными службами и садами. Навевая по ветру сладкий запах цветов и трав, сады Замоскворечья лежали пред «очами» векового Кремля. Они славились яблонями, вишнями, грушами, малиной, красной, черной и белой смородиной, барбарисом и шиповником. Здесь сажали и черемуху, и рябину. Яблони росли на большом расстоянии друг от друга, не мешая ни зерновым, ни овощам. Сортов яблок в Замоскворечье знали множество: скрут, архат, налив – этот сорт долго хранился в погребе. Любили груши: сарские, волоские, дульные, сливные…
Почти во всех садах Замоскворечья дорожки засевались травой «барщ», которую использовали в пищу наравне с капустой, барщ квасили и на зиму.
В садах на ветках деревьев хозяева развешивали клетки с певчими птицами. Птицы пели почти в каждом замоскворецком доме. Известные птичники Соловкины поставляли любителям птичьего пения дроздов, канареек, соловьев, жаворонков, чижей, скворцов. Традиционно на Благовещенье, когда птиц отпускали на волю, их (соловьев) купали, трижды погружая в воду, закрыв при этом клюв. Клетки с птицами вешались и в столовых комнатах. Часто за трапезой хозяева поддразнивали канареек трением ножа о тарелку. В садах развешивали и клетки с попугаями, соловьями, рокетками. Но любимыми птицами все же оставалась перепелки, которых держали в красивых фаянсовых клетках.
Строили деревянные дома в Москве быстро. На рынке – это был «Лубяной торг на Трубе» – можно было купить и уже готовый дом. Рынок находился на берегу Неглинной. Купленные там и уже пронумерованные части деревянного – лубяного дома можно было быстро собрать на новом месте, как конструктор «лего».
На новоселье первыми в дом старались впустить птиц или домашних животных: кошку, петуха, курицу. В новый дом сначала вносили икону, потом квашню с тестом или хлеб-соль.
В домах на овальных столах, стоявших на видном месте, покрытых красивыми ковровыми скатертями, восседали пузатые, отполированные до блеска самовары, «у которых можно было хлебнуть чаю и пустить из трубки дым колечками». Когда чаепитие заканчивалось, то на стол подавался большой «разгонный» пряник, разделенный на мелкие квадратики. Это означало, что гостям время собираться домой. Взяв по кусочку пряника, гости, в свою очередь, говорили: «в гостях хорошо, а дома лучше». Ныне пряник заменил торт с чаем или кофе.
На пол стелили половицы, символизировавшие дорогу, – отсюда и выражение: «Скатертью дорога»… Увидеть половицу во сне означало, что дело идет к свадьбе. Выложенные деревом сосны или ели половицы приятно скрипели. По ним мужчины важно ходили в ботиночках «со скрипом», что считалось особым шиком. А дабы сапоги скрипели сильнее, под стельку насыпали сахарный песок.
С многочисленных портретов и фотографий, развешанных по стенам, смотрели родные и близкие. На портретах, а позднее на фотографиях можно было увидеть и праотца, и отца-купца в костюме времен Грозного, и его супругу, одетую по последней парижской моде, которая имела обыкновение изменять модным французским костюмам, прибавляя что-нибудь из своего замоскворецкого изобретения – цветочек или ленточку, чтобы было понаряднее.
Ходики «Кукушка» на стене точно отмеряли время, да и вся жизнь обитателей этих домов-крепостей подчинялась строгим, раз и, как казалось, навсегда заведенным правилам.
В богатых домах Замоскворечья можно было увидеть турецкие бархатные скатерти, «немецкие» зеркала, серебряную посуду, ларчики черепаховые, меха; стены обивали дорогим сукном…
«Родство играло великую роль в Москве», – пишет В. Белинский, там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву – вас сейчас же женят, и у вас будет огромное родство до 77 колена. Семейственность – характерная черта московского быта. Дружеские и кровные узы обязывали знать день рождения и именин, по крайней мере, полутораста человек, и горе вам, если вы забудете поздравить одного из них»12.
«К заключению брака здесь подходили очень серьезно, – замечал писатель И. Белоусов, – …для знакомства требовалось обязательное представление жениха родителям невесты… Для такой роли выбирался третий человек – лицо, знакомое семьям. Ведь «людей на все мирские нужды в Москве бывал большой запас».
При приглашении «посещать дом» будущий жених мог бывать с визитами у родителей девушки, но не более 7—10 раз, после чего он должен был сделать предложение о сватовстве или прекратить визиты, дабы не скомпрометировать девушку. Молодые люди по правилам приличия не могли вести долгие беседы. Обычно между молодыми велась короткая беседа за чаем, но решение о браке принимали все-таки родители.
«Я знаю тебя, Замоскворечье… и теперь еще брожу иногда по твоим улицам, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулкам», – писал Островский. Побродим и мы по Замоскворечью, чтобы поближе узнать этот «город Вязевый».
 Мы на улице Большая Ордынка. В доме № 69 родился А. Н. Радищев. В Замоскворечье жил и А. П. Чехов. Писатель вспоминал: «Квартира моя за Москвой-рекой. А здесь настоящая провинция: чисто, тихо, дешево и… глуповато»13.
Мы на улице Большая Ордынка. В доме № 69 родился А. Н. Радищев. В Замоскворечье жил и А. П. Чехов. Писатель вспоминал: «Квартира моя за Москвой-рекой. А здесь настоящая провинция: чисто, тихо, дешево и… глуповато»13.
Большая Ордынка, 43. (арх. А. П. Чагин, 1820 г.) – сильно перестроен. До 1918 года это был дом Елисеевых и Миндовских. Правление Товарищества Волжской мануфактуры – купцов Миндовских находилось на Ильинке. Купец – почетный гражданин Москвы Иван Александрович Миндовский из Замоскворечья – это купец Лопахин в пьесе «Вишневый сад». Миндовскому было 36 лет, когда он стал сказочно богат. Помимо дома на Ордынке, он имел дома на Пречистенке (арх. Кекушев), на Поварской и в Леонтьевском переулке. Скупость Ивана Миндовского стала притчей во языцех. Она граничила с душевной болезнью. Все свои грузы он перевозил компанией «Самолет», выговорив себе при этом бесплатный проезд на паровозах этой компании. Ни разу никто не видел, чтобы он брал из буфета что-либо кроме бесплатного кипятка. При себе он всегда имел мешочек с провизией.
 За домами № 30–32 вся территория с огромным садом принадлежала купцу Василию Федоровичу Аршинову (1854–1942 гг.). Он родился в Саратове; в возрасте 17 лет отправился в Москву пешком, где начал заниматься суконным делом. Через 9 лет Василий открыл уже свою суконную фабрику. Вскоре в Китай-городе появился и торговый дом «В. Аршинов и Ко», в котором Василий Аршинов занял должность директора-распорядителя. Фамилия Аршинов свидетельствовала о деятельности Василия – основателя династии торговавших материей, отмерявших свои аршины.
За домами № 30–32 вся территория с огромным садом принадлежала купцу Василию Федоровичу Аршинову (1854–1942 гг.). Он родился в Саратове; в возрасте 17 лет отправился в Москву пешком, где начал заниматься суконным делом. Через 9 лет Василий открыл уже свою суконную фабрику. Вскоре в Китай-городе появился и торговый дом «В. Аршинов и Ко», в котором Василий Аршинов занял должность директора-распорядителя. Фамилия Аршинов свидетельствовала о деятельности Василия – основателя династии торговавших материей, отмерявших свои аршины.
Не получив в юности систематических знаний, Василий Аршинов сумел дать своим двум сыновьям самое лучшее образование. Для сына Сергея, серьезно увлекавшегося музыкой, он на свои средства построил в Саратове консерваторию. Заметив увлечение сына Владимира геологией, интерес к изучению полезных ископаемых, он организует для него геологические экспедиции не только по России, но и по другим странам. Интересы Владимира привели к серьезным занятиям микроскопической петрографией, кристаллооптикой. Поступив в московский университет, Владимир стал учеником В. Вернадского. В 1905 году Владимир Аршинов создает на Большой Ордынке первый в России частый научно-исследовательский институт, назвав его по-гречески «Литогея» – «Каменная земля». Специально для его института в глубине участка Аршиновых в 1905 году архитектор Шехтель построил дом. Асимметрию этого дома подчеркивает угловая «башня», в которой первоначально размещалась астрономическая обсерватория.
Tasuta katkend on lõppenud.