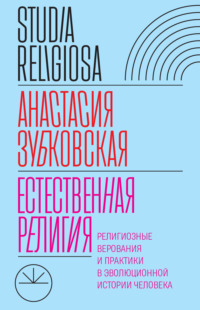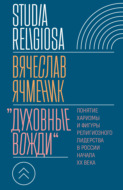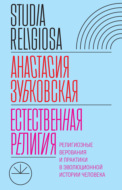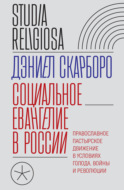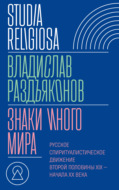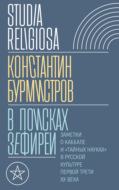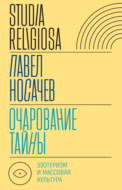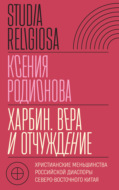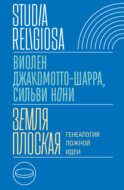Loe raamatut: «Естественная религия. Религиозные верования и практики в эволюционной истории человека»
УДК 2-1
ББК 86.202
З-91
Редактор серии С. Елагин
Анастасия Зубковская
Естественная религия: Религиозные верования и практики в эволюционной истории человека / Анастасия Зубковская. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Studia religiosa»).
Почему даже в эпоху чатботов, умных пылесосов и разговаривающих колонок религия продолжает существовать и оказывать влияние на людей, общества и государства? Книга А. Зубковской рассказывает о натуралистических теориях религии, возникших в начале XXI века. Задача этих теорий – объяснить, откуда происходит религиозность, как она трансформируется в культуре, адаптируется к новым технологиям и почему не уходит в прошлое. Культура и религия исследуются в книге как продукты эволюции человеческой психики, которые продолжают воспроизводиться и выполнять важные функции в развитии homo sapiens. Рассматривая историю естественной религии через призму современного эволюционизма, автор показывает, что человеческий разум, поведение и культура составляют наряду с биологией часть единой живой природы. Анастасия Зубковская – кандидат философских наук, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.
ISBN 978-5-4448-2813-7
© А. Зубковская, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Этические принципы исследования
Анализировать эволюционно-биологические и когнитивные теории религии нелегко, учитывая неоднозначное отношение к ним в публичной дискуссии. «Биологизаторство» и редукционизм часто порицаются даже внутри профессионального религиоведческого сообщества и в действительности в определенных случаях могут привести к неэтичным интерпретациям и, вероятно, к религиофобии.
Эта работа выполнена в соответствии с принципами толерантности и уважения к религиозному многообразию человеческой культуры, академической честности, критической ясности и обоснованности выбираемых подходов. Дискуссии и обсуждения с профессиональным сообществом, друзьями, коллегами и разными людьми, выражающими личное отношение к религии, позволили мне практиковать научную объективность, непредвзятость, ответственность и другие эпистемологические добродетели, насколько это было возможно.
Положения, изложенные в этой книге, открыты к научной, философской и богословской дискуссии.
Благодарности
Я благодарю свою научную руководительницу профессора СПбГУ доктора философских наук Марианну Михайловну Шахнович за терпеливое наставничество и аккуратное научно-педагогическое сопровождение моего диссертационного исследования, которое легло в основание этой книги. Благодарю членов диссертационного совета под председательством философа науки, профессора СПбГУ доктора философских наук Лады Владимировны Шиповаловой, участвовавших в организации и процедуре защиты моей кандидатской, за отзывы и профессиональные замечания к работе.
Отдельную благодарность хочу выразить моему другу и учителю доктору философии (PhD) в биологии Александру Борисовичу Малкину за курс по эволюции человека «Стать человеком, или Go viral», с которого в августе 2018 года начался мой профессиональный интерес к поиску естественных причин происходящего. Спасибо вам за философскую проницательность и бесценные дискуссии на субботних семинарах по антропологии.
В этой книге я значительно расширяю диссертационный материал, поэтому мне пришлось сделать кое-какие дополнительные исследовательские разыскания, чтобы ее завершить. За обсуждения и дискуссии о естественных науках, их природе и методах благодарю моего собеседника, талантливого ученого, палеоклиматолога Дмитрия Куприянова, а также наших общих друзей, с которыми мы разрушили стену между гуманитариями и «естественниками».
Большое спасибо моим любимым коллегам и замечательным руководителям из Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, мое профессиональное становление стало возможным благодаря работе и общению с вами. Благодарю также доблестных учеников, с которыми мы встречаемся на моих авторских курсах по философии вот уже пять лет. Я надеюсь, что смогла ответить на некоторые ваши вопросы в этой книге, и буду очень рада, если она послужит поводом для дальнейших поисков и размышлений.
Конечно, книга не увидела бы свет без поддержки моих родителей, подруг и друзей, которые продолжают в меня верить. Спасибо всем, кто читает меня в социальных сетях, за диалог, советы и возможность посмеяться вместе. Ваши вопросы, комментарии и размышления во многом повлияли на замысел и идею этого исследования.
Отдельную благодарность хочу выразить издательству «Новое литературное обозрение», редактору серии Studia Religiosa Сергею Елагину и всем, кто работал над изданием этой книги. Надеюсь, она найдет своих читателей.
Предисловие
В 1870 году немецкий ученый Макс Мюллер в лекции по религиоведению говорил:
В наши дни почти невозможно говорить о религии, не обидев кого-нибудь. Некоторым религия кажется слишком священным предметом для научного изучения, другие ставят ее в один ряд с алхимией и астрологией, считая, что она сплетена из ошибок и галлюцинаций, недостойных внимания ученого1.
Сто пятьдесят пять лет спустя эти слова все еще актуальны. О религии действительно чрезвычайно сложно говорить, и, наверное, это один из самых загадочных и сложных феноменов человеческой культуры.
После первой научной революции в XVII веке некоторые критики религии полагали, что с развитием и популяризацией науки и затем технологий религиозная вера исчезнет сама по себе как что-то ненужное, лишнее, своего рода атавизм, но, как оказалось, даже в эпоху чат-ботов, умных пылесосов и разговаривающих колонок религия продолжает существовать и оказывать влияние на отдельных людей, на общества, на государства. Сегодня нет ни одной культуры, которая не имела бы религиозных элементов, появившихся в универсально религиозном прошлом.
В этой книге я рассказываю о научных теориях религии, которые объясняют, откуда происходит религиозность, как она трансформируется в культуре, адаптируется к новым технологиям, почему не уходит в прошлое и как сопровождает эволюцию человечества. Научные теории религии, о которых пойдет речь, появились около 30 лет назад. Их возникновение совпадает с началом «поворотов» в науках о культуре, сближением гуманитарного и естественно-научного знания, расцветом постгуманитаристики, которая помогает ученым взглянуть на объекты исследования с разных точек зрения. В научном арсенале современных исследователей существует некоторое число методологических подходов (или «оптик»): гендерный, феминистский, когнитивный, деколониальный, постколониальный и т. д. Перспектива этой книги – натуралистическая. Религия – часть человеческой природы, которая формируется в результате биологической и культурной эволюции. Именно в таком смысле в названии использован старый просветительский термин «естественная религия» с учетом нового, более широкого понимания. Однако, прежде чем предложить вниманию читателя натуралистические теории религии, обратимся к самому понятию «религия».
Определить религию как термин невозможно, и до сих пор по этому вопросу ученые не пришли к какому-то консенсусу, – да и теперь, кажется, в этом уже нет необходимости. Обращаясь к этой проблеме, антрополог Сергей Штырков, автор книги «Религия» в серии «Азбука понятий» издательства Европейского университета, описывает конструктивистские подходы в критическом религиоведении. Конструктивизм исходит из того, что понятие религии было изобретено (сконструировано) в европейской культуре XVIII века. Так, например, антрополог Талал Асад, вдохновляясь методологией Мишеля Фуко,
указал на следующий факт: концепт религии используется в социальных науках так, будто он означает нечто самоочевидное и универсальное, однако само понятие религии является европоцентричным и христианоцентричным2.
Если обратиться к источникам древних религиозных культур, то мы действительно не обнаружим, что эти культуры сами себя называют религиозными и вообще как-либо используют это слово, так что о какой естественной религии может идти речь?
Дело в том, что конструктивистский подход безусловно ценен для критического исследования религии. Благодаря ему мы понимаем, что существует разница между тем, как понимает свое мировоззрение верующий человек, и тем, как его описывает исследователь. Однако для рассмотрения того, чем является религия по ту сторону субъект-объектных отношений, нам необходимо уловить диапазон между тем, что дано человеку от природы, и тем, что появилось в результате его социально-культурной эволюции. Я верю Эмилю Дюркгейму, когда он говорит, что ложных религий не бывает. Любая из них соотносится с реальностью и отвечает условиям человеческого существования, поэтому дело науки – обнаружить это соответствие, выявить причины, двигаясь к познанию человеческого вида и окружающего его мира.
Религия встречается повсюду. Попадая в незнакомую культурную среду, мы в большинстве процентов случаев можем идентифицировать ее религиозную составляющую безо всякого труда. Так, например, в сериале «Викинги» главные герои знакомятся с христианским Богом3, затем с мусульманским, понимая, что эти боги не похожи на Одина, Тора, Фрейра и остальных привычных им членов пантеона. Современный мир гораздо более многообразен в религиозном отношении, поэтому, приезжая в другую страну, мы понимаем, что в ней могут жить, например, и католики, и протестанты, и мусульмане, и буддисты, и последователи каких-то незнакомых нам религий. Можно бродить по улочкам незнакомого города и наткнуться на красивую старую церковь или встретить человека, одетого в религиозную одежду.
Иногда люди верят в Бога или в «высшие силы», но не соотносят себя с какой-то определенной религией. В научной терминологии они называются «религиозно неаффилированные», то есть не принадлежащие какой-то религиозной традиции, и их обычная жизнь часто не связана с какими-то религиозными ритуалами. Другие могут называть себя агностиками. Этот термин введен в научный оборот биологом и популяризатором науки Томасом Хаксли в XIX веке4 и означает, что человек не верит в Бога или богов, но и не отрицает Его/их существование, признаваясь, что это знание ему недоступно. Так, например, философа Иммануила Канта иногда называют агностиком, потому что он считал, что человеческий опыт ограничен и мы никогда не сможем получить достоверное эмпирическое знание о Боге или о том, что Его нет.
В ряду различных взглядов на религию стоит упомянуть, конечно, атеизм, то есть отрицание существования Бога. Атеизм чаще всего сопровождается антирелигиозной и антиклерикальной критикой (и довольно жесткой, как, например, у самого известного в мире атеиста Ричарда Докинза), а кроме того, он бывает разных видов (методологический, идеологический и т. д.). Поскольку атеизм – это определенное отношение к религии и, в частности, к Богу, то его тоже в некотором смысле можно назвать религиозной позицией; такая интерпретация встречается в современном религиоведении.
Вообще, в популярной культуре можно найти большое количество разных неологизмов (типа итсизм, игностицизм, апатеизм и т. д.), выражающих оттенки религиозной самоидентификации. Мне кажется, отношение к религии – довольно трудный вопрос для современного человека, и недостаточно просто подобрать нужный термин. Религия оказывается не только личным делом, а частью культуры, поэтому понять, что такое религия, охватить хотя бы издалека религиозное многообразие, осмыслить свой личный религиозный опыт (пусть даже минимальный, как, например, часто встречающееся на постсоветском пространстве «в детстве бабушка водила в церковь») очень важно.
В то время как я пишу эту книгу, моя пасхальная лента в соцсетях разделилась: одни пишут «Христос Воскресе!», другие коротко, по-светски поздравляют с праздником Пасхи, третьи просто ворчат: «Я атеист, и мне всего этого не нужно». Практически то же самое происходит на Рождество и другие крупные религиозные праздники. Люди так или иначе реагируют на религиозную культуру, выражают определенное или неопределенное личное отношение к Богу, церкви, догматам и т. д. Религия, вопреки сконструированному терминологическому обозначению, оказывается абсолютно неотъемлемым элементом человеческой культуры и никуда не исчезает. Почему?
Я попробую предложить варианты ответа на этот вопрос. Эта книга, безусловно, не претендует на исчерпывающее объяснение религии, но, как мне кажется, натуралистические теории, к которым я обращаюсь в ходе исследования, имеют высокий объяснительный потенциал. На этом пути неизбежны трудности, провалы, неудачи и приближение к самим рубежам научного объяснения, которое заставляет вернуться на несколько шагов назад. Но кое-какое расстояние уже пройдено, и современное религиоведение может пролить свет на природу предмета своего исследования.
Книга состоит из восьми глав, которые вместе образуют научно-естественный5 дискурс о религии. В первой главе я рассматриваю значение понятия «естественная религия» в европейской интеллектуальной культуре XVII, XVIII и XIX веков. Заголовок отсылает к названию работы Иммануила Канта «Религия в границах одного лишь разума»6. На мой взгляд, это очень удачное выражение, чтобы описать то, как истолковывалась естественная религия в прошлом и как она понимается сейчас в когнитивном религиоведении. В эпоху Просвещения термин «естественная религия» понимался буквально как «религия разума» и стал синонимом такого внеконфессионального течения, как деизм. О естественной религии спорили философы, теологи, публицисты и деятели культуры, некоторые противопоставляли ей «религию веры» и «религию чувства», и в конце концов религия одного лишь только разума не смогла пережить романтический поворот в культуре и расцвет эмпирических наук. В XIX столетии мало кто уже говорит о естественной религии, хотя сохраняется другой популярный концепт – естественная теология. Она становится в некотором смысле импульсом для возникновения науки о религии, но в итоге уходит на второй план, делается отдельным философским учением.
Вторая глава посвящена вопросам о том, кто такой человек и что значит быть человеком религиозным. Эта проблема во многом определяла то, как в классической науке ученые объясняли, что такое религия и откуда она происходит. По поводу природы человека происходит столкновение разных интеллектуальных сфер: науки и религии, гуманитарного и естественно-научного знания, феноменологии и антропологии и, наконец, натурализма и его противников. Здесь я постаралась дать небольшой очерк истории их взаимоотношений.
Разговор о «естественном» в современной культуре обычно начинается с «природы», «телесности», «биологии». Третья и четвертая главы посвящены поиску биологических причин религиозности – нейрофизиологических и генетических. Если религия имеет определенные физиологические эффекты и влияет на состояние человека, можно ли вызвать религиозный опыт искусственным путем? Встроена ли религия в наш мозг и в наши гены? Можно ли провести границу между религиозным и мистическим опытом? Наконец, каковы психические причины религиозных переживаний?
В пятой главе речь идет о способности человеческого разума к символизации, благодаря которой появились религия, мифология, искусство, философия и наука. Мы обратимся к вопросу о том, когда у человека появилось символическое мышление и связано ли оно с языком и ритуалом. В натуралистических теориях символизация тесно связана с социальностью человека, символы первоначально используются людьми для того, чтобы вступать в коммуникацию, и по мере эволюционного развития человеческой психики и символических систем, которые она производит, культура тоже становится сложнее. Здесь я формулирую понятие «экзоэволюция», чтобы описать особенности человеческого способа развития. Размышляя над проблемой человеческой природы, я определяю человека как homo symbolicus, или, по-другому, символическое животное.
Шестая глава посвящена абсурдным и странным религиозным представлениям. Мы вернемся к вопросу о том, почему одни люди продолжают верить в невидимых существ, в то время как другие летают в космос. В поисках ответа мы обратимся к когнитивным теориям религии, посмотрим, есть ли у человека религиозная интуиция и как с этим связана Церковь Летающего Макаронного Монстра, а также в каком возрасте возникает способность человека верить в Бога и как отличить Санта-Клауса от Зевса.
В седьмой главе рассматриваются вопросы, как происходит культурная эволюция и почему одни идеи более популярны, чем другие. В поисках ответов я обращаюсь к эпидемиологической метафоре культурного развития, согласно которой идеи, представления, образы, способы поведения передаются от человека к человеку и от группы к группе, как «ментальный вирус». Если Макс Мюллер называл мифологию «болезнью языка», то можем ли мы назвать культуру «болезнью человечества»? Здесь также речь пойдет об имитации как основном негенетическом способе передачи знаний, которым обладает не только человек, но и другие животные.
Заключительная глава подводит итог рассуждениям о естественности религии. Если религиозный опыт основан на обычной человеческой психологии, то при всей своей неординарности он, вероятно, выполняет какие-то важные функции в эволюционной истории человечества. Здесь я рассматриваю два основных подхода к оценке эволюционной роли религии, согласно которым она является либо полезной адаптацией, способствующей выживанию человеческого рода, либо побочным продуктом эволюции. Учитывая функциональную и структурную сложность религии как феномена, я попробую встать «по ту сторону» двух этих точек зрения и внести небольшой теоретический вклад в построение масштабной объяснительной модели естественной религии.
Глава 1
Естественная религия в границах одного лишь разума
О, искренность! Ты, Астрея, улетела с земли на небо, и как же вновь совлечь тебя (основу совести, стало быть, и всякой внутренней религии) оттуда к нам?
Иммануил Кант
Понятие «естественная религия» (natural religion) появилось в европейской культуре в XVII веке. Одним из первых этот термин использовал нидерландский юрист и философ Гуго Гроций – во второй части трактата «О праве войны и мира». Гроций обращается к естественной религии в связи со своей доктриной естественного права (jus naturale7), согласно которой правила поведения человека в обществе возникли естественным путем – из разума человека.
Точно так же как естественное право, в человеческом разуме находится идея Бога, вера в Его невидимость, справедливость, милосердие, и это, в общем-то, и называется естественной религией. Из нее следуют довольно простые практические выводы: каждый человек, обладая такой универсальной верой, должен повиноваться Богу, любить Его, жить согласно Его заповедям, потому что это предписано человеку самой его природой.
Естественная религия и естественное право оказываются, таким образом, взаимосвязанными, и оба имеют прежде всего социальное значение: и то и другое играет ключевую роль в построении гармоничного общества согласно принципам разума. Они универсальны для любого человека и должны стать основанием для социального устройства, чтобы способствовать общественному благу. По идее Гуго Гроция, в таком обществе невозможен атеизм8, и, более того, он должен быть наказан как бесчестье, поскольку, с точки зрения Гроция, он противоречит «жизни по природе»9.
Гуго Гроций отмечает, что автор природы, конечно, Бог, но какое Он имеет отношение к естественной религии и естественному праву, если те буквально выведены из разума? Можно ли сказать, что если человек – от природы моральное существо, то ему больше не нужна божественная поддержка? Рассуждая о независимости естественного права от Бога, он использует неосторожную двусмысленную формулировку:
…то, о чем мы только что сказали, могло бы в некотором смысле все еще иметь место, даже если бы нам пришлось признать то, чего нельзя допустить без великого греха, а именно то, что Бога не существует (etsi Deus non daretur) или что человеческие дела его не волнуют10.
Такие слова вызвали бурную полемику и критику в адрес автора со стороны общества. Следующие два столетия вопрос о том, принимает ли Бог участие в событиях человеческой жизни и истории, будет одним из самых обсуждаемых. Естественная религия становится движущей силой эмансипации человеческого разума (и человечества в целом) от божественного вмешательства в людские дела. Среди британских джентльменов распространилось внеконфессиональное религиозно-философское течение под названием деизм. Центральная идея деистов заключалась в том, что Бог не управляет этим миром, несмотря на то что Он его создатель. Более того, из этой идеи следовало, что торжественные обряды и несгибаемые догматы Богу не нужны и не интересны, подлинная религия – это религия одного лишь только разума, которая естественным образом дает человеку правила нравственности и способствует общественному благу.
В литературе часто можно встретить синонимичное употребление понятий «деизм» и «естественная религия». Один из главных представителей деизма Энтони Эшли-Купер, третий граф Шефтсберри, считал, что естественная разумная вера в Бога подкрепляется еще и тем, что все вокруг в мире свидетельствует о его замысле, то есть Бог так свидетельствует о себе11. Иначе говоря, бытие Божье очевидно для всех разумных существ. Философ Дэвид Юм в «Диалогах о естественной религии» спрашивал, так ли уж эта идея очевидна.
При рассмотрении этой очевидной и важной истины, – пишет он, – нам встречается множество темных вопросов относительно природы божественного Существа, его атрибутов, его велений и предначертаний его промысла <…> человеческий разум не пришел по отношению к ним ни к какому определенному решению12.
Юм вовсе не был противником деизма, но его идеи относительно Бога и естественной религии еще более критичны, чем деистические: он считает, что религия возникает благодаря эмоциям человека и что первоначальные религиозные представления
были вызваны не созерцанием творений природы, но заботами о житейских делах, а также теми непрестанными надеждами и страхами, которые побуждают к действию ум человека13.
Деизм вызвал массу интеллектуальных споров. Проблема концепции естественной религии состояла в том, что она провозгласила бессмысленным божественное участие в земных делах, из чего следовало, что у человека вообще не может быть никаких личных отношений с Богом. Более того, естественная разумная идея Бога не говорит ничего конкретного о нем. Тогда зачем она нужна? Деисты и их сторонники подвергались критике и получали обвинения в безбожии и бесчестье главным образом из‑за скандальных сочинений (например, критиковалась работа Г. С. Реймария «Апология, или Сочинение в защиту разумных почитателей Бога», где автор подвергает критике не только духовные власти, но и сами христианские основы: говорит, что воскресения Иисуса Христа не было и апостолы придумали эту историю, чтобы укрепить позиции новой религии14).
Термин «естественный» становится очень популярным и образует целый дискурс в эпоху Просвещения. Философы, политики, теоретики, литераторы, деятели искусства в своих произведениях и дискуссиях повсеместно обращаются к «естественному праву», «естественному состоянию», «естественному чувству», «естественному порядку», «естественной религии», «естественной теологии», «естественной истории» и т. д. Эти понятия приобретают различные смысловые оттенки в разных концепциях, и все они связаны с вопросом, кто такой человек, каково его место в природе, какие у него отношения с Богом и окружающим миром и, наконец, нужна ли ему церковь, чтобы все это выяснить.
Размышляя над этими вопросами, теологи ставят задачу очистить христианство от заблуждений, необоснованных догматических положений, вернуть его в «истинное», «искомое» состояние, туда, где сам Христос постановил, каким должно быть христианское собрание. Скорее всего, богословы не приравнивали это самое «первоначальное христианство» к идее естественной религии, но по крайней мере имели в виду, что эти два явления естественным образом следуют друг из друга. Так как Христос принес благую весть для каждого на Земле и у каждого ее жителя уже есть идея Бога в разуме, следовательно, как размышляли теологи, каждый человек способен принять Христа в своем сердце и все религии должны иметь единую общую идею или вовсе стать одним универсальным вероисповеданием для всех, иначе как естественная религия и вера в одного Бога может приводить к такому множеству догматов и ритуалов?15
Итак, естественная религия в том виде, как ее понимали европейские философы XVII–XVIII веков, заключает в себе несколько основных идей, которые образуют некоторое универсальное «ядро» любой религии, и прежде всего христианской16. Перечислю ряд ее ключевых положений: во-первых, любой человек имеет веру в высшее существо, которое является по крайней мере создателем этого мира. Вера, в свою очередь, соотносится с разумом17 человека и является достаточным основанием для того, чтобы логически доказать существование Бога, который так целесообразно и гармонично устроил все на Земле. Во-вторых, универсально представление о загробной жизни. Здесь имеется в виду, что любое вероисповедание так или иначе обращается к этой идее и нет ни одного человека, который бы не имел хотя бы надежды на посмертное существование.
Наконец, еще один характерный момент естественной религии – ее прямая связь с нравственностью. Человек от рождения знает, что праведно, а что неправедно, потому что в его душе уже содержатся эти представления, и, более того, он верит, что это выражение воли божественного законодателя. Дени Дидро начинает свое сочинение «О достаточности естественной религии» так:
Естественная религия есть творение бога или людей. <…> Если же это творение бога, я спрашиваю: с какой целью бог дал ее людям?18
По его мнению, естественная религия достаточна, так как она лучшим образом согласуется с божественным правосудием и является лучшим средством для того, чтобы люди могли выполнить свои моральные обязательства. Так и естественный закон, добавляет Дидро, наиболее сообразен с природой Бога.
Представления о морали выводятся из веры в Бога, и, наоборот, естественная религия подкрепляет нравственные убеждения. Над этим вопросом размышлял Иммануил Кант. В его философской теологии мораль предшествует идее Бога, будучи сама выводима из разума. Помните известное выражение Канта про «только моральный закон во мне и звездное небо над головой»? Если со звездным небом все вроде понятно, то внутренний моральный закон следует в Кантовой философии из того, что человек приходит к идее нравственности самостоятельно, потому что он рационально мыслящее существо. Конечно, Кант не принижает роль обучения и воспитания, даже наоборот, у него было много педагогических идей, однако все же индивиду и его априорным способностям отводится главная роль в системе его идей.
Долгое время европейцы считали, что мораль происходит из религии: заповеди предшествовали этике, из которой затем получились право и закон. Но что, если на самом деле человек одновременно и моральное, и религиозное, и правовое существо и эти моменты не следуют друг за другом, а образуют круг? Кант считал, что человек не просто принимает на веру внутренний моральный закон, он избирает его и ищет ему обоснование. Для этого человек обращается к идее такого всемогущего, всеблагого, совершенного морального законодателя и надзирателя, как Бог. Кантова религия – это прежде всего моральная религия. Естественную религию он определяет как «чисто практическое понятие разума»19, или, проще говоря, мораль, соединенную с понятиями Бога, собственной смертности и смысла жизни. Такую религию Кант и желает сделать мировой. Он пишет:
И если у всех религий есть единый принцип, то, следовательно, можно свести все многообразие верований к нему.
С другой стороны, такая рациональная моральная религия будто бы не оставляет никакого места для личной веры в Бога и отношений с ним, ведь она одинакова у всех людей, такая холодная, рассудительная, спокойная. Когда мы говорим о вере, в нашем сознании всплывают ассоциации с чем-то иррациональным, чувственным, недоказательным, необоснованным, противоположным рассудку. Поэтому, когда идет речь о Боге, то среднестатистический современный человек обычно думает, что Бог никак не может быть связан с логикой, в Него можно только верить. Однако так было не всегда. В истории философии вера почти всегда соотносилась с разумом как еще одна фундаментальная способность человеческой души. Средневековые богословы учили, что к Богу можно прийти этими обоими путями и они не могут противоречить друг другу, иначе Бога можно было бы заподозрить в том, что Он запутался, когда создавал человека и весь окружающий мир. Идея о том, что вера и разум – это два равных способа богопознания, называется концепцией двойственной истины. Она предполагает, что человек способен логически обосновать предмет своей веры, например доказать существование Бога при помощи одного лишь рассуждения. Скажем, если размышлять о том, есть ли самое совершенное существо из всех существ, живущих на планете, то это непременно должен быть Бог, потому что это слово само по себе имеет такой смысл.
Теология, основанная на познании Бога при помощи «света разума», называется естественной (theologia naturalis), рациональной (theologia rationalis) или физической (theologia physica). Очень часто в популярной культуре не различают понятий «теология» и «религия», потому что с ними действительно есть некоторая путаница. Теология обычно понимается как религиозное учение о Боге. Это часть религии, но та, которая соотносится конкретно с той ее частью, которая образует вероисповедание. Естественная религия и естественная теология в XVIII и XIX веках шли рука об руку, поскольку и то и другое – об идее Бога в разуме человека, однако их необходимо различать как некоторую данность или свойство, с одной стороны, и учение – с другой. Теология может быть философской, если использует соответствующие методы, такие как, например, логическое рассуждение; она также может быть догматической, если связана с определенным вероучением, установленным церковью, и богооткровенной, если источник ее учения – это Откровение Бога. Естественная теология располагается ближе к философской, она в общем-то и является таковой, потому что ее главный инструмент – человеческий разум.