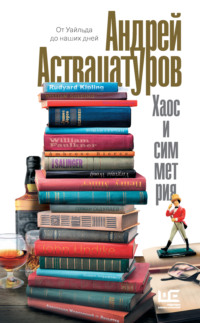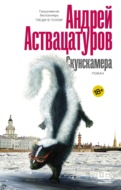Loe raamatut: «Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней»
© Аствацатуров А. А.
© Ожиганова Е. А., фото
© ООО “Издательство АСТ”
Предисловие
Игра немного напоминает науку, а наука – игру. И там, и тут есть правила, которым приходится обучаться, которым должно следовать и которые когда-нибудь нужно обязательно отбросить, если ты, конечно, задумал изобрести что-то новое и стоящее. Но ученые часто чересчур серьезны, чтобы играть и развлекаться, а “записные” игроки слишком легкомысленны, чтобы думать серьезно. Наука – на стороне запретов и неудовольствия, игра провозглашает свободу и удовольствие. Невозможно строго следовать правилам и одновременно развлекаться. Так, по крайней мере, считал Голдинг, один из персонажей этой книги. Нужно выбрать что-то одно. Кстати, персонажи самого Голдинга выбрали для себя развлечение и тут же сделались дикарями, впали в первобытное детство, где законов и предписаний оказалось еще больше, чем прежде, когда они были законопослушны.
Жизнь не наука и не игра. В ней нет правил, в ней мало веселья, зато всегда наготове парадокс. Возможно, когда-нибудь она даст нам ответ на вопрос, как совмещать правила и развлечения, не рискуя оказаться в умозрительном, вымороченном мире игры в бисер.
Моя книга ни в коей мере не претендует на то, чтобы разрешить это противоречие. В ней есть наука и есть игра. Хотя и игра, и наука в ней чаще пребывают по отдельности, нежели вместе. Возможно, читая ее, кто-то улыбнется, а кто-то найдет здесь серьезную пищу для ума. Я адресовал ее всем, кто любит литературу, кто желает не просто читать, а разбираться в прочитанном; я адресовал ее филологам и, главное, – писателям, особенно молодым, тем, кого могут заинтересовать приемы и секреты мастеров литературы прошлого и современности.
Каждое из представленных здесь эссе – разбор текста, анализ арсенала приемов и секретов, которые в нем заключены. Книга состоит из трех разделов. В первом я рассматриваю тексты писателей Великобритании, во втором – писателей США. Третий раздел, наверное, самый для меня насущный. Его я посвятил современной русской прозе. Мне показалось важным и обязательным продемонстрировать, как приемы старых мастеров перемещаются и обживаются в ситуации современной российской литературы. Я выбрал рассказы Михаила Елизарова, Романа Сенчина, Валерия Айрапетяна, металитературные виньетки Александра Жолковского, романы Андрея Иванова и Германа Садулаева. И наша современность меня не разочаровала. Я надеюсь, что российский читатель разделит со мной это ощущение, эту радость.
Великобритания
Формула конфликта
О рассказе Редьярда Киплинга “Лиспет”
Его обожали, им восхищались, ему подражали, его ненавидели. Путешественник, неистовый романтик, приземленный реалист, монархист, певец империи, демократ в искусстве, сказочник, гений, графоман, нобелевский лауреат, реформатор языка, прозаик в поэзии и поэт в прозе – за последние сто лет имя Киплинга обросло невероятным количеством эпитетов. Для англо-индийцев он был живым голосом; для британских либералов – воплощением всего самого реакционного и ненавистного; для утонченных декадентов и снобов – пошляком и грубияном; для специалистов-филологов – безусловным литературным новатором. Не получив систематического образования, он не раз поражал современников своими обширными знаниями в самых разных областях? Он написал превосходный роман “Ким” и безобразный “Отважные капитаны”. Надо заметить, и плохие, и хорошие тексты – и тех, и других в его жизни было немало – Киплинг сочинял удивительно легко. Что странно для человека, часто переживавшего душевные расстройства и не излечившего детские травмы. Жиль Делёз говорил, что с неврозами особо не попишешь. А Киплинг упрямо опровергал эту максиму. Он писал, да еще как – быстро, лихорадочно, самозабвенно, при этом нисколько не тяготясь литературной поденщиной. Напротив, в, казалось бы, рутинной журналистике он черпал силы и вдохновение. Репортерская работа – Киплинг много лет сотрудничал с газетами и журналами – лишь прибавляла жару, разжигала литературный аппетит, давала повод еще раз окунуться в реальность, щедро предоставлявшую сюжеты, факты, образы, типажи. Киплинг знал много – от мистических религий до последних открытий в естествознании, но всегда хотел знать еще больше. Безудержное любопытство влекло его в разные страны, на разные континенты и острова: Америка, Австралия, Африка. Ландшафты, горы, равнины, пустыни, саванны, города, люди, обычаи, верования, ритуалы – все проносилось перед ним.
Киплинг словно был подхвачен духом времени, внушавшим страсть к путешествиям и приключениям, тем самым духом, которым вдохновлялись его великие современники – Стивенсон, Хаггард, Конрад. Европа еще продолжала экспансию, стремясь преодолеть собственные пределы. Закрывая последние белые пятна, она осваивала удаленные земли и острова, а ее литература дарила читателям истории об отважных мореплавателях, флибустьерах, колонизаторах, открывателях новых территорий. Британия была впереди всех. Но она уже перегревалась. Покорив южные моря, подчинив земли Америки, Африки, Азии, империя начала уставать. Уже не удавалось с прежней легкостью осваивать, проглатывать лакомые куски, собирать свой гигантский пазл, который норовил рассыпаться. Тревожным симптомом перегрева стала Англо-бурская война, отвратительная, бесславная. Победа Британии обернулась чудовищным позором.
Но только не для Киплинга. Именно он стал тем, кто смог собрать рассыпавшуюся Британию. Он и был этой самой Британией – так тогда казалось многим, и ему самому в первую очередь. Однако были и другие мнения. Вирджиния Вулф, например, говорила, что Киплинг – мальчишка с игрушечным пистолетиком, выдумавший себе страну, которой на самом деле никогда не существовало. Вулф, конечно, сильно преувеличивала. Непобедимый флот, мощнейшая в мире армия, бесконечные колониальные и торговые войны, международный шпионаж – все это было более чем реальным. Но выглядело – и тут она была права – не столь убедительно и впечатляюще.
Киплинг и впрямь многое выдумывал. Трудолюбивых баронетов, отважных капитанов, солдат с их “героическими буднями”, честных чиновников, благородных колонизаторов, идиллических англо-индийцев. И так ярко, вдохновенно, что читатели невольно начинали заражаться персонажами Киплинга, превращая его выдумки в реальность. Причем это происходило не только в Британии, но даже далеко за ее пределами.
Советская Россия, разминавшая мышцы после Гражданской войны и восстанавливавшая собственные границы, любила Киплинга. Здесь ему прощали национализм, монархизм, империализм. Его цитировали, переводили, изучали. Им вдохновлялись классики советской поэзии: Эдуард Багрицкий, Николай Тихонов, Павел Коган, Владимир Луговской. В стихах Киплинга можно было с легкостью различить все императивы молодой советской страны: культ действия, героизм, демократизм, коллективизм. Бремя белых оборачивалось в советских стихах интернациональным долгом, волки, вожаки, отважные капитаны – комиссарами, идеалы империалистической экспансии – идеалами мировой революции, экзотические земли Африки и Океании – среднеазиатскими пустынями басмачей, которые нужно было покорять. Павел Коган однажды написал:
Откуда здесь Ганг, Англия, Япония? Известно откуда…
Киплинг собирал воедино готовую было рассыпаться Британскую империю. Здесь требовалось не только жадное любопытство, знание экзотических стран и обычаев, не только усилие воображения, но также спокойствие, отчужденность, холодный расчет мастера. Один из персонажей конрадовского “Сердца тьмы” говорит, что в колониальные земли нужно посылать только тех, кто не имеет свойств. То есть людей, не восприимчивых к болезням физическим и, главное, духовным, не заражающихся экзотической дикостью. Таким отчасти был сам Конрад. Таким же был и Киплинг. Необыкновенно проницательным, но в то же время внутренне отстраненным. Вовлеченным в ситуацию и одновременно остающимся вне ее. Способным передать боль, счастье, уныние, воодушевление холодной интонацией репортера. И при этом ничуть не ослаблять их силу.
Создавая персонажей, Киплинг избегал глубокого аналитического психологизма, который был свойственен его современникам, и все свое внимание, всю силу своего воображения направлял на создание внешнего облика реальности. Предметы и люди в его текстах притягивались друг к другу той силой, которая была заключена на поверхности жизни.
И все же Киплинг обладал мировидением, которое сводило воедино его многообразную, норовившую развалиться вселенную. Люди, предметы, локации были для него кубиками Большой Игры. Мир строго делился на сферы, области, общности, регулируемые единым законом жизни, который в каждой из них проявлялся по-своему и соблюдался благодаря принятым, постоянным ритуалам. Законы и ритуалы одной системы не совпадали с законами и ритуалами другой.
Эту логику Киплинг перенес на взаимоотношения Запада и Востока. Запад и Восток для него – две непересекающиеся сферы. “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут”, – произнесет он эпически в своей знаменитой “Балладе о Западе и Востоке”. Восток иррационален, пассивен, созерцателен, мистичен, погружен в язычество. Запад рационален, активен, деятелен, христианизирован. Законы и образ жизни людей Запада не подходят для Востока. Проникновение Запада в мир Востока, даже самое незначительное, нанесет Востоку непоправимое увечье. Киплинг на дух не переносил туристов, энтузиастов, ученых, бесцеремонно вторгавшихся в чужой мир, и превозносил тех, кто этот мир оберегал, колонизаторов, следивших за тем, чтобы Восток жил сообразно собственным законам. Это жертвенное служение Киплинг назвал “бремя белых” и даже сочинил по его поводу знаменитое стихотворение “White Man’s Burden”, ужасающее современных либерально мыслящих европейцев своей неполиткорректностью. Киплингу нравились те “белые”, которые неукоснительно соблюдали восточные обычаи, умели раствориться в восточном мире, мимикрировать под восточных людей, при этом, что существенно, внутренне остались людьми Запада. Именно таким выведен в ранних рассказах его любимый персонаж Стрикленд:
Он придерживался той необычной теории, что в Индии полицейский должен стараться узнать о туземцах столько, сколько они сами о себе знают. Надо сказать, что во всей Северной Индии есть только один человек, способный по своему выбору сойти за индуиста или мусульманина, чамара или факира. Туземцы от Гхор-Катхри до Джама-Масджид боятся и уважают его, а кроме того, верят, что он обладает даром превращаться в невидимку и управлять многими демонами.2
Стрикленд для Киплинга – образ не только идеального европейца, но и подлинного художника, способного к актерскому перевоплощению, существующего одновременно внутри и вне эстетической реальности.
Однако далеко не все персонажи раннего Киплинга достойно несут “бремя белых” и бремя “героизма будней”. Многие нарушают эти императивы или даже не знают о них, легкомысленно пересекая черту, отделяющую Восток от Запада. Эта тема, крайне важная для Киплинга, поддерживается определенными эстетическими решениями, которые мы попытаемся разобрать, обратившись к его хрестоматийному рассказу “Лиспет” (“Lispeth”, 1886).
* * *
Событий тут немного, но они растянуты во времени и скорее подошли бы для романа или повести, а не трехстраничного рассказа. Маленькую девочку из народа пахари родители отдают в христианскую миссию. Там ее крестят, и она получает имя Элизабет, сокращенно – Лиспет. Проходят годы, она вырастает в семнадцатилетнюю красавицу, высокую, статную, и живет в миссии то ли на правах служанки, то ли компаньонки жены капеллана. С одной из своих прогулок по горам она приносит на себе домой английского джентльмена, который находится без сознания, и объявляет, что нашла себе мужа. Джентльмена выхаживают, и, придя в сознание через две недели, он благодарит своих спасителей. Объясняет, что, видимо, сорвался со скалы, когда охотился за бабочками. Узнав о матримониальных планах Лиспет, он смеется, но жена капеллана просит его пообещать Лиспет, что он в самом деле на ней женится. Джентльмен обещает и даже совершает пешие прогулки с Лиспет. А потом прощается и уезжает, заверив ее, что скоро вернется. Разумеется, он не возвращается, и спустя время жена капеллана открывает Лиспет, что он и не собирался вернуться, а ее просто утешали. Лиспет, потрясенная обманом, обвиняет жену капеллана во лжи и покидает миссию. В эпилоге мы узнаем, что она вернулась к своему народу, вышла замуж за дровосека, который ее бил. С годами красота Лиспет поблекла, и в спившейся старухе мало кто мог уже узнать прежнюю красавицу Лиспет.
Простая “история с гор”, даже более чем простая, предстает притчей о Западе и Востоке. Персонажи здесь намеренно лишены глубины – Киплингу были нужны не противоречивые психологические герои, а скорее обобщенные функции: Лиспет – это Восток, безымянный английский джентльмен – Запад, жена капеллана – христианство в его протестантской версии. Запад, как мы видим, вторгается в мир Востока, причем непреднамеренно, из чистого любопытства, без сознательного желания его разрушить. Но тем не менее он его разрушает.
Это идеологический (политический) уровень рассказа, который поддерживается еще двумя уровнями с четко проработанными оппозициями: религиозным и жанровым. На уровне религиозном Киплинг противопоставляет мир языческий и мир христианский. Лиспет, несмотря на то что ее крестили, принадлежит языческому миру. В тексте появляется много открытых указаний на эту ее принадлежность. Рассказчик дважды именует ее “богиней” и даже сравнивает с Дианой-охотницей, всякий раз подчеркивая неуместность ее пребывания в христианской миссии:
Для уроженки тех мест она была очень высокой, и, если бы не платье из безобразного, излюбленного в миссиях набивного ситца, вы бы подумали, неожиданно встретив ее в горах, что это сама Диана вышла на охоту.3
Под стать “богине” и ее внешность: Лиспет необыкновенно красива, высока и обладает невероятной физической силой. Добавим еще одну деталь: рассказчик замечает, что у Лиспет было греческое лицо (“a Greek face”), из тех, что встречаются не в жизни, а на картинах. Русский перевод рассказа в данном случае не вполне точен (“У Лиспет было античное лицо”), но зато он открывает важный подтекст киплинговской фразы – Античность, мир языческих богов. Вот характеристики этого мира: сила, красота, любовь, правдивость.
Если Лиспет всецело связана с язычеством, то остальные персонажи (английский джентльмен, капеллан и жена капеллана) – с христианством. Здесь обнаруживаются прямо противоположные качества: запреты, физическая слабость, лукавство, рациональность. Последнее качество особенно важно. С точки зрения капеллана и его жены Лиспет ведет себя неразумно и иррационально: неразумен ее матримониальный каприз, неразумны ее обвинения в адрес христиан и неразумно ее возвращение в мир пахари, к людям, которые смотрят на нее с подозрением.
Однако неразумие поступков Лиспет лишь кажущееся. Ее поведение подчинено определенной логике, которую мы поймем, если представим себе рассказ как жанровую игру. На жанровом уровне также возникает противопоставление. Дело в том, что Лиспет и английский джентльмен принадлежат к разным жанрам. Лиспет – персонаж сказки или старинной легенды: рассказчик даже называет ее “принцесса из сказки” (“princess in fairy tales”). Зачин ее приключения (“One day, a few months after she was seventeen years old…”) типично сказочный. То, что с ней происходит в горах, – сказочное чудо: она находит молодого мужчину, который падает к ней в объятия откуда-то сверху, с горы, с неба, не иначе его ей посылают сами боги. Именно поэтому она воспринимает его как сказочного жениха. И англичанин, выполняя просьбу жены капеллана, подыгрывает Лиспет, обещая на ней жениться. Лишь в финале, не вернувшись, он обманывает ее ожидания. Англичанин – тоже заложник жанра, но другого, приключенческого романа с обязательной любовной интригой, в которой европейский путешественник попадает в экзотическую страну и вступает в любовную связь с красавицей-дикаркой. Подобная романтическая идиллия всегда, как правило, заканчивалась, возвращением в европейский мир и женитьбой на достойной европейской девушке. Романы с подобными сюжетами в те годы, когда Киплинг сочинял “Простые рассказы с гор”, заполняли периодику и были чрезвычайно популярны. Сквозь эту призму английский джентльмен прочитывает ситуацию, в которой он оказался:
Он очень смеялся и заметил, что все это весьма романтично, настоящая гималайская идиллия, но, поскольку на родине у него уже есть невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем.
Однако англичанин все же проводит время с Лиспет и даже немного флиртует с ней. Но все это он делает без особого энтузиазма, смеясь, оставаясь в границах приличий, словно нехотя выполняя возложенные на него жанровые обязательства. И здесь он напоминает Печорина, который в “Тамани”, по наблюдению Александра Жолковского, тоже играет роль романтического возлюбленного, но без особого вдохновения. И в том и в другом случае герои ошибаются, пытаясь понять ситуацию литературно. Девушка из “Тамани” – вовсе не Ундина, а сообщница контрабандиста. А Лиспет не экзотическая красавица из приключенческого романа, а принцесса из сказки или богиня из легенды.
Важно и то, что обе героини тоже, в свою очередь, ошибаются: девушка из “Тамани” видит в Печорине шпиона, а Лиспет в англичанине – жениха, посланного богами. Неверное взаимное прочтение приводит к искусственно поддерживаемой коммуникации, а затем – к неизбежному конфликту и разрыву.
Сказка, легенда, миф, как мы видим, у Киплинга погибают, столкнувшись с относительно современным жанром, с его напрочь искусственными схемами, надуманными сюжетными ходами, так же как погибает язычество, столкнувшееся с христианством, и Восток, столкнувшийся с Западом.
* * *
Простота Киплинга обманчива. Он, безусловно, новатор прозы, предлагающий неожиданные решения, сталкивающий жанры, создающий конфликтные ситуации “неузнавания”, “неверного прочтения”. И при этом важно, что в его прозе профессиональные, технические задачи идеально увязываются с задачами чисто идеологическими. Он интересен в первую очередь как великий мастер рассказа. Все остальное пусть рассудит время. Вернее, оно уже все рассудило. Той Британии, которую защищал Киплинг, уже давно нет. Европа погрузилась в комфортную летаргию и почти не пытается завоевывать новые земли. Восток оказался вполне совместим с Западом, во всяком случае, в Англии сейчас так принято говорить. Мир Киплинга и даже мир его российских подражателей канул в Лету. Но остались замечательные рассказы, романы, баллады, которые нужно читать и перечитывать.
Призрак как художник
О новелле Оскара Уайльда “Кентервильское привидение”
Новеллу Оскара Уайльда “Кентервильское привидение” (1887) знают все. Ее читают, перечитывают, над ней смеются и проливают слёзы вот уже сто тридцать лет многие поколения читателей. По ней снимали фильмы, полнометражные и мультипликационные, иногда удачные, иногда не очень. Ее брали за основу постановщики развеселых мюзиклов и детских спектаклей “по мотивам”. Ее талантливо иллюстрировали, переделывали, пересказывали в вольной форме, адаптировали для детей, включали в престижные литературные антологии. Однако читателей, режиссеров, иллюстраторов у “Кентервильского привидения” оказалось куда больше, нежели исследователей. Видимо, фабула и ее как будто нехитрая организация никогда не располагали к обстоятельным филологическим рассуждениям. А что тут, собственно, могло располагать? Обычная “история с привидением”, каковых сочинялось очень много, затасканный сюжет о том, как сама невинность в образе юной девушки спасает душу нераскаявшегося грешника, убийцы, чье привидение вот уже пятое столетие докучает обитателям старого замка. Правда, всё это не без едкой английской иронии, с разными политическими намеками, с элементами пародийной игры. Вот, пожалуй, и всё. Шутка гения. Или даже скорее сочинение талантливого, подающего надежды, но все-таки начинающего автора, пробующего себя в несвежем литературном жанре.
Впрочем, “Кентервильское привидение” хоть и сочинение раннее, но создавалось оно далеко не молодым человеком. Историй с привидениями в XIX веке было написано огромное количество, и все они благополучно канули в Лету. Кто кроме специалистов сейчас помнит о великом мастере этого жанра Шеридане Ле Фаню? А вот “Кентервильское привидение” осталось. Может, это магия уайльдовского имени? Маловероятно. Ведь эта магия не распространилась на пьесу “Вера или нигилисты”, пьесу, которую даже самые горячие поклонники Уайльда стараются не вспоминать. Мне кажется, тут дело в другом. В довольном дерзком художественном решении, которое оказалось способным оживить одряхлевший жанр.
“Кентервильское привидение” сочинялось в период, когда Уайльд был активно занят поисками собственной интонации, подбирал своим эстетическим взглядам адекватное художественное выражение. Я коротко напомню существо этих взглядов, точнее, те их стороны, которые касаются “Кентервильского привидения”.
Уайльд принадлежал к кругу эстетов, прославлявших античный гедонизм, культ тела, который он в своих сказках немного смягчил христианством, духом страдания, мученичества, искупления. Эстетическое познание Уайльд считал высшим типом познания, приравнивая тем самым искусство к религии. Заглавной ценностью познания объявлялась Красота, но не физическая, а “идеальная”, понимаемая как платоновская “идея”, неполноценно воплощенная в материальных формах, то есть в формах земной красоты. Эта Красота достигалась путем отречения человека от обыденного, земного, рассудочного, житейского, от эгоистических притязаний. Именно так просто-человек превращался в художника и созерцал тайну жизни.
В “Кентервильском привидении” призрак как раз ничего подобного не созерцает. Его взгляд застилает эгоизм, мелочные обиды. И вдобавок он – мученик знания, которое ему открывает все тайны запредельного. А вместе с ним мучаемся и мы, читатели, получающие вместо пугающих загадок, недоговоренностей, знаков ужасной судьбы, которыми интересна готическая литература, обстоятельные, занудные объяснения, бытовые подробности жизни приведения. Красоты тут нет и в помине, и призраку не под силу ее вернуть. Ему требуется помощь. Того, кто прикоснется к Красоте, кто отречется от своих интересов, кто близок к невинности и святости. Таким помощником становится юная американка Вирджиния. Она, невзирая на голос страха, покидает здешний мир и вместе с призраком уходит в мир потусторонний, совершая восхождение к Красоте. В результате ад знания, в котором пребывает призрак, рассеивается, а Красота, как Тайна, восстанавливается в своих правах. Безрассудство невинного играющего ребенка разрушает мир рассудочности.
Эстетизм подарил истории еще одну важную идею, которую Уайльд передал блестящим парадоксом: “Жизнь подражает Искусству куда более, чем Искусство следует за жизнью”. Как это? Ведь всякому здравомыслящему человеку со времен Аристотеля вполне очевидно, что именно искусство подражает жизни, а не наоборот. Тем не менее в парадоксе Уайльда есть своя логика. Художник силой воображения открывает новые горизонты, а обыденное сознание эти открытия копирует и приспосабливает к жизни. Люди, прочитав книги, посмотрев на картины, начинают видеть в окружающем мире то, что им показал художник, или же подражать литературным персонажам. А события, ситуации, в которые мы попадаем наяву, увлекают нас, потому что мы видим в них очередные версии старых сюжетов. И для писателя есть прямой смысл обратиться не к реальной жизни, которая вторична, а к оригиналу, то есть к художественному произведению. Именно так поступает Уайльд. Во всех своих текстах без исключения он использует “готовые сюжеты”, уже где-то кем-то рассказанные, и зачастую рассказанные многократно. Но они для него – лишь сырой материал, к которому следует применить живое воображение и новые решения.
В “Кентервильском привидении” таким “готовым” образцом становится готическая (фантастическая) “история с привидением” (“ghost story”). Готическую литературу, или литературу ужаса, сближало с декадентским эстетизмом недоверие к идеалам Просвещения, а кроме того – представление о нерациональности, неразумности природы, жизнеустройства, ощущение присутствия в мире странных сил, которые делают человека своей безвольной игрушкой. Эпоха расцвета английского эстетизма (1880–1890-е годы) совпала с подъемом готической литературы. Старшими современниками Уайльда были такие признанные мастера литературы ужасов, как Брэм Стокер, автор “Дракулы”, и уже упомянутый мною Шеридан Ле Фаню. Готической традиции отдавал дань и Генри Джеймс, близкий к эстетским кругам. Впрочем, надо признать, что к моменту появления Оскара Уайльда на литературной сцене готические жанры вроде “истории с привидениями” стали элементами массовой литературы. Формулы готической прозы, еще в XVIII веке не впечатлявшие разнообразием, к концу XIX века сделались и вовсе ходульными, способными увлечь разве что невзыскательных читателей, которые, к несчастью, составляли к тому моменту подавляющее большинство.
Уайльд, разумеется, иронизирует над этими приемами, слегка издевательски препарирует их. Но одновременно, и это гораздо существеннее, стремится реабилитировать устаревший жанр, вернуть его в “большую” литературу, открыть в нем новые ресурсы.
В “Кентервильском привидении” наличествуют все необходимые ингредиенты готической прозы: тайна, судьба, старинный замок, призрак, пугающий его обитателей, атмосфера ужаса, которая постепенно усиливается, гипертрофированные эмоции персонажей, добродетельная девушка, получающая вознаграждение, и т. п. Новелла начинается как типичный образец подобного рода литературы: ничего не подозревающий американский посол мистер Отис приобретает у лорда Кентервиля фамильный замок. Отиса деликатно предупреждают, что в замке творятся дурные дела, здесь видели привидение; ему намекают на старинную семейную тайну, но все напрасно: прагматичный американец не верит в чудеса. Более того, он совершает святотатство – стирает фирменным пятновыводителем кровавый след, многолетнее свидетельство страшного преступления. Уайльд создает достаточно расхожую завязку, настраивая читателя на готовую формулу “истории с привидением”: американец должен поплатиться за свое легкомыслие и погибнуть или, по крайней мере, сойти с ума. Привидение явится к нему, будет пугать, преследовать, сделает его и членов его семьи своими жертвами. Таким был бы сюжет, если бы его писал классик-виртуоз “истории с привидением”, например Ле Фаню.
Однако Уайльд обманывает ожидания читателей. У него все происходит ровно наоборот: тот, кто должен быть преследователем (призрак), сам почему-то становится жертвой, а те, кому, по идее, полагается быть жертвами (американская семья), – преследователями. Призрак обязан пугать, однако он сам оказывается напуган. Внечеловеческим, трансцендентным силам, древнему злу так и не удается отстоять свои права.
Теперь посмотрим, как постепенно, с первых страниц Уайльд запускает механизм разрушения жанра “истории с привидением”. Едва начинается история, как рассказчик тут же принимается иронически комментировать происходящее.
Многие американские дамы, покидая родину, напускают на себя страдальчески-болезненный вид, считая, что это приобщит их к европейской утонченности, однако миссис Отис не совершила подобной ошибки. Она обладала блестящим здоровьем и поистине поразительными запасами жизнерадостности. В общем, во многих отношениях она была настоящей англичанкой и являла собой прекрасный пример того, что теперь мы ничем не отличаемся от американцев, если, разумеется, не считать языка.4
Описание внешности должно быть иным: сдержанным, с подозрительными изъянами, настраивающими на тайну. Но уж никак не сатирическим. Сатира, да еще украшенная парадоксом, в начале готического текста совершенно неуместна – она нарушает общее настроение нарастающей тревоги.
Далее ирония рассказчика обращается на сами приемы готической прозы. Уайльд неожиданно открывает и обстоятельно объясняет механизмы сверхъестественного, пространство тайны, которое, согласно неписаным правилам, должно быть от читателя скрыто.
Очутившись в маленькой потайной комнате в левом крыле замка, призрак прислонился к лунному лучу, чтобы перевести дух, собраться с мыслями и обдумать создавшееся положение. Никогда еще за все триста лет его блестящей карьеры ему не наносили столь грубого оскорбления.
Рассказчик, как мы видим, делится ближайшими планами призрака, мыслями, всё растолковывает. Из-за этого важные для литературы ужаса эффекты – неожиданности и саспенса – совершенно не работают. Ироническая интонация и “обнажение” сверхъестественной реальности обозначают дистанцию между рассказчиком и его художественным миром. Читатель вслед за рассказчиком тоже дистанцируется от этого мира. А это для готической прозы плохо, потому что ее задача всегда ровно обратная – стереть границы между текстом и читателем, убедить его в реальности происходящего, заставить в конце концов испугаться. Но в “Кентервильском привидении” рассказчик преследует прямо противоположную цель – не напугать, а рассмешить.
Итак, разрушение жанра уже с первых страниц подготовлено, и тут Уайльд предпринимает весьма остроумный трюк. Он меняет механизм сюжетного развития. Вместо готического конфликта он предлагает конфликт романтический. Суть конфликта в готической прозе – столкновение земного, обычного человека с проявлением запредельных сил (призраки, привидения, злодеи, вампиры), которое его пугает и преследует и которое нужно побороть. Симпатии читателей всегда на стороне жертв. Романтический же конфликт тоже связан с идеей двоемирия, но построен он по-другому. Тут происходит столкновение земного, профанного мира и мира запредельного, понимаемого как область воображения, свободы и фантазии. Это конфликт приземленного бюргера и художника, рассудка и воображения, скучной яви и волшебного сна. Здесь симпатии полностью на стороне запредельного мира.
В “Кентервильском привидении” романтический конфликт осуществляется очень наглядно: профанный мир приземленных людей (семейство Отисов) агрессивно атакует волшебный запредельный мир (призрак), который желательно от них защитить. Готическая реальность оказывается не движущей силой конфликта, а просто декорацией. Готические “свойства” персонажа (призрака) перестают работать, зато у него появляются “свойства” романтические. Призрак выступает в роли не готического злодея, а одинокого разочарованного романтического героя, оказавшегося наподобие гофмановского Крейслера в мире нечутких обывателей. Современность побеждает древность, рассудок – воображение, буржуазность – аристократизм, ультрасовременная Америка – старую добрую Англию. Существенно, однако, что окончательной “правды” нет ни на той, ни на другой стороне. Объектом иронии становятся оба мира.