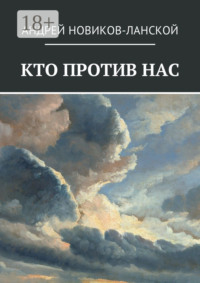Loe raamatut: «Кто против нас. Повесть-притча»
Если Бог за нас, кто против нас?
Послание к Римлянам, 8:31
© Андрей Новиков-Ланской, 2018
ISBN 978-5-4474-5600-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог первый
Глубоко под городом, в душных царицынских катакомбах, умирал раненый советский солдат.
Он был в беспамятстве и бормотал что-то неразборчивое.
Пожилая женщина в чёрных одеждах склонилась над солдатом, посмотрела в его мутные глаза и вздохнула:
«Не жилец ты, сынок… Столько крови потерял… И зачем я волокла тебя сюда?»
Она попыталась перевязать кровоточащую рану, и солдат захрипел, застонал, его бред стал чуть более внятным, и женщина разобрала слово «Мария».
А он стал задыхаться, хватать ртом сырой воздух подземелья.
Ему сделалось совсем худо, он покрылся испариной, закашлялся, и изо рта его пошла кровь.
Женщина приподняла ему голову, расстегнула ворот гимнастёрки, заметила, что нет нательного креста, и нахмурилась:
«Да крестила ли мать тебя? Не иначе, ты – коммунист… Всё равно, я тебе некрещёному не дам погибнуть. Вот только имени твоего я не знаю… Но раз Марию вспоминаешь, пусть будет тебе имя Иосиф, как у родителей Господних».
Она взяла церковную чашу, обычный медный потир, и что-то налила туда.
А потом окрестила умирающего солдата – так, как это положено делать, когда нет священника и нет времени ждать.
Пролог второй
Мингиян не был здесь c весны, и вот шесть лун спустя он снова в родной степи, снова видит знакомые холмы и курганы.
Как же хорошо было здесь, когда он только собирался в путь!
Степь пылала тюльпанами и маками, отражаясь на священной горе Богдо.
Теперь кругом лишь выцветшая трава да сухие маковые коробочки.
Уцелела ли брошенная им юрта?
Наверняка на месте, ветру её не сдуть, а чужих здесь нет, унести некому.
Мать говорила, что далеко за большой водой живёт другое племя, но он там никогда не был и никого не видел.
Конь недовольно зачихал, зафыркал, демонстративно завертел мордой, и кочевник насторожился, принюхался.
Действительно, что-то не так, другой воздух.
Ветер принёс остро солёный, копчёный запах.
Мингияну послышались едва уловимые странные звуки.
Он спрыгнул с коня, прижал ухо к земле, услышал глубокое гудение.
Всё это ему не понравилось, что-то случилось, пока его не было.
Он снова оседлал коня и поскакал дальше.
Вдруг конь дёрнулся в сторону, чуть не сбросив всадника. Мингиян мгновенно огляделся по сторонам, понял, что увидел конь – и сам оторопел, пригнулся, обхватил его шею.
Прямо на них из-за холма двигались существа страшные, прежде им невиданные. Чудовища, похожие на животных, но не животные.
Таких в природе не бывает, Мингиян – охотник, и точно это знает.
И всё же медленно, но неуклонно они двигались навстречу, не обращая внимания ни на кочевника, ни на его коня.
Преодолев оцепенение, Мингиян осторожно отъехал в сторону и внимательно всмотрелся в существ, чтобы запомнить их.
Это были огромные ходячие камни, с брёвнами вместо ног, с крыльями на голове, с двумя рогами и двумя хвостами, спереди и сзади.
За ними двигались нелепые лошади: одни с оттянутыми головами и покрытые пятнами, другие – с обычными головами, но со шкурами, изрезанными в мелкие ленты.
И такие же, с искромсанной полосами кожей, гигантские кошки – а некоторые с цельной кожей, но как будто с сухой травою, обмотанной вокруг головы.
Шествие замыкал переваливавшийся с боку на бок неохватный меховой мешок.
Когда чудища скрылись из виду, Мингиян перевёл дыхание, спрыгнул с коня, лёг в траву, стал смотреть на небо.
И увидел, как на горизонте появилась шумная птица: она стремительно летела на него, оставляя ровный след чёрного дыма.
Птица была подстрелена неведомым охотником, и жизненной силы в ней почти не осталось.
Она боролась с воздухом, барахталась в небе, крутилась всем телом, не двигая распахнутыми крыльями.
И вскоре с грохотом рухнула в степь.
Мингиян вскочил с земли, оторопь сменилась ужасом, кровь горячо застучала в животе.
Он понял, что случилось что-то непоправимое, что-то в его земле смертельно нарушилось.
Незнакомые солёные запахи, глухой шум степи, неведомые чудища, падение гулкой дымящейся птицы – всё это мучило душу тяжёлым предчувствием.
Мингиян разогнал коня и вскоре увидел юрту, изрядно потрёпанную с весны.
Порыв ветра всколыхнул кусок войлока, слабо державшийся на погнувшемся каркасе, и едва заметная тень мелькнула в щелях юрты – там кто-то был.
Мингиян тихо спрыгнул с коня, подкрался к жилищу и, преодолевая страх, заставил себя заглянуть внутрь.
Там не было ничего страшного, он увидел лишь маленького старика в чужой одежде.
На его сером лице было прозрачное и блестящее украшение.
Он сидел у холодного очага и рисовал чёрной палочкой на чём-то тонком и белом, и понять этот мелкий рисунок было невозможно.
Чужестранец вздрогнул, увидев Мингияна, потом пристально посмотрел на вошедшего и глубоко вздохнул.
Мингиян же не понимал, почему старик глядит на него так долго, но чувствовал в его взгляде ту же тревожную растерянность, что была теперь в нём самом.
*
Когда профессор Зигмунд Генрихович Гедройц понял, что молодой калмык напуган не меньше него и вроде бы не опасен, он снял пенсне, устало потёр переносицу, потом взял карандаш и принялся дописывать письмо – в Москву, в Академию наук.
В этом письме он, смотритель Сталинградского зоопарка, сообщал, что после двухнедельных поисков ему удалось обнаружить часть редких животных, сбежавших из разгромленного фашистами города.
Что животные переплыли Волгу и теперь медленно, но неуклонно движутся через калмыцкую степь к территории Казахстана.
И что хотя он будет продолжать следовать за ними, сохранить их для науки не представляется возможным, потому что скоро зима, а климат здесь резко континентальный.
В конце письма профессор Гедройц добавил, что всё это по сути неважно, поскольку вражеские войска вот-вот форсируют Волгу, и в степи вообще не останется ничего живого.
Однако, перечитав, он решил, что последняя фраза не относится к делу, и зачеркнул ее.
Глава первая
Нет в царстве перемен.
Застыла жизнь в несчастном постоянстве разрушения.
Зов к покаянию звучит, но он неслышен, ибо замкнут слух народа.
Заветы, наставления – всё забыто, в беспамятстве погибло.
Живые возомнили, что их знание превыше мудрости их предков.
Но те, чьими сердцами кормится земля, терпят и ждут, на провидение возлагая свою волю.
«Свитки»
Журналист Андрей Гедройц, милый и застенчивый человек, не был широко известен в Москве.
Он писал газетные очерки, фельетоны и рецензии, получая небольшие, но постоянные гонорары.
Гедройц вёл размеренную неторопливую жизнь, далёкую от неурядиц быта и успокоенную миром слов.
Но вот в последнее лето двадцатого века взяла его тоска: то ли подействовала особая атмосфера переломного года, то ли прежде времени наступил кризис среднего возраста, но Гедройц отяготился своим существованием.
Его повседневная жизнь была однообразна и по сути бессмысленна, она текла от завтрака к ужину, ото сна ко сну – без цели, развития и результата.
Он стал всё больше задумываться о том, что хорошо бы что-то изменить, уйти от привычного уклада жизни.
Ему захотелось совершить что-нибудь яркое – но что он мог сделать?
И коль скоро главным его умением была способность выражать мысли на бумаге, он решил, что настало время написать что-нибудь серьёзное – не фельетон, а роман – ну, или хотя бы повесть.
Тема, конечно, должна быть значительной и волнующей – эпической, героической.
«Наш народ влюблён в историю и обязательно будет читать героическую книгу», – думал Гедройц.
Решение пришло быстро: ничего более героического в родной истории, чем Сталинградская битва, он придумать не мог.
К тому же было личное отношение к этому сражению: его родной прадед, крупный ученый-биолог, работал в Сталинграде во время войны и пропал там без вести.
Андрей понял, что о Сталинградской битве и нужно писать книгу, что это его долг перед прадедом, перед семьёй – и стал собирать материал, засел за изучение военных книг, документальных и художественных.
А чем больше находил сведений, деталей, гипотез, тем меньше понимал, что же в действительности происходило тогда в Сталинграде.
Он не мог найти ответа на самый, казалось бы, очевидный вопрос: в чём была причина и смысл этой битвы?
Зачем Гитлер отвёл войска от Москвы и направил их к Каспийскому морю? – лучшие войска, бравшие до этого Париж и Варшаву.
Объяснения историков были на первый взгляд логичны, всё чётко укладывалось в стратегический план немцев, в их стремление выйти к кавказской нефти, контролировать южную часть Волги – и попутно покорить символический город имени Сталина.
Но что-то мешало Гедройцу полностью согласиться с таким толкованием: конечно, определенный смысл в нем был, но он плохо увязывался с ожесточенностью самого кровопролитного сражения в истории.
И Гитлер, и Сталин явно осознавали битву как предельную кульминацию войны – при очевидно недостаточном военно-тактическом обосновании.
Советское командование бросило все силы на осуществление оборонительной операции, русские войска самоотверженно, как что-то самое дорогое, защищали Сталинград.
Нет, что-то скрывается за всем этим, что-то сверхважное тянуло туда Гитлера, говорившего, что Москва – голова, а Сталинград – сердце России.
Немцы строили множество оборонительных сооружений, очевидно готовясь всеми силами удерживать захваченный город, а не идти дальше к нефти.
Исследуя обстоятельства битвы, Гедройц узнавал таинственные детали, которые почему-то замалчивались.
Почему немецким войскам был отдан приказ ни в коем случае не бомбить Мамаев курган, а только сбрасывать противопехотные дротики?
Почему вместе с войсками к кургану двигались мощнейшие экскаваторы, группы археологов, охраняемые элитными спецчастями СС?
Гедройц знал, что и Гитлер, и Сталин были настроены весьма мистически, а Мамаев курган, этот участок кровопролитнейших сражений, – место священное, очень древнее, там тюркские и арийские жреческие захоронения.
Гедройц раскопал удивительный факт: курган представляет собой правильную пирамиду высотой более ста метров.
Он невольно вспомнил, что древнее название Волги – река Ра, а ведь это имя египетского божества.
Потом Гедройц узнал, что неподалёку небезызвестный Батый выстроил столицу своего государства: этот обуреваемый мессианским чувством хан не решился пересечь Волгу и обосновался напротив кургана, на другом берегу.
По некоторым сведениям, здесь была столица и другого вождя, знаменитого Аттилы, сокрушавшего Рим.
Сюда через Каспий привозили для погребения персидских царей, рядом находится великая буддийская святыня – кровавая гора Богдо.
Неподалеку, в междуречье Волги и Дона, найден древнейший Храм огня, до сих пор создающий мощное геомагнитное поле.
В то же время теперь хорошо известно, насколько Гитлер был охоч до древних магических знаний и практик.
Про оккультный характер Третьего Рейха мы знаем немало: тайные общества, ордена, Туле, Аненербе, поиск арийского наследия, изучение ведического знания, тайные экспедиции в Тибет и Египет.
У историков по сей день нет единого мнения о прародине ариев, но одна из устойчивых гипотез – север Каспия, южно-русские степи, Сталинград.
Гедройц вспомнил, что название гитлеровской операции – FallBlau – переводится как «голубой поток», а в ведических жреческих текстах так называется священная река предков, купание в которой – главное таинство обретения связи и силы.
Так, может быть, там речь идет о Волге? – и ритуальное купание индусов в Ганге есть ни что иное как воспоминание о великой реке арийских предков?
Вполне вероятно, что Гитлер мыслил Сталинград как арийскую прародину, место мистического обретения силы предков и построения нового арийского мирового царства.
Не исключено, что фюрер надеялся отыскать что-то древнее и священное в катакомбах Царицына-Сталинграда.
Но ведь и Сталин, судя по всему, был посвящён в тайны этой земли и не мог позволить себе отдать это что-то.
Поэтому приказ «Ни шагу назад!» появился в Сталинграде, хотя строгой военно-тактической необходимости, на первый взгляд, не было.
Некоторые факты потрясли воображение Гедройца.
Например, он узнал, что в самые тяжкие дни обороны Сталинграда несколько почитаемых православных старцев привезли в город чудотворную икону Казанской Божьей матери, молились о спасении – и через три дня ударили жесточайшие морозы, резко изменившие военную ситуацию в пользу советских войск.
Гедройц узнал про другой образ Богоматери – так называемую Сталинградскую Мадонну – чудотворный угольный рисунок, сделанный немецким военным врачом на советской географической карте в окружении под Сталинградом.
Были любопытные сообщения о том, как животные из разгромленного сталинградского зоопарка – жирафы и тигры, медведи и косули – все вместе, дружно и невредимо ушли из полыхающего города, переплыли Волгу и ушли на восток.
Попадались совсем фантастические документы: например, рапорты немецких офицеров о наблюдаемых летательных дисках, низко зависающих над Мамаевым курганов в часы тяжелейших схваток.
Новые сведения накладывались на то, что Гедройц подспудно помнил ещё со школьных времён: он вдруг осознал, что речь идёт о том самом сражении, которое решило исход мировой войны и, следовательно, определило судьбу всего человечества.
Глава вторая
Будет казаться, что совсем нет сил терпеть творимое.
Праведные ищут живой источник благодатный силы.
Надежда теплится, но обещает мало.
Однажды словно вспыхнет огненная искра.
Многие почувствуют рост – ведь что-то сдвинулось с долгого постоя.
Это изменение заметно лишь самым чутким очам.
«Свитки»
Гедройц решил съездить в Волгоград, дабы на месте собрать побольше материала для дальнейшей работы.
И вот как-то летним вечером он сел в поезд, чтобы на следующий день быть на месте.
Он был исполнен лёгким волнением, сложным чувством предвкушения чего-то значительного и смутной тревоги.
По мере движения поезда на юг леса за окном сменялись степями, а Гедройцу снился необычный сон, цветной и яркий.
Во сне он находился в уютном доме на берегу океана, был тихий вечер, он вышел, чтоб насладиться прибрежной ночью.
Небо темнело, и взору открывался пейзаж морского побережья: поверхность вод играла зарёй, и ему показалось, что это сама вода светилась мутной краснотой изнутри.
Чей-то мягкий голос звал взглянуть вверх: у горизонта небо сияло зеленоватым холодным светом, но чем выше Гедройц поднимал глаза, тем темнее оно становилось.
Вверху же, над самой головой, оно было иссиня-чёрным – там мириады серебристых линий соединяли звёзды в созвездия.
Гедройц удивился: здесь всё так ясно, созвездья столь чётки и различимы, он узнал этот рисунок.
К другому краю бездны он обернулся: там нависали шары планет, своими размерами превосходившие августовскую Луну.
Он сразу увидел Юпитер, багровый Марс, кольцо Сатурна, дым Фаэтона и дым Венеры, и ещё одну синюю планету.
Знакомый голос продолжал:
«Сейчас начнётся движение воды на этот берег, на этот город, волны накроют твой домик, он уйдёт под воду. Но ты не бойся, дом твой крепок и надёжен. Иди к себе, закрой все двери и дождись конца прилива».
Океан и вправду начал свой гремящий штурм, и вскоре всё небо пропало под обесцветившейся водою.
Не отрывая от окон взгляда, Гедройц погружался во тьму, желая дождаться окончания морских движений – и был разбужен резким гудком встречного поезда.
Спустя несколько часов он стоял на волгоградском перроне: город встретил его мощной грозой и душистым воздухом, хотя обычно здесь летом жарко и сухо, а Волга спокойна.
Гедройцу вспомнилось, что рассказывали ему знакомые, побывавшие в Волгограде.
Они говорили, что городские жители весь день пьют пиво, а по вечерам едят жареную в масле отборную коноплю, политую фруктовым сиропом, уверяя, что это и есть настоящий рецепт халвы, столь любимой на Ближнем Востоке.
Устроившись в гостинице, Гедройц отправился на ближайший базар, ему давно хотелось попробовать настоящей, только что засоленной чёрной икры. Там он разговорился с торговцем рыбой, расспросил его о жизни, а потом сказал, что приехал разузнать про Сталинградскую битву, и вызвал неожиданное доверие к себе этим признанием.
Торговец стал более откровенен: оказалось, товар ему поставляют браконьеры, которые, кстати, помимо рыбы, занимаются раскопками, ищут на полях сражений кресты и оружие, от ножей до танков, реставрируют и продают коллекционерам.
Он предложил познакомить Гедройца с ними, и Андрей воспринял это как большую честь.
Глава третья
Правитель земли горькой водой будет заливать подымающееся пламя – в нём помеха и ущерб времени.
Новая сила будет укрепляться и становиться обозримой извне.
Счастье тем, кто внимает ей и преображается.
Да пребудет с черпающими её чистота и трезвость, дабы удержали обретённое!
Пусть они услышат святого, он произносит правдивую речь.
«Свитки»
В представлении Гедройца браконьеры были далеко не самой безопасной частью преступного мира, однако те рыбаки, к которым его привели, оказались вполне доброжелательными, выпили с ним самогону и рассказали о себе.
Живут они у самой Волги на отчуждённой и огороженной территории в купленных по случаю плацкартных вагонах.
У них есть собственные квартиры в городе, но здесь, на берегу – их территория, их владения, их поместье.
Андрей разглядел стены вагона: картинки из мужских журналов развешены в одном углу вагона, портреты русских монархов – в другом.
Попасть случайному человеку сюда трудно, подходы обтянуты колючей проволокой, кругом собаки, и милиция близко к ним не подходит.
Когда бандиты из южных краёв решили подчинить себе эту территорию, волжские браконьеры спокойно вышли на встречу с их главарём, обвешанным золотом.
Требование платить ему дань показалось им оскорбительным, и они заживо залили бандита бетоном в старой цистерне, которую скатили потом в реку.
Гедройц разговорился с двумя браконьерами: один – довольно молодой парень Иван, потомственный рыбак, сколько себя помнит, ходил с отцом в Волгу на осетра и стерлядь.
Он жалуется на калмыцких конкурентов: те ставят сети поперёк реки, перекрывают всё течение, но берут лишь ту рыбу, что могут вытащить, остальной же улов остаётся гнить в сетях.
И бороться с ними бесполезно – их же так много, и все они против нас.
Гедройца он просил прислать из Москвы литературу с описанием древнерусского боевого искусства: хочет в совершенстве его освоить.
Ведь слишком много развелось в городе инородцев с их верой, всё исконно русское истребляют, и их надо изгонять.
Ведь и они против нас.
Его подельник Миша с ним всего пару лет – он старше, но в рыбацком деле – ученик, посему ведёт себя скромно.
Миша воевал в Чечне, а теперь вытачивает замечательное холодное оружие и продаёт довольно дёшево – в Москве, конечно, за такие деньги ничего дельного не купишь.
Особенно он годится своими кинжалами, они входят в человека как в масло, сильным ударом пробивают и бронежилет.
Мастерить ножи Миша научился в чеченском плену, где и подглядел секреты этого горного ремесла: в плену его пытали, он потерял глаз, но другим видит совсем неплохо.
Гедройц слушал рассказы браконьеров и не мог понять, как эти радушные люди так спокойно, даже не без удовольствия, рассказывают о таких жестокостях – откуда такая тяга к насилию, необъяснимая и нарочитая, хотя бы и на словах?
Он спросил, правда ли, что можно откопать что-нибудь интересное в местах боевых действий?
Миша улыбнулся и положил на стол большой блестящий кинжал, и Гедройц сразу почувствовал силу, исходящую от этого оружия.
«Я его недавно на кургане откопал, у самой вершины, – объяснил Миша, – Это немецкий штык-нож. Он весь был в окаменевшей крови. Я его отмыл кислотой, лезвие заточил. Да ты не бойся, я его нашему старцу Иосифу показывал. Он сказал, что простому человеку от ножа не будет вреда, дух в нём уже вроде как не военный».
Гедройца потрясло качество изделия: проведя полвека в земле, лакированная деревянная рукоятка выглядела совсем новой.
Миша заметил восхищённый взгляд Гедройца и вдруг сказал:
«А ты, Андрюха, забирай его себе. У меня ещё есть».
Гедройц никак не ожидал такой щедрости, подумав, что, должно быть, это шутка.
«Бери, бери, в своей Москве не найдёшь такого», – Иван протянул нож Гедройцу.
Тот поблагодарил и сразу убрал подарок в портфель.
Оставив гостя одного в вагоне, браконьеры поплыли на лодке за рыбой, а Гедройц сразу достал нож и стал его разглядывать.
Он никогда прежде не держал в руках орудие убийства – возможно, не одного, а многих убийств.
Он изучил лезвие, пощупал острие, стал играть с ножом, имитировать удары, закалывать невидимых врагов.
Воображение Гедройца разыгралось, он представил себе немца, который этим самым ножом резал русских солдат.
А потом представил, как этот немец получает смертельное ранение, падает, подкошенный русской пулей, и последнее, что видит – вот этот клинок, и, умирая, прощается с ним…
Вскоре ребята прибыли с ещё живой стерлядью и тут же зажарили её —свежий шашлык из осетрины был необыкновенно хорош!
И как красиво было темнеющее небо, первые звёзды, Млечный путь, обрыв над неспокойной Волгой и отблеск далёкой грозы!
Они выпили самогону, настоянного на дубовой коре, закусили шашлыком – а потом ели арбуз.
Гроза приближалась, и Гедройц поспешил закончить трапезу, дабы не оставаться в вагончике на ночь.
Провожая, браконьеры сказали ему:
«Ты только смотри, ночью на курган не ходи один. Люди там иногда просто пропадают».
Гедройц же был навеселе, и принял предостережение за шутку.
Вернувшись в гостиницу, он прилёг отдохнуть, его склонило ко сну: свежий речной воздух и местный самогон здорово расслабили его.
Около полуночи Гедройца разбудил телефонный звонок с вопросом, не скучно ли ему спать в одиночестве, – сонный Андрей не понял, повесил трубку.
А приснился ему старый сад, где каждое дерево обильно плодоносило: яблок невиданное число тяжелило каждую ветвь, а ветви все были в цвету.
Он слышал запах жасмина и розы, на лозах видел спелый виноград, в прудах плавал лотос, вкруг сада зрели хлеба.
Он услышал женский голос:
«Я знаю, где это место! Я тебе покажу его, Андрей. Ты должен взять лодку. Этот сад там, за рекой».
Они плыли к берегу, когда встало солнце – огромное, красное, оно во все стороны разрасталось.
И вдруг разорвалось, и на всё небо явилась седая голова, и он услышал слова: «Ну, вот и ты, Андрей!» – и проснулся.
Tasuta katkend on lõppenud.