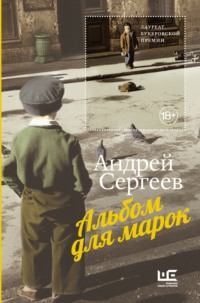Loe raamatut: «Альбом для марок»
© Сергеев А. Я., наследники
© Никеев Г. Г., фото
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Альбом для марок
Коллекция людей, вещей, отношений, слов
том первый
европа
до войны
Я лежу на мамином топчане и сквозь струганую перегородку вижу, как в моей комнате обсыпанные мукой белые люди кухонными ножами режут тугие рулоны теста. У меня воспалилась желёзка на шее. Из Малаховки приезжает на велосипеде статный хирург, которого я зову Гастрономом. Он входит ко мне с шоколадками и в один прекрасный день днем под зажженной лампочкой на столе в столовой – мама и бабушка держат меня – делает операцию.
– Сделал, как барышне. Шов такой, что никто не заметит.
Соска давно не нужна, но расставаться жалко. Папа сводит меня по насыпи, кладет соску на рельс и показывает рукой:
– Сейчас пойдет электричка.
Я гляжу в сторону Малаховки. Электричка быстро проходит. Мы снова у рельса, на нем пусто. Мне легко, что всё позади, и уже не жалко; и жутко, что так пусто.
Все надо мыть; мы моем тоненькую морковочку с грядки в помойной бочке. Вадику ничего. Мне от дизентерии доктор Николаевский прописывает белую, как простокваша, тухло-солено-сладкую микстуру. Живот болит много лет.
Анна Александровна, монашка от Тихоновых, приносит известие:
– Дети – цветы жизни выкинули доктора Николаевского из электрички. На полном ходу.
ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ написано на моей любимой маленькой вилочке. На больших – З-Д ТРУД ВАЧА. Железные ножи-вилки долго пахнут. На террасе за обедом мама/бабушка под руку предупреждают:
– Селедочный нож!
Хорошие – ложки, особенно чайные ложечки. Они серебряные, на них клеймо с Георгием Победоносцем и фамилия САЗИКОВЪ. Такой фамилии ни у кого нет.
У Авдотьи гостил мальчишка Маркслен Ангелов. Потому что его отец – болгарский революционер. Юрка Тихонов сразу не понял, переспросил:
– Марк-Твен Ангелов?
У папы на работе есть знакомый Вагап Басырович.
Меня папа хотел назвать Виктором; мама назвала в честь Андрея Болконского. В роддоме соседка презрела:
– Что такое деревенское имя дали?
Сама родила. Назвала своего Вилорий. Мама съязвила:
– Что ж вы такое церковное имя дали?
Соседка возмущена: Вилорий – Владимир Ильич Ленин Отец Революций.
У мамы душа в пятки.
Мама и бабушка всегда боятся:
– Не бери в руки – зараза!
– Не трогай кошку – вдруг она бешеная!
– Там собака – смотри, чтоб не тяпнула!
– Вон идет человек – смотри, чтоб он тебя не стукнул.
Я всматриваюсь, напрягаюсь, мокну под мышками, устаю – и спешу приткнуться к маме, бабушке, к утешительному занятию – чтобы один и в покое.
Спокойно и интересно листать разноцветные детские книжки:
Анна Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
Бегемот провалился в болото
Девочка чумазая,
Где ты ноги так измазала?
На Арбате в магазине
Зубы начали болеть
И немытый, и небритый
Человек сказал Днепру
Не завидуйте другому,
Даже если он в очках
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной
Мой знакомый крокодил
Может, снова можно драться
Значит, деду нужен бром
Уютно перерисовывать в юбилейные пушкинские тетрадки маленького Пушкина и маршала Ворошилова. Он лучше всех вождей, лучше него только Сталин, самый приятный, добрый, успокоительный – неотъемлемая часть моего детства.
– СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО – я представлял себе: низкое солнце, зима, просто стоят четырехэтажные с большими окнами – как новые школы – дома́, по широкому тротуару спокойно, не торопясь идут люди, дети тащат на веревке салазки. Все это чуть-чуть под гору.
Читать-писать меня никто не учил, все сам. В тридцать восьмом красным карандашом на первой странице нового краткого курса с нажимом вывел нестираемое ГОВНО. Папа не сразу заметил, чуть не взял на политзанятия. Пришлось нести бабушке в печку. Мне не попало, больше того, бабушка ласково:
– Домашний вредитель.
Ребята рассказывают, что в соседнем доме поймали шпиона. Он по ночам в ванной зашивал себе выше локтя под кожу военные тайны.
Взрослые говорят, что на обложках моих пушкинских тетрадок в Вещем Олеге и Лукоморье – контрреволюционное. Если в численнике перевернуть Калинина вверх ногами, получится Радек. Радек сочиняет все анекдоты, его не расстреляли – а то кто будет писать передовые статьи?
В синей красивой истории для пятого класса я нахожу на пуговице у Ленина-гимназиста четкий фашистский знак.
Барто подталкивает:
– Наш сосед Иван Петрович
Видит всё всегда не так.
Общественница из красного уголка объясняет:
– Гофмана арестовали за то, что у него нашли фотографию Троцкого.
Гофман – партизан-дальневосточник – держал за заборчиком пару немецких овчарок. Наши мамы его ненавидели: всегда лез без очереди, размахивал красной книжечкой.
Красная книжечка – взрослые произносят медленно, осторожно. Но наш дом во все горло зовут Большим домом – он самый большой в переулке: пять этажей с полуподвалом. Вокруг осевшие флигели, а наш красивый поставили в четырнадцатом году прямо на речке Капле. Когда по Капельскому идет трамвай, стекла в рамах подрагивают.
На углу Первой Мещанской была церковка Троицы-Капельки. Построил кабатчик: с согласия не доливал всем по капельке. На месте церковки пустота и лужи с ярко-красными сколами кирпичей, как у бабушки во дворе, – а вокруг пустоты серый высокий дом со 110 почтовым отделением. Со стороны Первой Мещанской – колоннада, папа ведет меня на возвышении между ребристыми колоннами. Папа восхищается совремённой Первой Мещанской, только окна в домах низкие. И еще – посередине улицы деревья чу́дные были – все срубили.
В переулке зимой человек без пальто, опухший, в очках просит у мамы двадцать копеек. Она достает рубль:
– Несчастный.
Когда мы с ней в городе, она покупает мне разрезанную круглую булку с горячей микояновской котлетой, а сама ждет.
Микояновская, по-моему, вкуснее домашней, но сказать нельзя – обидишь. И жевать на виду в булочной – как будто кто подгоняет.
Старые дамы спрашивают через прилавок:
– Франзольки у вас свежие?
На стенах домов рекламы:
Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМ
ВСЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПОРА БЫ,
КАК ВКУСНЫ И НЕЖНЫ КРАБЫ!
Вечером на брандмауэре – кино: три поросенка поют с умильным акцентом:
– Кущай больще ветчины!
В дни получки папа приносит домой двести граммов любительской колбасы, нарезанные в магазине тоненькими лепестками.
Мама отдает книгоноше Брокгауза-Ефрона, он занимал доверху все полки сбоку на мраморном подоконнике. Придя с работы, папа хватается за голову: осталась одна Малая советская, и та неполная.
Папа не вырезает из энциклопедии статьи и не заклеивает портреты.
Летом в Удельной полоумная жилица Варвара Михайловна показывала маме книжки с Тимирязевым и Сталиным:
– Посмотрите, какое благородное лицо. А этот – совсем без лба!
Папа рассказывает о делах в Тимирязевке: сослуживец доцент Дыман появляется по воскресеньям в церкви – высматривает знакомых. Поручили: партийный.
– Противный, – говорит в рифму мама.
Дымана́ наведываются к нам по нескольку раз в зиму.
Большая Екатерининская. Мы сидим на скамеечке перед печкой. Чуть растопится, дверцу скорей закрывать: перевод дровам. Смотреть на огонь увлекательно, но нельзя. Сегодня – можно.
Бабушка перебирает бархатный с золотыми застежками семейный альбом и отстригает головы от солдатских мундиров с погонами:
– Были бы лица целы!
Иногда говорит в стену:
– Садист! – Или в окно: – Сифилитик!
Я слышал, маме она вполголоса признавалась:
– В уборной попадется портрет в газете – я помну́, помну́, а все-таки переворачиваю, все-таки человеческое лицо…
Бабушка так неотъемлема, что я, унижая сверстника во дворе, как-то вознесся:
– Тебя одна мама родила, а меня – мама и бабушка!
Мне не внушают, что́ можно, чего нельзя, но я только раз безумно соврал во дворе же, что мой папа – царский генерал. Опять не попало.
В другой раз похвастался – даже понравился. Кая́нна – Клара Ивановна – наклонялась:
– Ну, Андруша, ну скажи еще раз, как сказал?
– У меня папа военный, мама военная и бабушка – военная старушка.
Формы и знаки различия завораживают – кубики, шпалы, четыре ромба со звездой, красные обшлага, нашивки на рукаве. Роскошней всего – казачьи лампасы, пронзительней – будённовские усы.
Остроконечность будёновки это военная хитрость: из окопа покажется острый кончик – его-то враг и прострелит.
В разноцветной книжке Будённый приезжает в детский сад и дает потрогать саблю и усы. Называется книжка Будённыши.
Меня привели в новую парикмахерскую ЦДКА. Я не свожу глаз с мужеподобной женщины в лётной форме. Раскова? Гризодубова? Осипенко? Маме ничего не стоит спросить. Вера Ломако. Тоже готовилась лететь Москва – Дальний Восток.
Имена моего детства:
Самолет Максим Горький – ледокол Челюскин
Отто Юльевич Шмидт – капитан Воронин
Мо́локов – Каманин – Ляпидевский – Леваневский и пр.
Чкалов – Байдуков – Беляков
Громов – Юмашев – Данилин
Раскова – Гризодубова – Осипенко
Папанин – Кренкель – Ширшов – Федоров
Бадигин – Трофимов
Самый главный – Чкалов. Моложе меня уже много Валериков. И вдруг мамы рассказывают друг другу и плачут. Чкалов, говорят, врезался в свалку. Я представляю себе черный ход, дворницкую, деревянный ларь для очисток – и из него торчит маленький самолетик.
Может быть, на него из дворницкой глазеют татары.
Татары-старьевщики кричат под окнами:
– Старьем-берем! Шурум-бурум!
Их заводят на кухню с черного хода. Ихними мешками няньки пугают маленьких.
Нянек сколько угодно. У меня когда-то была Матённа, Мария Антоновна Венедиктова, бабушкина приятельница, водила меня по церквам, могла тайно крестить. Мама/бабушка меня не крестили сознательно: вырасту, захочу – дескать, сам крещусь.
В улочках потише, по тротуарам, по пять-шесть мальчиков-девочек в ряд, тянутся группы. Старушка-руководительница разговаривает на иностранном языке.
– Я своего отдала в немецкую группу.
– Мой ходит во французскую.
– И зачем вы своего в английскую?
Я не ходил ни в какую группу. В детский сад за забором тоже.
В Удельной по переулку с деревянным ящиком на плече проходят стекольщики:
– Стюклʼ вставлять! Стюклʼ вставлять! – Или халтурщики:
– Чиним-паяем, ведра починяем!
Раз в лето объявляется Иван Иванович, отходник из Вя́лок. Лопатой на длинной ручке он вычерпывает говно из-под дома и отвозит в железной тележке к яме у ворот.
И в Удельной, и в Москве забредают тощие одноногие шарманщики: тюрлюрлю́. Одноногие они из-за своих одноногих шарманок.
Во дворах торгуют китайскими орешками. Они невкусные, отдают землей и касторкой, но если облупить и расколоть ядро – на одной половинке вверху – маленькая голова китайца с бородкой.
Бабы разносят малиновых петушков на палочке – ужас мам:
– Сплошная зараза.
В день демонстрации их много на Первой Мещанской.
Первую Мещанскую пробовали назвать Первой Гражданской, потом вернули Первую Мещанскую.
По Первой Мещанской идут люди. Высоких мало. Так мало, что не ленятся произнести длинное прозвище Дядя-достань-воробушка.
В простые дни на Первой Мещанской – телеги, сани, фургоны, лошади. Лошадей – как машин. Лошади – неинтересно, машины – разные. Обыкновенные – серые, тощие. Редко-редко посередине промчится солидная черная, лакированная, выпискивающая дискантом что-то вроде:
– Овидий!
На углу Третьей Мещанской у кооператива, у Соколова, – с лотком моссельпромщица. Ириски, тянучки, ракушки с белой или розовой начинкой, шоколадные бомбы – внутри пустые. Говорят, раньше в них были какие-нибудь замечательные маленькие вещицы. Все это дорого.
Заманчивее всего – потому что запретно – самодельные игрушки разносчиков:
Бумажный мячик с опилками на резиночке – хлопнуть по лбу соседа.
Соловей – ярко-красная деревянная втулочка со свинцовым сердечком. Нажимая, вращаешь – изводит скрипучими трелями.
Шмель – глиняный цилиндрик на веревочке и на прутике. Раскрутишь – гудит.
Уйди-уйди – напальчник на трубочке с перемычкой. Надуешь – воет, еще один ужас мам:
– Изо рта в рот, опять сплошная зараза.
Баббитовый пугач с пружиною на винте. Громко стреляет пороховыми пробками, самый большой ужас мам:
– Руку оторвет!
Чтобы победить разносчиков, на Первой Мещанской в маленьком игрушечном магазине мне покупают коробку – как спичечная, но большая: десять солдатиков и командир, раскрашенные, переложены ватой.
Солдатики прибавляются по одному – по два. На Большой Екатерининской показываю дедушке:
– Пехотинец, конник, знаменосец, трубач, пулеметчик.
Дед на бегущего в противогазе в атаку:
– Аташник.
На Капельском, пока мама готовит на кухне, я играю в солдатики на дубовом паркетном полу. Стол один – папин письменный/наш обеденный. По радио передают беседу на тему Существовал ли Гефсиманский сад?
Каждое утро в десять часов я слушаю детскую передачу:
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых чижа
Жили в квартире
Злые черные клопы.
Их морили голодом,
Их студили холодом,
Поливали кипятком,
Посыпали порошком —
и сказки, рассказы – всегда заслушаюсь, если только не:
Текст читал Николай Литвинов, – он говорит, как подлизывается, голос вкрадчивый, словно все врет.
За детской – передача для домохозяек: жены-общественницы, премированные велосипедом, девушки-хетагуровки. Песня: Уезжают девушки на Дальний Восток. Песня про героя-стрелочника:
Пусть жизнь он отдаст,
Но только не даст
Врагу разрушить путь.
Мама выключает тарелку, только когда укладывает меня спать или когда про Павлика Морозова.
В восемь часов папа слушает сводку.
Иногда радиостанция имени Коминтерна транслирует из Мадрида Но пасара́н. Все передачи хриплые, самые хриплые – из Мадрида и записанное на пленку.
Папа катает меня на метро. Дух захватывает, когда поезд идет над Москва-рекой и в окно видно Кремль с рубановыми звездами. Известно, что самая красивая станция – “Киевская”.
На ноябрьские дни папа возил меня смотреть иллюминацию и показывал на вокзале новые паровозы ИС и ФД – в лентах, как кони из книжки.
Я голосую, как большие. Папа поднимает меня, и я опускаю в урну – за Булганина.
Во дворе я – как все, хочу быть как все. Боюсь Аркашку из флигеля, заношусь над Рахитом – Рафиком из дворницкой. Катаюсь на санках, стоя скатиться с горы – слабо́. От неловкости избегаю скакать по асфальту в классы. Играю в войну, в прятки, раз играл в дочки-матери.
Только заиграешься, мама руку за шиворот:
– Как мыш, мокрый.
И без нее не легко – постоянное чувство досады (не такой быстрый и ловкий), обиды (хотя никто меня не обидел). Я напрягаюсь, с ничего устаю, до беспамятства выхожу из себя. Девочка с четвертого этажа заспорила – я ее по голове ребром железной лопатки, в кровь. Мама бегала извиняться, стыдила меня. У меня был не стыд, а ужас: что я натворил, что теперь будет?
(Верить не верить поздним маминым воспоминаниям:
– Ты все хотел дворником стать. Говорил: встану рано, лопату возьму – пойдут люди, а я им под ноги снег – швырк! швырк!)
С бидоном на кухню приходит тощая голодная молочница Нюша. Из полного бидона выливает кружку, потом вливает назад. Неполный – покачивает, бултыхая. Я выношу ей гадость – соленый огурец с вареньем. Екатерина Дмитриевна видит и говорит, что у них на Укра́ине огурцы едят с медом. Мама ничего не говорит. Папа без радости мной восхищается:
– Просто прелесть, какая гадость!
А я слышал, как Нюша шепотом маме, что к ней приезжали ее сыновья-летчики и что она их боится.
Бабушка любит лечить, мама все время лечится.
Слова моего детства: банки, горчичники, синий свет, кальцекс, аспирин, акрихин, стрептоцид, дигиталис, адонилен, сальсолин, диуретин, люминаль, папаверин, фитин, йоридонт, пурген.
Я люблю бывать в аптеке. Вокруг все неряшливо, грязновато. А в аптеке – белизна, порядок, форма – почти что красиво.
У меня постоянно болят зубы. Мама водит меня в Москве на Первую Мещанскую к Барской, в Удельной на Северную к Саланчевской. Обе пожилые, невысокие, одинаковые, обе накачивают ногой бормашину. Мама объясняет:
– Сейчас тебе в рот влетит китайская пчела. Она не кусается.
Скарлатина. Районный врач приговаривает: в больницу, – и уходит. Мама в ужасе: кто знает, что они там в больнице с ним сделают? Бабушка – сама служит в больнице – распоряжается:
– Приедут – скажешь, уже увезли.
В высоком черном такси меня перевозят на Большую Екатерининскую.
Как-то один-единственный раз меня посетил свой, домашний, доктор. Заставил поприседать, послушал, как трещат коленки:
– Гнилушка ты, гнилушка, прямо тебя на помойку.
В Удельной я не такая гнилушка – там спокойнее, больше один.
Под вечер спадает жара, находит стих бегать. Несусь от колодца к воротам, обратно шагаю, загораживаясь рукой: слепит солнце.
Часто со мной гуляет папа. В Москве он приходит поздно.
Папа не боится, что кошка вдруг бешеная, что собака тяпнет, что человек может стукнуть. Проходит рядом с лошадью и коровой и не боится, что лошадь брыкнет, а корова на рог подцепит.
Папины анекдоты:
– Старушка молится в церкви. Вдруг замечает что-то белое, круглое. А поднять неудобно. Старушка встала на колени, не глядит, рукой потянулась: – Тьфу ты, прости меня, Господи, думала двугривенный, а это плевок.
– Барышню приглашают танцевать, а она все отказывается. Кавалер спрашивает: – Отчего вы не танцуете? – КОгда я тОнцую, тОгда я пОтею, а кОгда я пОтею, тОгда я вОняю.
Я требую чего-нибудь интересного. Папа рассказывает про папу римского. Я не унимаюсь:
– Папа в Риме, а где мама?
– Мама? В Париже. Папа римский и мама парижская.
Я заказываю про шпионов. Папа про них ничего не знает. Рассказывает про Соньку-Золотую-Ручку и Нат-Пинкертона. За речкой, в Чудакове, показывает облупившийся барский дом:
– У меня был маленький револьвер-бульдог. Я ждал обыска и положил его на балку между бревнами и обшивкой, он и свалился – со второго этажа. До сих пор, должно быть, лежит.
Я поднимаю с земли железное грубо-тонкое повторение ломика.
– Фомка, – узнает папа и объясняет, что́ это, для кого и зачем.
– Удельная – земли Удельного ведомства. Красково – красть кого. Малаховка – малая аховка, там было спокойнее. Однажды в студеную зимнюю пору разбойники напали на сани, а кучер наставил на них копченую колбасу, закричал: Убью! – они и разбежались. Бывает, бывает, колбаса стреляет. В мирное время в Удельной от станции до Чудакова конка ходила. Богатые дачи были. Старуху Клепикову бандиты убили зимой, она одна оставалась. Она им не открыла, они подожгли.
Мама просыпается под утро: скрипнула рама, кто-то хотел влезть. Спящим жулики прижимают к лицу тряпки с хлороформом.
Бабушка привезла на всякий случай свисток: на соседней даче услышат и прибегут.
Идти со станции поздно – опасно. Чаще всего раздевают в ольшанике перед Новой Малаховкой, за новым мостиком, где два китайца утонули.
Два китайца утонули – из наших с папой прогулок. Они учились в КУТВе и пьяные пошли вброд.
Суховольский, папин знакомый – он старше папы, – тоже помнит китайцев, посмеивается: в самом мелком месте. Он в косоворотке, подпоясан кавказским шнурком, в галифе и тапочках. Приглашает к себе в Быко́во:
– У меня фисгармония! Я вам Бортнянского сыграю! Это такая музыка – стены плачут!
От Суховольского:
– Лакримоза!
Милиционер – один и на станции.
Иногда по Интернациональной важно проходит – грудь, как бочка, – невысокий в новой диагоналевой форме. Мамы глядят ему в спину:
– НКВД.
Вспоминают:
– У Козьей бабушки жил Вацетис. Каждое утро делал гимнастику и обливался холодной водой.
Володька, младший брат нашего дачника Саши, забирает у мамы Дни Шульгина:
– Вас еще за нее посадят.
– Возьмите, – говорит мама, а когда он уходит: – Поганец!
В выходной в компании дачников Володька рассказывает, что слово керосин произошло от фирмы Керо и сын – она первая им торговала. Все великие люди – евреи: Колумб, Кромвель, Наполеон, Карл Маркс. Гитлер тоже еврей.
После обеда летники и дачники собираются на верандах вокруг патефона. Годами готовятся, откладывают, обговаривают – и покупают театральный бинокль, термос, патефон.
Пластинки, в общем, у всех одинаковые.
Из сознательности – Все выше, Марш-велотур, Марш водолазов, Машину ведет комсомолец-пилот.
Из образованности – Шаляпин.
По пристрастию – у кого Лемешев, у кого Козловский. Лемешисты воюют с Козловским отчаянно и безнадежно.
Для души – Козин или цыганское.
Для компании – Утесов и заграничные танго, фокстроты, румбы. Пластинки – не заграничные, все до единой – Ногинский или Апрелевский завод.
В компании танцуют. Папа не танцует. Мама умеет вальс. Мне сказали, что варламовская Свит-Су – китайская музыка, и я танцую в углу террасы фокустрот по-китайски, с поднятыми указательными пальцами.
Патефонная музыка не та, что по радио. Там оперы, хор Пятницкого, хор Александрова, песни советских композиторов, фантазии на темы песен советских композиторов, песни о Сталине.
Радиомузыка увлекает куда меньше, чем патефонная.
И все же за долгие годы включенной трансляции я уловил, полюбил, запомнил такое, чего недоставало в самой жизни, – яркое, экзотическое:
Секстет Глинки
Тореадор, смелее в бой
Тореадор и андалузка
Кукарача
Тиритомба
Мадрид, ай-ай-а
Я все время напеваю: говорят, у меня слух. Бабушка, мама, папа хотят учить меня музыке.
Это значит, на пианино. В музыкальной школе на пианино не принимают, там евреи на скрипке учатся: в случае чего скрипку под мышку и побежал.
Сумасшедшая тетка Вера на своей прямострунке ФОЙГТ никогда не играла. Прямострунку отвергли, скорее всего, из щепетильности. В начале тридцать девятого бабушка отыскала, папа купил хороший недорогой ОФФЕНБАХЕР. Недорогой: пять тысяч! Понятно, откуда такие деньги – папа только получил за книжку. Непонятно, как высокий, большой инструмент влез в наши тринадцать метров.
Я тычу пальцами в клавиши. Думаю, каждая клавиша – буква; если знать слова, по клавишам можно набрать любую песню.
Бабушкин знакомый учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц уже очень старый. Незнакомая учительница принесла Гедике, заставила постучать карандашом по деке, подложила под меня тома Малой советской и убила насчет клавиш-букв. Я, рассерженный, ей в спину:
– До свиданья, Маланья!
Попало.
В трамвае мама разговорилась с серьезненькой девочкой лет восьми: папка с лирой.
– Я учусь у Любовь Николавны Ба́совой, лучше ее никого нет.
На Пушкинской площади в доме Горчакова у Любови Николаевны Басовой занимаются одаренные дети:
– После этого сфорцандо Мильчик интуитивно взял педаль…
Я не одаренный. За пианино кнутом не загонишь, калачом не заманишь. Хожу с невыученными уроками – как раздетый. Маюсь.
На патефоне или по радио слушать было полегче. Даже последние известия интересней, чем зубрежка на пианино. Я раскрываю газету. Дедушка читает Известию, я – Правду, как папа. Уже знаю, что и про что пишут. Привыкаю. И вдруг – на переднем месте насупленный Гитлер, поодаль наш Молотов. Во дворе из красного уголка выходит общественница:
– Теперь нельзя ругаться фашистом.
Наступает пора изумления.
Папин сослуживец, молодой дядя Володя, – чуть ли не единственный, кого с радостью приглашают на Капельский, – рассказывает, что в Западной Белоруссии и Литве не радовались Красной армии:
– Стояли и плакали.
Он привез мне 30 копеек/2 злотых 1835 года и 20 сентов со скачущим рыцарем.
Эстонские кроны с ладьей – как золотые.
В магазинах полно латвийских конфет – шоколади фабрику Лайма. Клара Ивановна переводит. С отвычки сначала читает Лайма как Сайма, хозяйство.
– Лайма, ну, это счастье.
Конфеты в сто раз вкуснее, чем Красный Октябрь, а таких красивых фантиков у нас просто не бывает. А какие коробки с папиросами!
Взрослые говорят:
– Откуда у них табак? Торфом, наверное, набивают…
В последний день финской войны, после перемирия, под Выборгом убили папина брата Федора.
Вернувшиеся изумляются злобности финнов:
– Кукушка сидит на дереве, стреляет до последнего патрона.
– Медсестра наклонилась над раненым финном, а он в нее нож!
По радио, в газетах никогда: финская армия, финские солдаты. Только: банды, бандиты, в лучшем случае: шюцкоровцы, лахтари.
Первый Огонек за сороковой год: Красная армия по просьбе рабоче-крестьянского правительства Финляндии помогает трудовому народу прогнать помещиков и капиталистов.
Из Риги вернулся дачник Саша – изумляется злобности латышей:
– Они же нас ненавидят! Бреюсь у парикмахера и боюсь, что он перережет мне горло.
Саша вывез из Латвии много особенного: полосатые трусики с костяной пряжкой для Леньки, яркие платья и кофточки для своей Дуси и Володькиной Надьки, чайник со свистком, никелированную немецкую зажигалку с пастушком, точилку для карандашей в виде хорошенького автомобильчика.
Автомобильчик вскоре переезжает в мои за́видные вещи. В латунной – внутри шелк – коробке от духов Билитис (Ралле, Моску) – расписная жестяночка с китаянками из-под царского чая, стальной американский футлярчик для десятка лезвий Жилле́т, перламутровый кошелечек, полированная мраморная пластиночка, раздвижной серебряный перстенек с рубином, любимый бабушкин брелок с зеленой лягушкой и незабудкой, кавказский кувшинчик с узорной эмалью – тоже брелок, медный жетон в пользу беженцев, образок святой преподобной Ксении без ушка.
Дедушкины подарки – старинная копейка-чешуйка, петровская гривня, елизаветинский пятачок с орлом в облаках, пробитые екатерининские гривенники.
Все это редкостное – ни у кого нет. Я хочу, хочу того, чего нет ни у кого. Это красивое – красивое встречается так редко…
Ве́рхом французского придворного изящества кажется мне головка в окне парикмахерской: черты тонкие, легкие, таких черт на улице, у гражданок, не бывает.
Красивые – ярко-алые кровавые плевки на снегу. Красивый – голубой лев и единорог на унитазе. Красивые ордена и значки. Красивые цари в книге и на марках. Последний царь – Николай Третий.
Марки у меня в большой – с гроссбух – нелинованной грубой зеленой тетради. Мама их налепила по порядку: на первом листе Англия с Викториями и Георгами, на втором – Франция со Свободами, потом Италия, Германия с Лессингами и Лейбницами и дальше, с Запада на Восток.
Сначала мама приклеивала марки за уголок синдетиконом, они быстро промокали, уголок темнел. Посмотрела, как у Юрки Тихонова, и стала сажать марки на ножках. Удивительно, если всмотреться в самые некрасивые марки, всегда увидишь, что на самом деле они все равно красивые.
Сын дачника Саши Ленька не любит красивое, он даже не знает, красивое это или некрасивое. И вообще он здорово не такой, как я.
Каждое лето с папиной помощью я горожу в углу участка из старых досок дом с дверью на ремешках и со щеколдой. На крыше – обрывки толя, перед окошком – самодельный стол.
Как-то мама и Сашина Дуся усадили нас с Ленькой туда – обедать. Он так чавкал и перемазался, что я от омерзения стукнул его и убежал. Он оскорбил мои чувства.
Назавтра я накормил его заячной капустой и козьими орешками. Я делал вид, что ем сам, он жадничал и вырывал изо рта. Когда у него заболел живот, он сказал. Саша тронуть меня не отважился, но маме посетовал:
– Вы такой чудный человек, Евгения Ивановна, и откуда у вас сын-садист?
Совесть меня не мучила, наоборот:
Ленька-Шпонька говночист
Едет на тележке,
А из жопы у него
Сыпятся орешки!
Ленькиного дедушку зовут Леон Абрамович, бабушку Мария Ефимовна. Мама сомневается:
– Какая Мария! Матля, наверно.
Матля нараспев читает Леньке:
Сьома долго не́ бил дома,
Отдыхал в А́ртеке Сьома…
Про Артек она не дослышала, про Арктику передают все время. Она ощипывает петуха и с тоскливой замедленностью выводит:
Он щёол наа Одеессу, он виищел в Херсоону,
В зесааду пепаался отраад.
Нелеево зестаава, мехноовци непрааво,
И дьеесять остаалось гренаат…
До этого у нас жили Юра и Боря, чуть постарше меня. Боря сердечно мне нравился, и я назвал его услышанным от бабушки/мамы словом “сердечник”. Под его влиянием – не бывало ни до, ни после – я увлекся природой. Целыми днями мы пропадали в Со́сенках – особом месте в конце участка над речкой, где ничего не вскопано, ничего не посажено, и растет только трава, сосны и сосенки. Мы поедали щавель, кочетки и дикую горчицу. В Сосенках или возле купальни ловили траурниц, махаонов, огромных стрекоз и тоненьких коралловых и бирюзовых стрекозок, били коричневых и брали в руки зеленых лягушек.
Лягушки прыгали в воду. Над водой стоял разбирающийся – сустав в сустав – хвощ. Под водой волшебно росли водоросли и мелькали мальки. На воде тяжело лежали кувшинки. По воде на собственных круглых следах, как на коньках, бегали водомерки. Из воды торчали коряги. В голову не приходило, что все это тоже красивое.
Нет выше блаженства, чем босиком, проваливаясь по щиколотку, ходить по теплому покачивающемуся болоту и глазеть во все стороны. Детский рай – возле речки.
Купались не с берега, а из купальни. Ее каждое лето строили папа и дядя Иван. Мне разрешалось при взрослых спуститься спиной вперед по лесенке и окунуться. Вода была перегретая и не освежала.
Купальню разбирали после августовского олень в воду нассал.
Мамин двоюродный брат, дядя Игорь, курсант, прогнулся на лесенке, показал десну и выпустил из-под воды пузыри.
Он загадал загадку: как пишется – шЕколад или шИколад, щЕкатурка или щИкатурка? Отвечать я засовестился.
От Игоря я перенял песни рязанского артиллерийского училища:
Для защиты свободы и мира
Есть гранаты, готова шрапнель…
Через поля и реки
Шел боевой отряд.
Здравствуй, родной навеки
Наш белорусский брат.
Шляхта в бою разбита…
Боря был праздником – один раз. Каждое лето моим лучшим другом и утешением был тихоновский дачник заика Вадик, отсталый. Мы сикали с ним через забор, забирались на высокие яблони и распевали:
На рыбалке у реки
Потерял старик портки
Тореадор объелся помидор
Самолет летит
Мотор работает
Комсомолец сидит
Картошку лопает.
Удобно дразнить:
А в нем Ленька сидит
Картошку лопает.
Все любимое у нас – неприличное. Песня:
Цыпленок жареный, цыпленок пареный
Пошел по улице гулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
А он заплакал, в штаны накакал
И стал бумажечку искать.
Бумаги нету – давай газету,
И стал он жопу вытирать.
Зимой мы с мамой и папой ездили на Усачевку к Варваре Михайловне. У нее был толстый альбом неприличных немецких открыток, по три на каждой странице:
два мальчика сидят на горшках
мальчик и девочка сидят на горшках
кавалер и барышня сидят на горшках спиной друг к другу