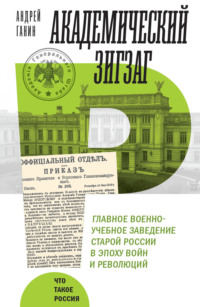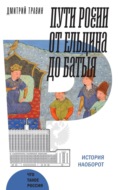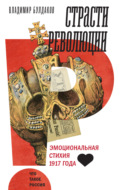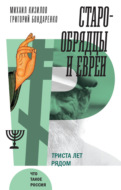Loe raamatut: «Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций»
УДК [378.6:355](091)(47)«1914/1922»
ББК 68.439г(2)61
Г19
Редактор серии Д. Споров
Рецензенты: Я. В. Леонтьев, д. и. н., проф. МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий специалист РГАСПИ; Е. П. Серапионова, д. и. н., зав. отделом Института славяноведения РАН
Утверждено к печати Ученым советом Института славяноведения РАН (Протокол № 5 заседания Ученого совета ФГБУН Института славяноведения РАН от 01.10.2024)
Андрей Ганин
Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций / Андрей Ганин. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Что такое Россия»).
Период 1914–1922 годов стал последним и самым драматичным в истории главного высшего военно-учебного заведения старой России – Императорской Николаевской военной академии. В Первую мировую войну она в ускоренном порядке готовила кадры Генерального штаба, а затем оказалась втянута в острейшее внутриполитическое противоборство. Представители академии участвовали в революционных событиях и в создании Красной армии, тайно формировали подпольные антибольшевистские ячейки, пытались спасти царскую семью и свергнуть советскую власть на Урале. В ходе Гражданской войны академия перешла на сторону белых, а ее руководители сыграли заметную роль в омском перевороте, приведшем к власти адмирала А. В. Колчака. Прослеживая судьбу академии на материалах многих российских и зарубежных архивов, автор пытается понять мотивы преподавателей и слушателей, оказавшихся между красными и белыми и предлагает по-новому взглянуть на историю Гражданской войны в целом. Андрей Ганин – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, автор более 750 научных трудов по истории России и сопредельных государств первой четверти ХX века.
В оформлении обложки использованы фрагменты следующих изображений: Фото здания Николаевской академии Генерального штаба и памятник погибшим выпускникам академии. Санкт-Петербург. Архив Ю. М. Строева; Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака № 206 от 20 октября 1919 г. о реабилитации А. И. Андогского. Газета «Русская армия» от 2 октября 1919 г. (№ 228); Оттиск печати академии. 1922 г.
ISBN 978-5-4448-2826-7
© А. Ганин, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Мирославе
Введение
Николаевской академии Генерального штаба, главной военной академии старой России, история отвела символичный, но непродолжительный временной отрезок. Основанная в ноябре 1832 года в Санкт-Петербурге, она под разными наименованиями1 просуществовала ровно 90 лет – до ноября 1922-го. И хотя крушение старой России не привело к упразднению академии, все же эпоха войн и революций, в которую страна вошла в 1914 году, знаменовала завершение ее истории. Об этом драматичном времени в жизни академии, а также о людях, связавших с ней свою судьбу, и пойдет речь.
Академия была подлинной кузницей кадров военной элиты дореволюционной России. Слушатели получали основательную подготовку, исследовали все области военного управления, совершенствовали знание иностранных языков, углубленно изучали военную историю. Через горнило этого высшего военно-учебного заведения прошли тысячи офицеров. Некоторые стали выдающимися военными и государственными деятелями, внесли существенный вклад в развитие отечественной науки и культуры. Имена П. Н. Врангеля, А. И. Деникина, М. И. Драгомирова, А. Н. Куропаткина, Д. А. Милютина, Н. Н. Обручева, Н. М. Пржевальского, А. А. Свечина, М. Д. Скобелева, А. Е. Снесарева, М. Г. Черняева, Б. М. Шапошникова, Н. Н. Юденича навечно вписаны в историю нашей страны.
Куда менее известна основная масса генштабистов, составлявших «черное войско» – так из‑за цвета приборного сукна в Русской императорской армии иронично именовали корпус офицеров Генерального штаба. Однако именно они были проводниками военных знаний, инициаторами и исполнителями военных реформ, руководителями армии, ответственными за ее успехи и неудачи. И готовила эти кадры академия. Гражданская война была тем периодом российской истории, в который такие понятия, как страна и режим, отождествлялись друг с другом в наименьшей степени. Возникновение множества политических режимов позволило академии в сложных условиях нащупывать оптимальный способ выживания, как бы двигаясь зигзагом. Именно это сравнение из дневника генерала В. Г. Болдырева наиболее точно отражает особенности поведения академии в то непростое время и вынесено в название книги. Выпускники академии встали у руля противоборствующих армий Гражданской войны. Роль генштабистов была столь впечатляющей для современников, что видный антибольшевистский политический деятель Н. И. Астров даже писал генералу А. И. Деникину в 1920‑е годы: «Офицеры Генерального штаба поделили Россию на белую и красную и вели на ней поединок…» При всей эмоциональности этого высказывания в нем есть и зерно истины. Выпускниками Николаевской академии Генерального штаба были почти все основоположники Белой борьбы, вожди Белого движения, командующие важнейшими белыми фронтами и армиями: М. В. Алексеев, В. Г. Болдырев, С. Н. Войцеховский, П. Н. Врангель, Н. А. Галкин, А. И. Деникин, М. К. Дитерихс, М. Г. Дроздовский, А. И. Дутов, А. М. Каледин, В. О. Каппель, Л. Г. Корнилов, П. Н. Краснов, С. Л. Марков, Е. К. Миллер, К. В. Сахаров, Н. Н. Юденич.
У руля Красной армии стояли их однокашники М. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Вацетис, А. И. Геккер, С. С. Каменев, А. И. Корк, Ф. В. Костяев, В. С. Лазаревич, П. П. Лебедев, Д. Н. Надежный, Ф. Ф. Новицкий, Н. Н. Петин, С. А. Пугачев, Н. И. Раттэль, А. А. Самойло, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев, П. П. Сытин, Б. М. Шапошников и другие. Не случайно начальник академии генерал А. И. Андогский в 1921 году отмечал, что «организация Красной армии и оперативное руководство ее боевыми операциями были выполнены представителями старого Генерального штаба, также в значительном количестве оставшимися на службе у большевиков».
Взамен ненавистного в Советской России слова «офицер» таких людей стали именовать военными специалистами или военспецами. Военспецы находились в подчиненном положении у руководства РКП(б), под контролем комиссаров и органов ЧК. Сильной стороной такой системы являлось то, что представители партии старались не допускать конфликтов между «бывшими» и нередко выступали в них третейскими судьями, тогда как белые погрязли в борьбе офицерских группировок (на страницах этой книги будет рассказано о такой группировке, созданной руководством академии). Военспецы оказались важным инструментом, который помог большевикам создать армию, одержать победу и сохранить власть. По наблюдению белого генерала Е. И. Достовалова,
Красная армия вырастала на наших глазах и перегнала нас в своем росте. И это несмотря на то, что у нас даже в рядах простых бойцов служили офицеры, несмотря на полную свободу военного творчества, на большое количество офицеров Генерального штаба и специалистов всякого рода… в Крыму они победили нас не столько своим численным превосходством, сколько выучкой, организацией и лучшим нашего управлением войсками.
Журнал исходящих бумаг академии за 1914 год предварялся газетной вырезкой, на которой яркими красными буквами была выведена символичная надпись: «Бог в помощь!» Безвестный составитель не предполагал, что четырнадцатый год откроет эпоху, которая поглотит как академию, так и саму Российскую империю.
Революция и Гражданская война вовлекли в политическую борьбу не только выпускников академии, но и ее саму. История академии того времени (одновременно как учреждения и как коллектива преподавателей, служащих и слушателей) полна удивительных приключений, интереснейших событий, проявлений как жертвенности и героизма, так и интриг, предательства, коварства и подковерной борьбы. Здесь и переход от красных к белым, и попытки спасти царскую семью летом 1918 года, и участие в белом подполье в Екатеринбурге, и организация омского переворота 18 ноября того же года, в результате которого на Востоке России была установлена диктатура адмирала А. В. Колчака.
Автор этих строк посвятил более десяти лет изучению документов по истории академии. Основу книги составили материалы двадцати одного архива России, Украины, Польши, Чехии, Франции и США, включая архивы спецслужб и материалы частных собраний. Впрочем, основной массив документов хранится в Москве, в фондах Российского государственного военно-исторического и Российского государственного военного архивов.
Далеко не все сохранилось до наших дней. Часть академического архива была уничтожена советскими архивистами во второй половине ХX века, а некоторые материалы погибли еще в Гражданскую войну – именно тогда бесследно исчезли следственные дела о причастности академии к большевизму, составленные в 1919 году. В эмиграции оказались утрачены уникальные мемуары начальника академии генерала А. И. Андогского, от которых в Гуверовском архиве в США сохранилось лишь содержание. И все же много документов уцелело, что позволяет реконструировать историю последнего периода существования старой Военной академии.
Мне хотелось понять настроения и устремления сотен офицеров, связанных с академией, логику их действий, когда они от красных уходили к их противникам, а затем стали активными участниками генеральских войн у белых. Важно было изучить взаимоотношения академии с политическим руководством тех режимов, при которых она функционировала. Думается, все это позволяет лучше понять историю Гражданской войны в целом.
В 2014 году вышла моя монография «Закат Николаевской военной академии 1914–1922 гг.», к которой я адресую всех желающих подробнее узнать о той эпохе в истории академии. Затем под моей редакцией увидели свет публикации ключевых источников об академии периода войн и революций – воспоминаний профессора генерала М. А. Иностранцева и дневника слушателя академических курсов штабс-капитана В. М. Цейтлина. Удалось обнаружить и новые документальные материалы, в результате чего некоторые прежние сюжеты были переработаны и дополнены. Наконец, возникла идея выпустить краткий популярный вариант книги на эту тему, чтобы познакомить с перипетиями последнего периода существования старой академии широкий круг читателей.
Выражаю глубокую благодарность друзьям и коллегам, оказавшим содействие при подготовке книги: докторам исторических наук Я. В. Леонтьеву, П. А. Новикову, А. С. Пученкову, Е. П. Серапионовой, А. А. Хисамутдинову; кандидатам исторических наук О. Р. Айрапетову, Ф. А. Гущину, К. С. Дроздову, В. Б. Каширину, Н. А. Кузнецову, А. А. Симонову, а также А. М. Кручинину, Т. Г. Чеботаревой, Д. А. Черняевой, коллегам по отделу истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, где я имею честь работать, и участникам семинара на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, высказавшим ценные замечания при обсуждении рукописи.
Отзывы и замечания по книге можно присылать на электронный адрес автора: andrey_ganin@mail.ru.
Глава 1. Императорская Николаевская военная академия накануне Первой мировой войны
Генштабисты: от старой России к армиям Гражданской войны
Генеральный штаб вот уже почти два столетия является неотъемлемой составляющей любой серьезной армии. В России начала ХX века он комплектовался исключительно выпускниками Николаевской академии Генерального штаба, пополнявшими особую замкнутую элитную корпорацию – корпус офицеров Генерального штаба, которые, наряду с выпускниками других военных академий, были наиболее образованной частью русского офицерского корпуса. В военное время они занимались разработкой операций, управлением войсками и обеспечением их взаимодействия на театре военных действий, вопросами мобилизации и организации войск, разведкой и контрразведкой, снабжением и т. д.
В поздней Российской империи, где грамотной была примерно четверть жителей, а высшим образованием обладали лишь до 136 тысяч человек (на 1913–1914 годы), или 0,08% населения, генштабисты ценились особо. Окончание академии открывало широкие карьерные возможности перед обычными армейскими офицерами, не имевшими знатного происхождения и сильных покровителей. Это были готовые кандидаты на высшие командные и штабные должности. Накануне Первой мировой войны корпус офицеров Генштаба составлял около 2% русского офицерства, но среди обладателей высших чинов и должностей процент генштабистов был совершенно иным. Выпускниками академии были 56,8% генералов, а по должностному положению – 78,4% командиров корпусов, 65,7% начальников пехотных дивизий, 82,3% начальников кавалерийских дивизий. И в этом нет ничего удивительного. Служба по Генеральному штабу давала ощутимые карьерные преимущества. Генштабист получал чин капитана на десятом–двенадцатом году службы, тогда как офицер армейской пехоты – на двенадцатом–восемнадцатом. В подполковники генштабист мог выйти на тринадцатом году службы, а пехотный офицер – на двадцатом. Полковником генштабист становился через 18–20 лет, тогда как большинство армейцев вообще не достигало этого чина. Блестящие карьерные перспективы привлекали честолюбивых офицеров, учеба в академии давала основательную подготовку и значительно расширяла кругозор, а последующая служба по линии Генерального штаба подкрепляла полученные знания практическим опытом.
Элиту в войсках закономерно не любили. Армейским офицерам претило ее высокомерие и оторванность от строевой службы, они считали генштабистов выскочками и карьеристами, презрительно называли «моментами». Это прозвище принято объяснять частым употреблением генштабистами таких фраз, как «момент для атаки», «поймать момент» и т. п. Однако нельзя исключать и игры слов, характеризующей быстрое продвижение офицеров Генштаба по службе.
Была зависть, но было и восхищение.
Советский генерал А. И. Черепанов вспоминал:
Мне в бытность командиром роты старой армии приходилось видеть офицеров Генерального штаба разве что издалека. В нашем представлении это были люди необыкновенные, своего рода жрецы военного искусства, владеющие какими-то особыми его тайнами, непостижимыми для нас, смертных офицеров военного времени… в своем суждении мы были правы, считая офицеров Генерального штаба большими специалистами военного дела.
Отчасти это было справедливо. Как организовать бой, спланировать операцию, рассчитать все необходимое для перевозки из точки А в точку Б армейского корпуса, сколько потребуется снарядов для прорыва фронта, что написать в приказе, каковы группировка и намерения противника – все это входило в компетенцию генштабистов, «друидов с белыми аксельбантами», как их однажды назвал Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, выпускник академии 1910 года. Непосвященным могло казаться, что в грамотных руках этих офицеров действительно творилась магия – красивые стрелки на картах превращались в перемещавшиеся на огромных пространствах армии и фронты. Без таких специалистов с их «магией» невозможно было создать ни одну правильно организованную армию эпохи Первой мировой и Гражданской войн.
Генштабистов ценили и старались привлекать на службу и красные, и белые, и руководители национальных государств, возникших на руинах старой России. Генштабисты сыграли важнейшую роль в создании и укреплении противоборствовавших вооруженных сил, причем около трети из них успели послужить в нескольких враждующих армиях.
Важно подчеркнуть, что принадлежность к корпусу офицеров Генерального штаба формировала кастовость, корпоративное чувство генштабистов, которые поддерживали друг друга в разных жизненных и служебных ситуациях. Эта взаимовыручка сохранялась и в советских условиях. На страницах книги читатель встретит немало ее проявлений.
Чему и как учили в академии
Итак, окончание академии в старой России практически гарантировало быструю военную карьеру, но поступить в нее и успешно окончить было крайне сложно.
Накануне Первой мировой войны численность слушателей академии составляла 314 офицеров, а на геодезическом отделении обучались не более 7 человек. Поступление проходило в два этапа: сначала письменные экзамены при штабах военных округов (тактика, политическая история, география, русский язык, верховая езда), а затем устные вступительные испытания непосредственно при академии в Санкт-Петербурге (строевые уставы, артиллерия, фортификация, математика (арифметика, начальная алгебра, геометрия, прямолинейная тригонометрия), военная администрация, политическая история, география, топографическое черчение, русский и иностранный языки). Отсев был очень жестким. На подготовку и сдачу вступительных экзаменов у офицеров уходил год напряженного труда. Менее трудны были экзамены для тех, кто ранее овладел военно-техническими специальностями, – артиллеристов, инженеров – либо обучался в гражданских учебных заведениях технического профиля (например, будущий вождь Белого движения на Юге России генерал П. Н. Врангель окончил до академии Горный институт).
Основной курс обучения в академии был разделен на два годичных класса (младший и старший) и состоял из теоретических и практических занятий. Главными предметами являлись тактика, стратегия, военная администрация, военная история, военная статистика, геодезия; вспомогательными – русский язык, сведения по части артиллерийской и инженерной, политическая история, иностранные языки. Что касается иностранных языков, то изучение как минимум одного из них являлось обязательным, два других можно было изучать по желанию. Преподаватели обладали достаточной квалификацией, некоторые совмещали преподавание со службой в Главном управлении Генерального штаба (ГУГШ). В летний период после младшего класса проходили верховые глазомерные съемки в окрестностях Петербурга, дававшие слушателям некоторый отдых на природе. После старшего класса летом проводились полевые поездки в окрестностях столицы, в ходе которых приходилось решать те или иные задачи.
Оценки за сдачу предметов выставлялись по двенадцатибалльной шкале: отлично – 12 баллов, весьма хорошо – 10–11 баллов, хорошо – 8–9 баллов, удовлетворительно – 6–7 баллов, посредственно – 4–5 баллов, слабо – 1–3 балла. Для перехода в старший класс необходимо было получить в среднем не менее 9 баллов, но по отдельному предмету – не менее 7. В геодезическом отделении требования были те же, что и в общем, однако по специальным предметам нужно было иметь не менее 8 баллов. Те же критерии использовались при оценке учебы в старшем классе, также в расчет принималась успеваемость по тем предметам младшего класса, которых в старшем классе уже не было. Офицеры, получившие по окончании старшего класса в среднем не менее 10 баллов и не имевшие неудовлетворительных оценок, считались окончившими курс по первому разряду и зачислялись на дополнительный курс. Те, кто получил менее 10 баллов, считались окончившими академию по второму разряду и отчислялись в свои части.
С 1869 года для совершенствования практических навыков будущих генштабистов был учрежден дополнительный курс, первоначально длившийся полгода. В 1909 году его продолжительность была увеличена до девяти месяцев. До 1897 года к Генеральному штабу причисляли всех офицеров, окончивших дополнительный курс, и лишь позднее стали отбирать лучших. На дополнительном курсе слушатели самостоятельно разрабатывали три темы: по военной истории, по военному искусству и по стратегии. По итогам нужно было сделать краткий доклад перед специальной комиссией, после которого выставлялись итоговые баллы как за письменную тему, так и за устный доклад. Между слушателями академии существовала острая конкуренция, связанная с рейтинговой системой оценок. Нередко отсев происходил из‑за случайного стечения обстоятельств, например по болезни.
Слушатели, получившие за дополнительный курс в среднем 10 баллов и не менее 7 баллов по каждому предмету, считались окончившими академию по первому разряду, получали право ношения серебряного академического нагрудного знака и право на четырехмесячный отпуск. Выпускники распределялись по военным округам для прохождения штабного ценза, причем первые десять офицеров в выпуске имели право назначения на вакансии в Петербургском военном округе. За каждый год обучения требовалось прослужить полтора года в военном ведомстве. Исходя из наличия вакансий, окончившие академию по первому разряду причислялись к Генеральному штабу и позднее (после испытаний в штабах военных округов, а также цензового командования ротой, эскадроном или сотней), по мере открытия вакансий, переводились в него. Получившие в среднем менее 10 баллов, но не менее 7 по каждому предмету, считались окончившими по второму разряду. Прочие отчислялись из академии.
Выпускники, имевшие самые высокие баллы в выпуске, награждались медалями: золотой (при наличии полного числа баллов (12) по всем предметам); большой серебряной (при наличии полных баллов по всем предметам, кроме политической истории, военно-морского дела, иностранных языков, а по этим предметам – не менее 11), малой серебряной (при наличии не менее 11 баллов по всем предметам, кроме политической истории, военно-морского дела, иностранных языков, а по этим предметам – не менее 10); имена лучших офицеров выпуска заносились на почетные доски. Золотую медаль за всю историю академии получили лишь двое – будущие генералы М. И. Драгомиров и М. Р. Шидловский. Будущие генералы – участники Гражданской войны Л. Г. Корнилов, А. Ф. Редигер, А. М. и В. М. Драгомировы, В. Ф. и Е. Ф. Новицкие были награждены малой серебряной медалью.
За успехи в учебе выдавались денежные премии: с капитала, собранного в память генерал-лейтенанта А. Н. Леонтьева, – офицеру дополнительного курса, наилучшим образом исполнившему стратегическую задачу (третью письменную тему); с капитала имени генерал-лейтенанта Г. А. Леера, пожалованного в ознаменование 35-летия его профессорской деятельности великим князем Николаем Константиновичем, – в пособие одному из первых учеников академии на поездку за границу для усовершенствования научного образования, а если в поездке надобности не встречалось, то за лучшее сочинение по военным наукам; с капитала имени генерал-адъютанта Н. Н. Обручева – офицеру дополнительного курса, оказавшемуся вторым по достоинству выполнения стратегической задачи; с капитала имени генерал-майора А. А. Зейфарта – офицеру дополнительного курса за лучшие по верности и выразительности съемки и кроки, исполненные в старшем классе.
Курс обучения в академии, в особенности до Русско-японской войны, характеризовался теоретизмом и оторванностью от практической службы. Учебная программа превышала нормальные возможности восприятия такого объема информации. Широко практиковалось зазубривание огромного массива ненужных данных. Например, получили известность и высмеивались слушателями так называемые «рыбьи слова» – формулировки, которые нужно было воспроизвести слово в слово на экзамене.