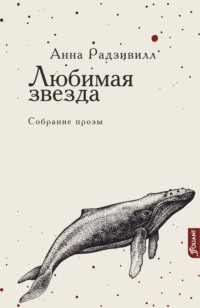Loe raamatut: «Любимая звезда»
* * *
© Радзивилл А. П., наследники, 2023
© ТОО «Издательство „Фолиант“», 2023
О прозе Анны Радзивилл
Короткий рассказ не жанр, а новый способ увидеть мир. У истоков – Антон Павлович Чехов. Анна Радзивилл тоже смотрит на мир сквозь призму сжатого текста. Даже в повестях и саге о предках. Но взгляд у неё своеобычный: укрупняющий, детальный и при этом обволакивающий любую деталь бережными прикосновениями и теплотой дыхания.
Особый взгляд порождает особый тон и особый стиль. Вот только как совместить тон с литературной формой произведения? Здесь-то автору и приходит на помощь быстрая и освежающая, как летний дождь, новеллистичность. Но и она вовсе не происходит от ремесленнического следования «твёрдой» форме новеллы! А происходит от неостановимых порывов души, которые свойственны многим русским людям: посочувствовать, попричитать, поговорить нараспев, по-деревенски, добавить незлой иронии и, конечно, всплакнуть над омутами бытия.
Ну и под конец самое важное: проза Анны Радзивилл не только выводит на сцену неповторимых героев, но и представляет собой маленький театр – Театр Единичного Слова. Такое Слово, взвешенное на ладони и рассмотренное со всех сторон, трогает и покоряет. И остаётся с вами навсегда, как тот Николай Доменикович, учитель музыки и жизни из незабываемого рассказа «Цветок волшебный».
БОРИС ЕВСЕЕВ,
лауреат премии Правительства РФ
в области культуры, Бунинской и Горьковской литературных премий
Часть I
Сага о моих предках
1
Очень жаль, что на земле
мы живём не вечно.
Из песни
Когда я родилась, их никого уже не было на свете. Моя бабушка Акулина, тверская крестьянка, умерла за три дня до моего рождения.
Дедушка, Яков Сергеич, умер немного раньше, от рака. После похорон бабушка пришла домой, легла на лавку и сказала детям: «Мне без него не жить». Через несколько дней хоронили и её: умерла от грусти, как свечка растаяла.
У бабушки Акулины было восемь детей. У меня значительно меньше. Иногда я думаю: могла бы я вот так умереть от грусти? Вряд ли… Хотя кто его знает…
* * *
Мне трудно понять, как они жили. От их жизни осталось так мало: мама, две тётки, пережившие блокаду (вспоминают только о войне), несколько фотографий на плотном картоне, поле, засеянное удивительно зелёной травкой («это лён так растёт, смотри, это поле твоего дедушки»), да ещё ряды громадных мрачных ёлок в лесу – дед сажал у себя на хуторе еловую аллею. И цветущая в лесу сирень – на том месте, где был дом.
Одно я знаю точно: никто, ни один из их восьми детей не был так счастлив в жизни, как мои бабушка и дедушка. Бабушка так и говорила дочкам: «Знаете, а я ведь даже и царице не завидовала…»
* * *
В деревне возраст не скроешь, все тебя знают и всё про тебя знают.
Шла Акулинушка улицей, роста маленького, лицом невидная, шла, склонив голову, а вослед ей сострадательный шёпот: «Гляди, Кулюшка идёт, вековуха…» А дома сестры младшие шипели: «У, вековуха несчастная…» Из-за неё отец не выдавал замуж ни Марфу, ни Полину – надо же сначала старшую с рук сбыть. К младшим-то сватались, девки были приглядные и – молодые. А Акулине Николаевне в ту пору стукнул уже двадцать один год. (Это сегодня – смешно, это теперь в двадцать один – молоденькая, а тогда? Да ещё в деревне? Тогда в тридцать – уже без зубов, с высохшей грудью, и морщины, и руки, как клешни…)
В хоровод да на гулянки уже и ходить стеснялась. Вообще была застенчивая. Всех приглашают, а её – нет. Придёт, сидит, смотрит, на душе тяжело, и глупо всё как-то. Сестры хохочут, глазами блестят: «Ну, чего сидишь, ворона?» А что ответишь? Встанет да уйдёт.
Однажды явился на гулянку парень из другой деревни. Красивый – глаз не оторвать. Сам высокий, кудри чёрные. А пел как! А плясал! Девки обомлели. А он огляделся, возьми да и пригласи незаметную, самую тихую – Акулину. Покраснела, встала да и вышла плясать. Другие парни смотрят: чего это они прозевали? Акулька-то улыбается – прямо светлая заря… Как же это они проглядели? И тоже давай её приглашать.
Оказалось, парень тот – Степанидин Яша. Подобрала его мальчишкой на дороге бабка, нищая Степанида, пожалела, а то бы с голоду помер. Пока не вырос – с ней по миру ходил. А подрос – начал бабкино хозяйство налаживать. Избу починил, печь сложил заново. Даже худую лошадёнку завели. Старую.
Вот на этой-то худой лошадёнке и приехал он вскоре к богатому хутору, где жили Донские, Акулину сватать.
Она как поглядела – батюшки! Да это же тот парень, что плясать её пригласил! Неужели такой красавец – её сватать? Оказалось – её. Она сразу: «Тятенька, я согласна!»
Отец почесал в затылке – конечно, ни одну девушку с приданым за какого-то нищего в деревне б не отдали, но тут дело такое – вековуха… Сестры наседают: «Тятенька, счастье-то какое!» Как бы и тех не передержать. Ну что, Богу помолился, дал слово. Согласился.
А через два дня – парень богатый из их деревни. На тройке! И тоже – Акулину сватать.
Отец и мать не знают, что и делать: и слово-то дали, и родную дочь-то жалко. В богатый дом ли отдать или к нищей Степаниде в избу?
– Тут, дочка, дело такое… – начал отец.
– Я уже просватана, тятенька, – тихо сказала дочь.
– Я вот сейчас тебя просватаю… вожжой.
– Утоплюсь… – ещё тише сказала она.
Парень богатый уехал ни с чем, предложенных ему Марфу или Полину взять не пожелал. Акулину выдали за Яшу, и в приданое получила она самое главное – кусок земли, который мог прокормить семью на хуторе Терпилово.
* * *
На другой день после свадьбы Яков взялся за топор. Быстро, ладно сколотил табуретку.
– Зачем это ты, Яшенька, сделал табуреточку?
– А возле тебя сидеть, незабудка моя.
Вздохнула, не поверила – будет такой огненный возле неё сидеть…
Не верили в это и люди.
И хотя известно стало, что женился Яша, купчихи на тройках, в шубах с борами, в павловских платках цветастых, румяные, подлетали к крыльцу: «Яков Сергеич, к нам, к нам! Свадьба у нас, поехали! Ведь петь, плясать – лучше вас не найти!»
Затаилась Акулина за занавеской возле печи, дышать перестала.
– Спасибо за честь, – отвечал Яков Сергеич, – не могу.
С тех пор без Акулины Николаевны его не приглашали. И что удивительно – умел он заставить всех, в каком бы обществе ни появлялись, считать его незаметную Кулюшку ну просто королевой.
Тесть, озабоченный непонятным поведением молодого мужа, спрашивал:
– Почему не бьёшь?
Яша скалил блестящие белые зубы, обещал подумать.
* * *
Вот фотография, на которой ещё нет моей мамы, но в семье уже трое детей: девочка и два мальчика. Хорошо тогда делали фотографии: картон не рыхлый, а как пластмасса – твёрдый и гладкий. Пожелтел только снимок – три четверти века прошло.
Да, дед в самом деле редкостный красавец: глаза огромные, тёмные, заглянешь – не забыть. Виски седые, плечи широченные. Старшая дочь Наденька с такими же глазами, в него. А про бабушку как-то и сказать нечего – скромная маленькая женщина, одетая уже по-городскому. И зовут её – Лина, стесняется она теперь своего деревенского имени. Теперь в Санкт-Петербурге живут они, в столице. Напротив Сенного рынка держат лавку сельдяную. Покупают селёдку оптом, а торгуют ею в розницу. Дед копит деньги, кладёт их в банк. Да не на себя, а на каждого ребёнка. Мечтает всех выучить.
Успел выучить только старшую, Надежду. В Смольном институте для благородных девиц – попала она в какой-то процент для бедных чинов. Вот ещё один снимок: девушка в шляпе со страусиным пером, одно поле вниз, другое вверх (сейчас такие шляпы – поменьше, и поля покороче, и без страусиных перьев – продавщицы называют «боковик»), талия затянута, смотрит гордо – какая там дочь крестьянина – петербурженка! Преподаёт французский и, как вспоминают тётки, учит их, маленьких, «хорошему тону»: как ходить, как садиться, как одеваться. Ухаживает за ней барон фон Бломберг. Катает в коляске, дарит хризантемы. Вот он, барон. Холодное немецкое лицо, эполеты, осиная талия. Сидит прямо, напряжённо. Хочет лучше выглядеть, чем есть. И чего старается? И так молод и прекрасен. Летом она уезжает в деревню и пишет ему письма «из имения Терпилово». А осенью он, по естественному ходу вещей, делает ей предложение. (И прекрасно, и пусть выходит за барона!)
Но Наденька, несмотря на отчаянную любовь и свои семнадцать лет, всё-таки видит мир таким, какой он есть.
Она надевает бабушкино обручальное кольцо, берёт за ручку мою маму в платьице «бэби» и кружевных панталончиках и отправляется на свидание к барону фон Бломбергу в Летний сад. Поражённый, смотрит он на кольцо. «Да, я обручена. Слишком поздно…»
Хочется крикнуть чуть ли не через столетие: «Да расскажи ты ему, признайся, ведь он тебя любит!»
Но на меня смотрят большие грустные глаза с портрета – здесь она постарше. Нет, это свидание было последним. Не понять вам, потомкам, что такое «социальное происхождение», теперь у вас даже графы такой в паспорте нету.
Фон Бломберг писал ей уже после революции из Югославии: «У меня ничего не осталось – только покинутая мною Родина – светлая моя Россия. И Вы – единственная звёздочка в родном небе».
Она тихо погасла в блокаду, ухаживая за ранеными в госпитале. Мои жизнелюбивые тётки шёпотом и с недоумением сообщают: она умерла старой девой, у неё никогда никого не было…
Ещё до Первой мировой войны, когда детей стало восемь, появляется в семье тётя Уляша, молодая работница катушечной фабрики.
Хромая, ворчливая, не в меру страшненькая, незаконного ребёнка подкинула в приют – вот и всё, что о ней известно. Младшие дети её любят: своя, родная, вынянчила их по очереди. В доме налаженная, за дедовой спиной спокойная жизнь.
Как и всегда, всё перечёркивает война. Первая мировая. Она накатывает не сразу, сначала идёт страх, смутное время. Уляша приносит с Сенного рынка слухи – никогда так не врут, как после охоты и перед войной. Дед отправился за советом к знаменитому тогда митрополиту Иоанну Кронштадтскому – как спасти и прокормить столько детей? Сам-то в детстве натерпелся, жалел их. Бывало, дети приставали:
– Папа, папочка, а кого из нас ты больше любишь?
Он показывал пальцы на руках:
– Вот, если один обрезать – какой больнее?
Митрополит сказал:
– Есть у тебя свой кусок земли – садись на землю. А иначе всем погибель.
Отвёз семью в деревню, а сам на фронт ушёл, как и все. Сказал жене:
– Не бойся, и что бы тебе ни говорили – не верь. Вернусь. Ты меня знаешь.
И ведь вернулся!
Окопы вспоминать не любил. Смеялся редко. А петь перестал совсем.
В революцию пропали все деньги в банке, которые положил на каждого ребёнка. Ему сочувствовали – как же, столько тысяч золотом! А он улыбался: деньги-то пропали, а дети-то живы! Теперь бесплатно учат, теперь все выучатся!
* * *
Он учил их и тому, что умел сам. В сенокос вся семья в большом пятистенном доме вставала в три часа утра. Жарили яичницу с салом на огромной сковородке. Старшие косили. Средние косить не могли, но умели уже сено ворошить. Те, кто бесполезен был по малолетству на сенокосе, всё равно вставали – нянчить самых младших, чтобы освободить для сенокоса женщин. Вставали не «помогать», а делать необходимое всем дело, работать. И не дай Бог кому-нибудь из детей заваляться в постели – дед гневался, а такого его боялась даже тётя Уляша, которая никого не боялась.
(Меня в детстве хоть и не поднимали в три часа утра, но дедова закалка в маме была крепка, и слёз по поводу своего трудового воспитания пришлось мне пролить немало… Мама просто не выносила меня в горизонтальном положении, особенно в середине дня.)
– Мама, а дед помогал бабушке в домашней работе? – спрашивала я. (Вопрос, который сейчас волнует большинство женщин.)
Мама удивлялась:
– Да что ты! Вот раньше действительно было равноправие. У него своей домашней работы знаешь было сколько? Две лошади, коровы, овцы, свиньи, телеги, сбруя, дрова… Ужинать сядет, руки на стол положит – ложку не поднять!
Все восемь детей выучились, один стал главным инженером завода. Однажды он пришёл к моей маме, сестре своей, сел на диван, обнял её и вдруг разрыдался. На меня он внимания не обратил, я была слишком мала. И, конечно, почему такой большой дядя так горько плачет, не поняла, только запомнила эту картину. Потом уж, когда я выросла, мама рассказала мне, что жаловался он ей на свою жену-красавицу, на её чёрствость и грубость, и запоздало корил себя – когда-то, в лихой юности, бросил он девушку, у которой от него потом родилась дочка. Где она теперь, та родная дочка? Жена-красавица ему детей не рожала.
Другой сын стал даже генералом. Семья у него была, трое детей. Но счастливым он выглядел только на службе. Так, по дороге на службу, и умер однажды.
И у всех остальных были семьи и налаженная, как считали окружающие, счастливая жизнь. Но сказать: «Знаете, а я ведь даже и царице не завидовала…» – не мог никто.
– Неужели вы не спросили дедушку, в чём же был секрет их счастья, не узнали это, пока он был жив? – возмущалась я.
– Спрашивали, – отвечала мама, – как не спрашивали… Перед его смертью сестры приходили в больницу, он уже совсем худой был, печальный, знал, что умрёт.
– Ну, и что он говорил?
– Да как тебе сказать? Ничего особенного он им не сказал. (Я чувствую, что просто мама с ним не согласна, и поэтому вспоминать ей не хочется.) Понимаешь, всем известно, что счастье – вещь редкая, нестандартная. И конечно, главное – это его найти, своё счастье, встретить близкого человека. Но он считал, что дело совсем не в этом. Вот он сказал Вере: «Деточка, если ты хочешь быть счастливой, думай не о себе, а о нём, о том, кого любишь. Всегда о нём». А это ведь, как ты понимаешь, практически невозможно, – заключает мама тоном прожившего жизнь человека.
– Ну, а ещё что он говорил?
– Да потом, в последние дни, говорил сестрам: «Деточки, только никогда не расставайтесь… никогда не расставайтесь с теми, кого любите».
2
Почти всю жизнь моему отцу пришлось прожить под чужой фамилией.
Конечно, дома у нас об этом никогда не говорили. Но лет с двенадцати я уже знала, что наша родовая фамилия Радзивиллы – это тайна, причём такая, что лучше её вообще забыть.
Судьба кидала и раскидывала нашу семью по-разному. Росла я и в Сибири, и на Колыме, и в Магадане – отец был полярником. Но дом наш оставался в Петербурге, поэтому мы всегда туда возвращались.
Жили мы, как все вокруг, в одной комнате большой коммунальной квартиры. Коридор был такой, что пока идёшь на кухню, забудешь, зачем пошёл.
Моя жизнь мне очень нравилась. Я ходила в школу, самозабвенно играла в морской бой, по вечерам каталась на коньках и читала фантастику и «Трёх мушкетёров». Жизнь вокруг была понятная и простая.
Только иногда меня удивляло, почему это мне нельзя делать то, что можно всем вокруг?
Нельзя, например, лгать. Нельзя просить. Нельзя быть грубой. Потому что вульгарность хуже лохмотьев. Лохмотья ещё могут быть благородными, а вульгарность – никогда. А ещё стыдно не сдержать своего слова. И уж совсем последнее дело – струсить. Тут уж папа просто переставал меня замечать. И тогда моя жизнь переставала мне нравиться.
Но почему всем (и на каждом шагу!) всё это можно, а мне – нельзя? У нас врут даже учителя!
Папа ни в какие объяснения не вдавался, отвечал только одной фразой: «Потому что ты – моя дочь».
Прошлого у папы не было. Никогда я не слышала его рассказов о прошлом. Ни вещей, ни дома. От прошлого у него оставалась только могила его матери. Правда, где она, никто в нашей семье не знал. Где-то на краю города, какое-то старое кладбище, вот и всё. Иногда он ездил туда. Но с собой никого не брал. О бабушке, которая там похоронена, ничего не рассказывал, а дедушки будто и вовсе не существовало на свете.
Однажды, когда я уже подросла, захотелось мне всё-таки выяснить, как хоть выглядела-то эта таинственная бабушка?
– Ты знаешь, я в жизни не встречал женщины мудрее её, – вздохнул отец. – И нежнее…
Вообразить себе человека по таким параметрам – задача непосильная, во всяком случае для меня. Поэтому, наверное, я спросила:
– А на кого она была похожа?
Не помню случая, чтобы мой отец когда-нибудь растерялся или смутился. Но тут на лице его отразилось какое-то замешательство. Он подвёл меня к зеркалу, сильной тёплой рукой убрал с моего лба чёлку и сказал:
– Вот, смотри… И рост, и фигура, и коса, и лицо… Как две капли воды. Только она полнее тебя была. Ну, и чёлку, конечно, не носила.
Странно. Всегда все говорили, что я похожа на папу. Но ведь она же была бабушка, старуха!
– Да нет. Она умерла молодой. Ей не было и сорока.
* * *
А ему тогда исполнилось пятнадцать. Они возвращались в Петроград из Минской губернии, из Несвижа.
Холодные невские туманы да беспросветные дожди были те же. Но блистательного, гордого и нарядного города он не узнал. Из дворов-колодцев ползли трупные запахи. Отовсюду несло помойкой и гарью. Стекла в витринах выбиты. Лица у прохожих серые, испуганные. Глаза голодные. Ни цилиндров, ни котелков. На всех головах одинаковые приплюснутые кепки. И что совсем уж его поразило – некоторые улицы начали зарастать травой…
В поезде они с матерью заболели. Непонятно, как добрались до больницы на краю города – видно, кто-то помог. Называлась больница «Мать всех скорбящих», на девятой версте Петергофского шоссе. У самых дверей он потерял сознание.
Пришёл в себя в громадной квадратной комнате с высоким потолком. Сначала показалось – опять вокзал. Узкие железные кровати стояли рядами очень близко друг к другу. В душном мраке хрипели, просили пить и метались в бреду какие-то люди. Крайние валились на пол. «Вот почему кровати так близко, – сообразил он, – чтобы люди не падали. А где же мама?»
Рядом на койке неподвижно лежал мужчина. Парень.
– Ну чё, вынырнул? – очень тихо спросил он.
– Кажется…
Парень не шевелился. Только глаза у него блестели как-то слишком.
– Сдохну. Сегодня, – пообещал он серьёзно и весело. Даже хотел подмигнуть. Но не вышло.
– Ты что? Зачем ты так говоришь?
– Это не я. Это врач. Он думал, я уж и не слышу. А про тебя сказал: старинные бумаги какие-то у вас нашли. В той рванине, что с вас сняли. Мать-то у тебя княгиня… Ну, с ней, он сказал, всё в порядке. А ты вот крепкий оказался. Слушай, а как это ты сюда попал?
– Мы с мамой в поезде ехали. А потом… не помню, голова болела очень.
– А… ну это у тебя, значит, тиф.
«Как это – с ней всё в порядке? Как это врач мог так сказать?» Он боялся понять то, что услышал.
Вдруг комната ярко осветилась. И предметы, и лица под сильной электрической лампой оголились и стали ещё чудовищнее. Но никто не шёл и ничего не происходило.
– Теперь полночи гореть будет, – сказал парень. – Это по всему району включили, для обысков. Чистят… – И вдруг без перехода, глядя в упор, спросил: – Что же ты теперь без матери делать-то будешь?
Вокруг стонали, охали и хрипели люди. Он не находил в себе сил ответить хоть что-нибудь. А парень всё шептал, спрашивал:
– Своих-то никого не осталось?
– Никого.
– Ну, значит, как встанешь, так тебя и шлёпнут.
Это было ясно. Недаром они с матерью ехали, переодетые чёрт знает во что. Но бесцеремонность соседа задевала – разговаривать не хотелось. Не привык он к бесцеремонности. Закрыл глаза. Но сосед всё не унимался.
– А может, ты и сам с голоду подохнешь? Кому ты нужен?
Провалиться бы снова в беспамятство… Но комната была реальной, хотя и покачивалась в этом беспощадном свете, а потолок и вообще куда-то плыл. Вернуться во тьму не удавалось.
Поднял руку. И не узнал её – костлявая. Потёр висок. Волос на голове почему-то не было. Потрогал макушку. «А… остригли».
А сосед вдруг заволновался, задвигался, зашептал, катая голову по тощей подушке:
– Слушай, слушай… ну послушай ты меня!
Видно, прежде чем оставить этот мир, захотелось парню, отчаянно захотелось ещё успеть сделать что-то хорошее.
– Ты знаешь, что я придумал? Тебе сколько лет?
– Пятнадцать.
– А мне восемнадцать. Знаешь что? Возьми мои документы! Я уже… ну, всё уже. Я и сам чувствую. А ты рослый, скажешь: восемнадцать тебе. Ладно? А то ведь убьют!.. Ты запомни, ты хорошо запомни, как меня зовут, где родился, когда, ладно? Пострижены мы одинаково. А потом иди в Красную армию. Она больше. Никто не верит теперь, что нужен царь. Братство, говорят, нужнее. Ну и свобода, конечно. А главное – там кормят. Одевают. Может, ещё и выживешь?
Умер он совсем незаметно. Как-то укоротился вдруг с обоих концов и ушёл весь в ямину кровати. Из-под серого одеяла виднелась теперь только его макушка, кое-как остриженная машинкой.
Голый, трезвый и неузнаваемый мир опять куда-то поплыл. Кто же это теперь отдаст ему чужие документы? Снова резко заболела голова. Что же делать? Пить хочется… Где это он читал: «Если хочешь выжить – ты должен стать мёртвым»? Стать мёртвым… Книга лежала на коленях, а сам он сидел в плетёном кресле в саду. Тёмно-лиловая сирень гладила плечо и кружила голову…
Вдруг он вжался в постель. Захотелось вскочить, убежать, спрятаться. Но он лежал неподвижно и ждал. Прямо на него шёл врач. Уверенный, сытый. Чернявые кудерьки разлетались из-под белой шапочки.
Врачу оставалось несколько шагов, когда лампочка под потолком вдруг погасла – наверно, кончились обыски. Врач всё-таки подошёл, наклонился над его кроватью, прислушался, но прикасаться не стал. Хмыкнул неопределённо. Отошёл.
И тогда в полутьме, слушая хрипы и стоны вокруг, он потащил на себя, торопясь и обливаясь холодным потом, непомерно тяжёлое, уже остывающее тело своего соседа. Отдыхал. Снова тащил, почти теряя сознание. Потихоньку, по сантиметру выбирался, выползал из-под него до самого рассвета. Бесшумно переполз на опустевшую соседнюю кровать. Скрючился под серым одеялом.
Это удалось только потому, что кровати стояли слишком близко, а сестра милосердия, которой врач поручил за ним приглядывать, уснула сидя.
* * *
Раскрытая чёрная яма. Вокруг её обступили кресты.
Неузнаваемое, неподвижное и бесконечно родное лицо. Голова покойницы острижена и прикрыта какой-то тряпочкой.
Самым странным почему-то казалось, что он больше никогда не увидит этого лица. И надо запомнить, поскорее запомнить его на всю жизнь.
Он закрыл глаза и высоко поднял голову. Внутри у него всё как-то оборвалось, обрушилось и кончилось. Ноги переставали держать тело.
Монашенка положила венчик на лоб покойницы. Грамотку в правую руку. Господи, рука-то почернела вся, это же не её рука! Только овальные узкие ногти были те же. Ветер срывает венчик. Как грубо его поправляют! Зачем-то закрывают лицо. Зачем-то сыплют песок сверху… крестом. Монашенка шепчет ему: «Это святая землица». Равнодушный грязный мужик ждёт, опираясь на лопату.
– Почему же нет гроба?
– Тише, тише… – пугается монашенка. – Спасибо Господу, что не в общую яму-то удалось… Прощайся. Скорее надо, милый. Прощайся!..
И в этот миг солнце вдруг пробилось сквозь растерзанные, быстро летящие тучи и в последний раз последним лучом скользнуло по лежащей на земле неподвижной фигуре в простыне с тёмным православным крестом из песка.
Он отвернулся и, перешагивая через свежие комья земли, быстро пошёл прочь от ямы.
– Куда же ты? – растерялась монашенка. – А последнюю горсточку земельки-то… Брось!
Но он её не слышал. Ему показалось, что за спиной его обрушилась скала. И стоит он теперь один на голом острове. А со всех сторон хлещут волны, длинные, тёмные, жадные. И вот-вот смоют его, слизнут и утопят.
Он согнулся пополам и тихо опустился прямо на дорогу.
* * *
Как отец мой всё-таки выжил – я не знаю. Жизнь сделала его немногословным.
Белое, всегда очень спокойное лицо с правильными чертами и упрямым подбородком. Он никогда не тренировался, не занимался спортом, но я знала, что сильный он необыкновенно. Любил Мариинский театр. И оперу, и балет. Абонементы брал всегда в двадцать седьмую ложу бельэтажа. А вот хриплые довоенные пластинки слушать не мог. Может быть, в беззаботных ритмах румбы узнавал ритм пулемётной очереди? Или дрожь хлебной очереди морозной ночью?
Он умел видеть то, что другим не видно. Мы-то, домашние, всегда это чувствовали. Правда, мама считала – всё дело в том, что просто он очень умный. Такого умного человека, как наш папа, больше и не встретишь. Но откуда даже самому умному знать заранее о том, что будет? Что должно случиться? И почему это своё умение он всегда тщательно скрывал?
…Стылая равнина якутского аэродрома. Низко висит над ней мёрзлое солнце. Оно здесь вообще не греет. Американский самолёт цвета хаки, допотопно-старый, на котором мы вчера летели из Верхоянска и с горем пополам перелетели Верхоянский хребет, ждёт нас опять на взлётной полосе. Ура, сегодня мы летим на материк!
Внутри самолёт похож на консервную банку, поэтому в небе на нём очень холодно. Остались такие консервные банки теперь только здесь, на самом краю белого света. Но нам с братом самолёт очень нравится – ведь это первый в нашей жизни авиарейс. «Самолёт, здравствуй!» – искренне кричит ему мой маленький и глупый брат, и все кругом смеются. Всей семьёй, с вещами мы идём на посадку.
Вдруг папа останавливается и долго молча оглядывает красное солнце, горизонт и самолёт на полосе. О чём он думает – понять нельзя. Нас весело обгоняет семья папиного сотрудника, другие пассажиры. Все они тащат рюкзаки и чемоданы.
Мы стоим.
Мама начинает нервничать.
Вдруг отец хлопает себя по карману и говорит ей расстроенно:
– Эх! Какой же я растяпа! Ты понимаешь – хронометр забыл! Казённый. В гостинице на гвоздик повесил… Ну что же, ничего не поделаешь, придётся лететь на следующем.
Недовольная мама с братом остаются в аэровокзале сидеть на чемоданах. А меня папе приходится брать с собой. В наказание за свою рассеянность. Потому что до гостиницы, где он забыл хронометр, ехать далеко и долго, а маме одной с двумя детьми всегда трудно. Вечно эти дети не могут между собой чего-то там поделить.
В гостинице мы идём по красным ковровым дорожкам. Но не в номер, где мы сегодня ночевали, а почему-то в буфет. С удовольствием папа берёт кофе и пирожки с мясом.
– А хронометр? – спрашиваю я.
– Да вот он! – смеётся отец и, как фокусник, вынимает из нагрудного кармана своего синего кителя с золотыми пуговицами круглый никелированный хронометр. – Понимаешь, не хотел я маму расстраивать, – объясняет он мне. – Но нам на том самолёте дальше лететь… не стоило. Мы на следующем полетим.
«Тот самолёт» грохнулся прямо на взлётной полосе и долго потом горел. А мы ещё несколько дней после этого жили в Якутске, в гостинице с ковровыми дорожками, и мама всё поражалась и рассказывала горничной, как это казённый хронометр спас жизнь всей нашей семье.
* * *
Однажды я отважилась всё-таки спросить его:
– Папа, а откуда ты знаешь, что должно случиться?
– Ну что ты… С чего ты взяла?
– А сколько раз было так – ты мне говоришь: «Погоди-погоди… Вот попомни моё слово – года через три…» Или: «Вот в следующую пятницу…» А года через три или в следующую пятницу почему-то именно так всё и случается, как ты сказал! Память-то у меня хорошая.
– Да?
– Ага.
Мы долго и дружно смеёмся.
– А ты знаешь, что в своём дневнике написала однажды Екатерина Великая? Умнейшая, я тебе скажу, была женщина!
– Что?
– «Будущее я читаю в прошедшем».
– Папа! Ты прячешься за авторитеты. Но я же не об этом. Ну мог бы ты хоть раз в жизни сказать своей единственной дочери…
– Да… Придётся сознаваться, – вздыхает папа. – Так и быть! – И смотрит на меня весело и странно, как будто издалека. – Дело в том, что сейчас тебе ничего такого знать не положено. Живи спокойно. Но придёт в твоей жизни день, когда… Когда объяснения мои тебе уже не понадобятся. Сама всё поймёшь.
– А вдруг… что-нибудь изменится, и день не придёт? Будущее можно изменить?
– Нет. (Он говорит это жёстко и твёрдо, а его ярко-синие глаза становятся светлыми.)
– А это случится скоро?
– Нет. Очень не скоро. Меня к тому времени уже не будет в живых.
Я не могу представить себе, что его когда-нибудь не станет. И легко отметаю эту мысль.
– А почему это своё умение ты всегда скрываешь?
– И это ты поймёшь сама. И тоже будешь скрывать.
– Думаешь, всё-таки придёт такой день?
– Я не думаю. Я знаю.
– А почему это должно случиться со мной?
– Потому что ты – моя дочь.
* * *
Позже, когда я училась уже в старших классах, он понемногу стал объяснять мне, как устроен мир. Постепенно выяснилось, что мир устроен куда разумнее, чем принято считать. И гораздо прочнее. Это было приятно.
Правда, ни равенства, ни братства всех со всеми в мире, оказывается, никогда не было.
– … Понимаешь, Аннушка, истина доступна не каждому, – говорит отец. – Ну пусть люди думают, как это принято. А ты знай себе да помалкивай.
Поздний вечер. Дом затихает. Теперь у нас уже отдельная квартира. Мы сидим на кухне, и папа тихо рассказывает мне:
– Все тайны мира знаешь где спрятаны? В символах. А символы – на каждом шагу. Только повнимательнее смотри и соображай…
Я давно уже догадываюсь, что в этом простом и ясном мире, который так мне нравится, очень многое от меня почему-то скрыто.
– Дело в том, что человек – уже не животное, – объясняет отец. – Природную мудрость он уже утратил. А высших знаний ещё не приобрёл. Поэтому считать его «человеком разумным» пока рановато…
Да… Это-то я понимаю. Рановато. Неясно только, что папа имеет в виду, когда говорит «высшие знания».
– В Древнем Египте жил один мудрец. Его звали… ну, если это перевести на русский – Трижды величайший. Все религии и все философии мира произошли от него. Так вот, он знаешь как учил? «Что на небе – то и на земле. Что вверху – то и внизу». Он главную тайну приоткрывал. Да ведь до сих пор не очень-то его поняли. Ты вот лес хорошо знаешь, в колымской тайге выросла. А скажи ты мне, как вот лес устроен?
– Лес? Как мир. Там всё есть. И все со всеми связаны.
– Да. Лес – это мир, – соглашается отец. – А мир – это лес. Читай чаще Брэма «Жизнь животных». Будешь знать о зверях всё – начнёшь понимать и как мир устроен.
– Почему?
Отец долго молчит. Потом вздыхает и говорит просто:
– Потому что человечество – это зеркало мира.
– Как это?
– Так. «Что наверху – то и внизу».
Мне трудно сразу это понять.
– Сейчас поймёшь. Только запомни, что звери – это ключ к тайнописи мира. Вот скажи ты мне, что ты знаешь о медведях?
Что я знаю о медведях?
…И вдруг я просто вижу себя в тайге. Мне только шесть лет. Я стою с консервной баночкой, ручка у неё верёвочная. Вот какую корзинку сделал мне мой любимый, мой замечательный папа, пробив гвоздём две дырки для верёвочки! И я сама уже собираю бруснику. Мама где-то в стороне в зарослях стланика тоже увлеклась. Солнце греет чуть-чуть, летают волшебные бабочки, пахнет лиственницей и ягодами…