Творческая эволюция
Tekst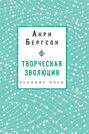


Mine üle audioraamatule
- Maht: 210 lk. 2 illustratsiooni
- Žanr: Välisriigi õppekirjanduse, Filosoofiaraamatud, философия и логика
Итак, при изменении сложного предмета происходит перемещение его частей. Но когда часть изменила свое положение, ничто не мешает ей занять его снова. Группа элементов, прошедших через какое-нибудь состояние, всегда может к нему вернуться, если не самостоятельно, то, по крайней мере, действием внешней причины, возвращающей все на прежнее место. Это значит, что состояние группы может повториться как угодно часто и, следовательно, группа не стареет; у нее нет истории.
Таким образом, здесь ничто не создается, ни форма, ни вещество; то, что есть в группе, то и будет, понимая под тем, что есть, все точки Вселенной, к которым группа имеет отношение. Какой-нибудь сверхчеловеческий разум мог бы вычислить для любого момента положение любой точки такой системы в пространстве. И так как в форме каждой вещи нет ничего, кроме расположения частиц, то будущие формы системы теоретически уже даны ее настоящей конфигурацией. Вся наша уверенность в предметах, все операции над системами, изолируемыми наукой, покоятся на идее, что время не разрушает их. Мы уже касались несколько этого вопроса в предыдущей работе, и мы вернемся к нему в настоящей книге. Теперь же мы заметим только, что абстрактное время t, применяемое наукой к материальному предмету или к изолированной системе, состоит из определенного числа одновременностей или, более общо, соответствий; это число не изменяется, какова бы ни была природа промежутков, разделяющих эти соответствия одни от других. Эти промежутки не вызывают вопросов, когда говорится о неодушевленном веществе; если же их принимают во внимание, то только для того, чтобы присоединить к ним новые соответствия, среди которых может произойти все, что угодно. Здравый смысл, занимающийся только отдельными предметами, как, впрочем, и наука, рассматривающая только изолированные системы, сосредоточивается на концах промежутков, а не вдоль их самих. Поэтому-то возможно было бы предположить, чтобы поток времени помчался с бес конечной быстро той, при которой все прошлое, настоящее и будущее материальных предметов и отдельных систем сразу разместилось бы в пространстве; причем ничего не придется изменять ни в формулах ученого, ни в языке здравого смысла. Число t всегда означает одно и то же. Оно охватывает одно и то же число соответствий между состояниями предметов или систем и точками готовой линии, представляющей «течение времени».
«Непрерывность изменения, сохранение прошлого в настоящем, истинная длительность – все эти свойства, по-видимому, присущи как сознанию, так и живому существу.»
Однако следование во времени представляет бесспорный факт, даже в материальном мире. Наши рассуждения об изолированных системах могут предполагать, что прошлая, настоящая и будущая история каждой из них может быть сразу развернута как веер; тем не менее эта история развертывается так, как будто бы она имеет длительность, аналогичную нашей. Когда мне нужно приготовить стакан сахарной воды, что бы я ни делал, я должен подождать, пока сахар растворится. Этот маленький факт очень поучителен, ибо время моего ожидания – уже не то математическое время, которое одинаково хорошо могло бы применяться ко всей истории материального мира, если бы она сразу развернулась в пространстве. Это время сосуществует с моим нетерпением, то есть с некоторой дозой моей собственной длительности, которую нельзя ни сжать, ни продлить по желанию. Это уже не из области мысли, а из области переживаемого. Это уже не отношение, а нечто абсолютное. Но что же это может означать, как не то, что стакан воды, сахар и процесс растворения сахара в воде представляют несомненные абстракции, и что Всё, из которого они выделены моими чувствами и разумом, развивается, может быть, подобно сознанию?
Впрочем, операции науки, выделяющие и замыкающие системы, не вполне искусственны. Если бы у нее не было объективного основания, то было бы непонятно, почему они вполне пригодны в одних случаях и невозможны в других. Мы увидим, что материя имеет тенденцию к образованию систем, которые могут быть выделены и изучаемы геометрически. Именно в силу этой тенденции мы и даем им определения. Но это только тенденция, имеющая границы, так что выделение никогда не бывает полным. Если же наука производит полное выделение, то делает это только для удобства изучения. Она предполагает при этом, что так называемая изолированная система все же подвержена внешним влияниям. Она просто оставляет их в стороне, потому ли, что считает их слишком слабыми, или потому, что сохраняет право заняться ими после. Несомненно, однако, что эти влияния представляют нити, связывающие данную систему с другой, более обширной, эту с третьей, охватывающей их обе, и так далее вплоть до системы, изолированной наиболее объективно и независимо ото всех, до Солнечной системы в целом. Но и здесь выделение не вполне совершенно. Солнце посылает теплоту и свет дальше самой далекой планеты; с другой стороны, оно движется вместе с планетами и их спутниками в определенном направлении. Оно связано с остальной Вселенной прочными нитями. По этим-то нитям и передается малейшей частице нашего мира длительность, имманентная всей Вселенной.
Вселенная существует в длительности. Чем больше углубляемся мы в природу времени, тем лучше мы понимаем, что длительность означает изобретение, творчество форм, непрерывное изготовление абсолютно нового. Системы, разграничиваемые наукой, существуют только потому, что они неразрывно связаны с остальным миром. Несомненно, что в самой Вселенной, как мы покажем ниже, нужно различать два противоположных движения – «упадок» и «подъем». Первое только развертывает уже готовый сверток. Оно в сущности может произойти почти мгновенно, как спуск заведенной пружины. Настоящим же образом длительность присуща только второму движению, соответствующему внутренней работе созревания и творчества; это движение налагает свой ритм на первое движение.
Ничто не мешает приписать выделяемым наукой системам длительность и тем самым форму существования, аналогичную нашей. Но для этого надо восстановить их связь с целым. То же а fortiori относится и к предметам, выделенным нашим непосредственным восприятием. Определенные контуры, приписываемые нами предмету, получающему таким образом индивидуальность, являются только изображением известного рода влияния, которое мы оказываем на некоторый пункт пространства: когда мы замечаем поверхности и грани вещей, в наших глазах, как в зеркале, отражается план наших предполагаемых действий. Уничтожьте это действие, а следовательно, и те большие дороги, которые восприятие наперед пролагает в запутанной действительности, и индивидуальность тела растворяется в универсальном взаимодействии; это взаимодействие, несомненно, и есть сама действительность.
* * *
Теперь мы рассмотрели материальные предметы, взятые случайно. Но разве нет предметов, имеющих преимущество перед другими?
Мы говорили, что мертвые тела вырезаны из материи природы восприятием, ножницы которого, так сказать, следуют по очертанию линий действия. Но то тело, которое выполняет это действие, которое, прежде чем совершить реальные действия, уже проектирует на материю схему своих виртуальных действий, которому нужно только направить свои чувствительные органы на поток реального, чтобы кристаллизовать его в определенные формы и создать таким образом другие тела, словом само живое тело, является ли оно таким же, как другие?
«Наш интеллект… имеет своей существенной функцией уяснение нашего поведения, подготовление нас к воздействию на вещи и предвидения для данного положения благоприятных и неблагоприятных явлений, могущих последовать за ним.»
Несомненно, что и оно состоит из части протяженности, связанной с остальным пространством, солидарной со всей Вселенной и подчиненной тем же самым физическим и химическим законам, которые управляют любой частью материи. Но в то время, как подразделение материи на отдельные тела совершается только в нашем восприятии, а построение замкнутых систем, материальных точек релятивно нашей науке, живое тело выделено и замкнуто самой природой. Оно состоит из разнородных, дополняющих друг друга частей. Оно выполняет различные друг к другу приспособленные функции. Это индивид, и ни о каком другом предмете, даже о кристалле нельзя сказать этого с таким правом; ибо кристалл не заключает ни разнородности частей, ни различия функций. Конечно, даже в органическом мире трудно определить, что является индивидом и что не является им. Это трудно сделать уже в животном царстве, в растительном же почти невозможно. Эта трудность зависит, впрочем, от глубоких причин, на которых мы остановимся далее. Мы увидим, что индивидуальность содержит бесконечное число степеней, и что нигде, даже у человека, она не осуществилась вполне. Но отсюда не следует, что она не является характерным свойством жизни. Тот биолог, который рассуждал бы как геометр, одержал бы слишком легкую победу над нашим бессилием дать общее и точное определение индивидуальности. Только законченная реальность может получить точное определение, но жизненные свойства никогда не бывают осуществлены вполне, а всегда только осуществляются; это не столько состояния, сколько тенденции. Тенденция же осуществляется целиком только тогда, когда ей не противоречит никакая другая тенденция. Но может ли быть такой случай в области жизни, где, как мы покажем, всегда смешаны взаимно противоположные тенденции? Что касается, в частности, индивидуальности, то, хотя тенденция к ее развитию постоянно существует в органическом мире, но с ней всегда борется тенденция к воспроизведению. Совершенство индивидуальности требует, чтобы никакая часть организма не могла жить отдельно. Но тогда было бы невозможно воспроизведение. Что оно такое, в самом деле, как не построение нового организма из части, отделившейся от прежнего? Индивидуальность сама пригревает своего врага на своей груди. Потребность вечного существования во времени обрекает ее на неполное существование в пространстве. Дело биолога определить в каждом случае доли этих тенденций. Но тщетно было бы требовать от него раз навсегда данного определения индивидуальности, автоматически применимого ко всем случаям.
О жизненных явлениях слишком часто рассуждают так, как будто дело идет о свойствах неодушевленной материи. Нигде смешение не бывает столь очевидным, как в рассуждениях об индивидуальности. Указывая на куски Lumbriculus'а[2], из которых каждый восстанавливает себе голову и потом живет как независимый индивид, на гидру, куски которой становятся новыми гидрами, на кусочки яйца морского ежа, развивающиеся в полные зародыши, задают вопрос, в чем же заключается индивидуальность яйца, гидры или червя? Но из того, что мы получили несколько индивидуальностей, никак не следует, что перед этим не было единой индивидуальности. Я согласен, что если я вижу несколько ящиков, выпавших из шкафа, то я не имею права сказать, что мебель была из одного куска. Но в настоящем этого шкафа имеется только то, что было в его прошлом, и ничего больше, и если он состоит из нескольких разнородных частей, то он и был таким с момента его приготовления. Говоря более общо, неорганические тела, в которых мы и нуждаемся для наших действий и с которыми мы сообразуем наши приемы мышления, следуют простому закону: «настоящее заключает в себе не больше того, что было в прошлом, и в действии содержится то, что уже было в причине». Но предположим, что органическое тело имеет отличительной чертой рост и непрерывное изменение, как об этом свидетельствует самое поверхностное наблюдение; тогда не будет ничего удивительного, что сначала было одно, а потом стало многое. В этом и состоит воспроизведение одноклеточных организмов: живое существо разделяется пополам, и каждая половина является полным индивидом. Правда, у более сложных животных способность воспроизводить целое локализована природой в почти независимых, так называемых половых клетках. Но нечто от этой способности может оставаться в остальной части организма, как показывают факты возрождения, и понятно, что в некоторых исключительных случаях эта способность целиком существует в скрытом состоянии и проявляется при первом удобном случае. Собственно говоря, для того, чтобы иметь право говорить об индивидуальности, вовсе не нужно, чтобы организм не мог разделиться на жизнеспособные части. Достаточно, чтобы организм представлял известную систематизацию частей перед разделением, и чтобы существовало стремление воспроизвести ту же систематизацию в отделившихся частях; именно это мы и наблюдаем в органическом мире. Скажем в заключение, что индивидуальность никогда не бывает совершенной, что часто трудно, а иногда и невозможно указать, что есть индивид и что таковым не может быть названо, но что жизнь, тем не менее, устремляется к индивидуальности и к созданию изолированных и замкнутых систем.
Тем самым живое существо отличается от всего того, что наше восприятие или наука искусственно выделяет и замыкает. Было бы неправильно сравнивать его с предметом (object). Если нужно привести сравнение из области неорганического мира, то живой организм мы скорее должны уподобить материальному миру в целом, чем определенному материальному предмету. Правда, это сравнение было бы не очень удачно, так как живое существо доступно наблюдению, тогда как Вселенная в целом создается мыслью. Но, по крайней мере, наше внимание направляется при этом на существенный характер организма.
Как Вселенная в целом, как всякое сознательное существо в отдельности, так и живой организм имеет длительность. Его прошлое целиком продолжается и действует в настоящем. Нужно ли это понимать иначе, чем то, что он проходит вполне определенные фазы, меняется в возрасте, словом, что он имеет историю? Рассматривая свое собственное тело, я нахожу, что подобно моему сознанию, оно понемногу созревает от детства к старости; оно стареет вместе со мной. Собственно говоря, зрелость и старость являются только свойствами моего тела. А то, что я даю те же названия и соответственным изменениям моего сознания, есть не более как метафора. Если я теперь окину взглядом лестницу живых существ сверху донизу, от самых дифференцированных до наименее дифференцированных, от многоклеточного организма человека до одноклеточного организма инфузории, я встречу даже в этой простой клетке тот же самый процесс старения. Инфузория истощается после известного числа делений; посредством изменения ее среды можно отсрочить момент, когда для ее обновления необходимо соединение нескольких инфузорий; но нельзя удалить этот момент в бесконечность. Правда, между этими двумя крайними случаями, когда организм вполне индивидуален, есть множество других, когда индивидуальность менее выражена, и когда трудно определить в точности, что именно стареет, хотя в какой-то части ее и происходит несомненное отживание. Повторяем еще раз: не существует всеобщих биологических законов, автоматически применимых к любому жизненному явлению. Есть только направления, получаемые видами от жизни. Каждый отдельный вид, организуясь, тем самым утверждает свою независимость; он может следовать своему капризу, отступать более или менее от этого направления, даже возвращаться к пройденному, как будто поворачиваясь спиной к первоначальному направлению. Нам могут указать, что дерево не стареет, так как ветви его верхушки всегда одинаково молоды и способны породить из черенков новые деревья. Но такой организм скорее общество, чем индивид, и все же в нем кое-что стареет, не говоря уже о листьях и внутренности ствола. A каждая клетка, взятая в отдельности, развивается определенным образом. Всюду, где есть жизнь, можно найти следы времени.
Можно сказать, однако, что это только метафора. В действительности сущность механического воззрения состоит в том, что оно считает метафорой всякое выражение, приписывающее времени настоящее действие и собственную реальность. Пусть тогда непосредственное наблюдение показывает нам, что самой основой нашего сознательного существования является память, то есть продолжение прошлого в настоящее, то есть активная и необратимая длительность. Пусть нам указывает размышление, что чем более мы удаляемся от отдельных предметов и систем, выделенных здравым смыслом и наукой, тем более мы имеем дело с действительностью, целиком меняющей свое внутреннее расположение, как будто собирательная память прошлого делает невозможным возвращение назад. И все же механический инстинкт мысли сильнее рассуждений и непосредственных наблюдений. Бессознательно живущий в нас метафизик, существование которого объясняется, как мы увидим ниже, тем местом, которое человек занимает в совокупности живых существ, имеет свои определенные требования, законченные объяснения, неизменные тезисы; все они сводятся к отрицанию конкретной длительности. Нужно, чтобы изменения сводились к распределению или перераспределению частей, чтобы необратимость времени была только видимостью, зависящей от нашего незнания, чтобы невозможность возвращения назад была только бессилием человека поставить вещи на прежнее место. Соответственно этому старение является прогрессивным приобретением или постепенной потерей известных сущностей, может быть, тем и другим вместе. Время же заключает в себе для живого существа столько же реальности, сколько для песочных часов, где при опорожнении верхнего резервуара наполняется нижний, а при поворачивании аппарата все приходит в прежнее положение.
«Время же заключает в себе для живого существа столько же реальности, сколько для песочных часов, где при опорожнении верхнего резервуара наполняется нижний, а при поворачивании аппарата все приходит в прежнее положение.»
Правда, относительно того, что именно приобретается и теряется, начиная с рождения и до смерти, существует разногласие. Иногда указывают на непрерывный рост размеров протоплазмы от рождения до смерти клетки. Более вероятна теория, говорящая об уменьшении количества питательных веществ организма во внутренней среде, обновляющей организм, и об увеличении остающихся неудаленными веществ, которые, накопляясь в теле, в конце концов образуют в нем кору. Или же нужно вместе со знаменитым микробиологом признать недостаточным всякое объяснение старости, не считающееся с фагоцитозом. Мы не беремся решать этот вопрос. Но тот факт, что две теории, одинаково утверждающие постоянное накопление или постоянную потерю известного рода веществ, имеют мало общего в определении того, что именно приобретается или теряется, этого факта достаточно, чтобы видеть, что пределы объяснения были установлены а priori. Чем дальше будет подвигаться наша работа, тем яснее мы будем видеть это; нелегко, думая о времени, отделаться от образа песочных часов.
Причина старости должна быть глубже. Мы признаем, что существует полная непрерывность между развитием зародыша и целого организма. Толчок, в силу которого живое существо растет, развивается и стареет, является тем же толчком, который вызвал фазы эмбриологической жизни. Развитие же зародыша представляет постоянное изменение формы. Если бы мы хотели описать все его последовательные формы, нам потребовалось бы бесконечное время, как всегда, когда дело идет о непрерывном. Жизнь есть продолжение этого развития, начавшегося до рождения. Доказательством этого служит то, что часто мы не можем сказать, имеем ли мы дело со стареющим организмом или зародышем, продолжающим развиваться; таковы случаи с личинками насекомых и ракообразных. С другой стороны, в организмах вроде нашего такие кризисы, как половая зрелость или прекращение месячных очищений, которые влекут полное изменение индивида, вполне аналогичны переменам, происходящим в жизни личинки или зародыша, и однако же они являются составною частью нашего старения. Если они происходят в определенном возрасте и довольно быстро, то все же никто не скажет, что они происходят извне, ex abrupto, просто потому, что достигнут известный возраст, подобно тому, как в двадцатилетнем возрасте люди призываются к отбыванию воинской повинности. Очевидно, что перемена вроде половой зрелости подготовляется все время, начиная от рождения и даже до рождения, и что старение живого существа вплоть до этого кризиса состоит, по крайней мере отчасти, в этом постепенном подготовлении. Короче, то, что есть в старении чисто жизненного, представляет непрерывные, бесконечно малые изменения формы. Несомненно, впрочем, что эти изменения сопровождаются явлениями органического разрушения. С ними-то и связывается механическое объяснение старости. Оно приводит факты склероза, постепенного накопления остаточных веществ, растущей гипертрофии клеточной протоплазмы. Но к этим видимым действиям примешивается внутренняя причина. Развитие живого существа, как и развитие зародыша, отмечает непрерывное влияние длительности, продолжение прошлого в настоящем, а следовательно, некоторое подобие органической памяти.
Состояние неодушевленного тела в данный момент зависит исключительно от того, что происходило в предшествующий момент. Положение материальных точек данной системы, выделенной наукой, определяется положением этих точек в непосредственно предшествующий момент. Другими словами, законы, управляющие неорганической материей, могут быть выражены в принципе дифференциальными уравнениями, в которых время (в математическом смысле слова) будет играть роль независимой переменной. Можно ли сказать то же самое о законах жизни? Можно ли вполне объяснить состояние живого тела из состояния непосредственно предшествующего? На это можно ответить утвердительно, если согласиться а priori объединить живые тела с другими предметами природы и отождествить их для этого с искусственными системами, с которыми оперируют химик, физик и астроном. Но в астрономии, физике и химии это положение имеет вполне определенный смысл; оно означает, что известные, интересующие науку аспекты настоящего могут быть выяснены как функция непосредственного прошлого. Ничего подобного нет в области жизни. Здесь расчет возможен самое большее по отношению к некоторым явлениям органического разрушения. Что же касается, наоборот, органического творчества, явлений развития, которые собственно и образуют жизнь, то трудно даже представить себе, каким образом оно могло бы быть подчинено математическим рассуждениям. Скажут, что эта невозможность зависит только от нашего незнания. Но она столь же хорошо указывает на то, что настоящий момент живого существа не находит полного объяснения в непосредственно предшествующем моменте, что сюда нужно присоединить все прошлое организма, его наследственность и тому подобное. В действительности именно эта вторая гипотеза выражает современное состояние биологических наук, а также и их направление. Что же касается идеи, что какой-нибудь сверхчеловеческий счетчик мог бы подчинять математическому анализу живое тело, подобно тому как это делается с нашей Солнечной системой, то эта идея явилась мало-помалу результатом известного рода метафизики, принявшей более точную форму со времени физических открытий Галилея, и, как мы покажем, всегда представлявшей естественную метафизику человеческого духа. Ее видимая ясность, наше нетерпеливое желание признать ее истиной, поспешность, с которой столько превосходных умов принимает ее без доказательства, наконец, ее соблазнительность для нашей мысли должны были бы нас заставить осторожно с ней обращаться. Ее привлекательность достаточно показывает, что она удовлетворяет некоторой врожденной склонности. Но, как мы увидим ниже, умственные тенденции, созданные жизнью в течение ее развития и ставшие теперь врожденными, образовались совсем не для того, чтобы дать нам объяснение жизни.
<…>
Непрерывность изменения, сохранение прошлого в настоящем, истинная длительность – все эти свойства, по-видимому, присущи как сознанию, так и живому существу. Быть может, можно пойти дальше и сказать, что жизнь, подобно сознательной деятельности, является изобретением и непрерывным творчеством?
* * *
В наши намерения не входит приводить здесь доказательства в пользу трансформизма. Мы укажем только в двух словах, почему в настоящей работе мы принимаем его как достаточно точную передачу известных фактов. Зародыш идеи трансформизма уже находится в естественной классификации живых существ. Натуралист сближает сходные друг с другом организмы, потом делит эту группу на подгруппы, в пределах которых сходства еще больше, и так далее. При этих операциях свойства группы являются общими темами, на которые каждая из подгрупп выполняет по-своему особенные вариации. Но как раз те же самые отношения мы находим в растительном и животном мире между предками и потомками: на канве, передаваемой предком и общей для всех потомков, каждый из них выводит свой особенный узор. Правда, различия между предками и потомками не велики, так что можно усомниться, обладает ли живая материя достаточной пластичностью, чтобы последовательно произвести столь различные формы, как рыбы, пресмыкающиеся и птицы. Но на это сомнение наблюдение дает решительный ответ. Оно показывает нам, что до известного периода развития зародыш птицы едва различается от зародыша пресмыкающегося и что индивид в течение зародышевой жизни развивает ряд превращений, в общем аналогичных тем, через которые согласно эволюционизму проходили виды. Клеточка, полученная из соединения мужской и женской клетки, одна выполняет эту работу посредством деления. На наших глазах самые высшие формы жизни постоянно происходят из самых элементарных, и опыт показывает, что путем эволюции самое сложное может произойти из самого простого. Так ли было в действительности? Палеонтология, несмотря на недостаточность своих документов, убеждает нас в этом, ибо там, где она с некоторой точностью восстановляет порядок последовательности видов, этот порядок оказывается как раз тем, на который указывают выводы эмбриологии и сравнительной анатомии; каждое новое палеонтологическое открытие дает новое подтверждение трансформизма. Таким образом, доказательства, почерпнутые из чистого наблюдения, становятся все надежнее, а с другой стороны опыт устраняет одно возражение за другим. Так, недавние опыты Де Фриза[3], показав, что очень важные изменения могут происходить очень быстро и правильно передаваться по наследству, устраняют некоторые очень серьезные затруднения в теории. Они указывают на возможность значительного сокращения времени биологического развития и делают нас менее требовательными по отношению к палеонтологии. Таким образом, гипотеза трансформизма становится все более и более близкой к истине. Строго говоря, она недоказуема; но кроме уверенности, даваемой теоретическими или опытными доказательствами, существует бесконечно возрастающая вероятность, заменяющая очевидность и стремящаяся к ней как к пределу. Такого рода вероятность и представляет трансформизм.
