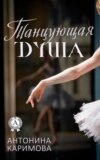Loe raamatut: «Жила-была девочка»
Портрет самой жизни
По правде говоря, мне кажется странным, что повесть Антонины Каримовой «Жила-была девочка…», напечатанная в свое время в журнале «Царское Село» и удостоенная в 2007 году премии им. Н. В. Гоголя на Санкт-Петербургском международном книжном салоне, до сих пор не пришла к читателю в виде книги. И если возникла возможность, наконец, издать эту повесть (вместе с другими произведениями автора) – обеими руками за такое издание!
Повесть «Жила-была девочка…», как и все написанное А. Каримовой, по крайней мере, в прозе – произведение открыто автобиографическое. Но в отличие от многих произведений подобного рода, автор не сосредоточен только на «себе любимом». Страницы ее повествования (всех повестей, включенных в книгу) густо населены людьми – ближними и дальними родственниками, соседями, соучениками, сослуживцами. Перед нами проходит целая галерея судеб, характеров – а ведь ничего более интересного нет на свет, как отмечал еще Достоевский. Наблюдательность, памятливость автора поразительны. В результате перед нами возникает живой, неприкрашенный «портрет» самой жизни – единственной и неповторимой, прекрасной и страшной. Жизни, в которой существуют непутевые пьяницы Степка и Петруха, где алкоголик-сын убивает по пьяни алкоголика-отца, и тут же, рядом, проходят под руководством энтузиасток-учительниц школьные олимпиады, спортивные соревнования, девочки в далеком селе «играют в балерин», мечтают сами когда-нибудь выйти на сцену – и у кого-то эта мечта даже сбывается.
Эмоциональным центром повести «Жила-была девочка…» является история Володи, первого мужа главной героини, честного, доброго и скромного человека, толкового инженера, которого новые «хозяева жизни» втягивают в свои авантюры, обирают, смешивают с грязью и доводят в итоге до безумия, до мании преследования и самоубийства. Такого в нашей литературе, кажется, еще не было.
Не было, как мне представляется, и такой героини как центральный персонаж повести, рассказчицы – прошедшей, можно сказать, все круги житейского ада, знакомой и с самой черной работой, и с предательством, и с безденежьем – но, вместе с тем, и с Апулеем, и с Томасом Манном, и даже с Карлом Поппером, чьи «симпатичные идеи» она подхватывает и пересказывает вслед за Даниилом Граниным. Потому что жажда знаний, тяготение к высокой культуре у нее поразительны столь же, как и жадный интерес к самой жизни.
Важным достоинством книги Антонины Каримовой является то, что при всей неприкрашенности рисуемых ею картин это отнюдь не «чернуха». Автор не плачется, не жалуется на жизнь. Она борется, бьется за себя и своих близких, за понимание добра и справедливости. И с полным основанием делает вывод: «И все-таки у людей есть надежда, а у страны – будущее». Этот вывод выстрадан – и поэтому дорогого стоит.
Илья Фоняков
Жила-была девочка…
«Приподнимай людей, если ты их любишь, а не опускайся с ними еще ниже…»
Александр Нестеренко
Детский сад
С каких же пор я начала осознавать себя на свете? Пожалуй, самая первая запомнившаяся веха моей жизни – детский сад, куда меня привела девятилетняя сестра. Мне около трех лет. У порога Люда шепчет, пугая:
– Веди себя хорошо, а то тебя «выключат».
Я не знаю, что это означает, и полдня кошкой тихо обследую углы, со страхом поглядывая на необычайно большой черный выключатель на стене, с помощью которого, вероятно, и произойдет мое «выключение».
После обеда нас укладывают спать. В спальную комнату заходит в белом халате воспитатель с маской бабы Яги на лице, но голосом Зинаиды Ивановны велит засыпать. С трудом пытаюсь совместить эти два образа, боюсь, но успокаиваюсь, что ничего страшного не произойдет. Стоявшая рядом в кроватке девочка Надя от страха расплакалась и описалась. Воспитатель переодевает ее, а я лежу, замерев тихо, как мышка.
В детском саду единственная кукла достается с утра первому пришедшему ребенку и в течение дня переходит из рук в руки. Какое же счастье, когда она оказывается у меня, прижатая к груди… Играла бы целый день, не выпуская из рук. Кукла целиком пластмассовая, включая огромный бант на голове.
…В детский сад приходит фотограф и ставит в зале треножник с фотоаппаратом. Воспитатель по очереди поднимает девочек на высокий, обтянутый черным дерматином стул. Сунув в руки любимую всеми куклу, говорит, указывая в сторону треножника:
– Смотри туда – птичка вылетит.
Подхожу близко к закрытому черным балахоном фотографу, но никакой птички не вижу. Недоумеваю, почему же все говорят о птичке, а та не вылетает.
Подходит моя очередь фотографироваться. В руках кукла. Но когда фотограф просит смотреть в окошечко, откуда должна вылететь птичка, недоверчиво думаю:
– Не вылетит. Ни у кого не вылетела, значит, и у меня не вылетит…
И тут же с надеждой впиваюсь взглядом в объектив:
– А вдруг все-таки она у меня вылетит?
Дома бабушка Ирина, взглянув на готовый портрет, констатирует:
– Съест ведь глазами-то человека…
А на портрете запечатлена всего-навсего детская мечта о птичке в недоверчивом и, вместе с тем, полном надежды взгляде.
Фотография
Вечером фотограф, обосновавшись в чьей-нибудь избе, встречает по очереди целые семьи. Нарядные дети с родителями идут, как на праздник, запечатлеть себя на память. Младший брат прячется на печку, боится фотографироваться: полагая, что исчезнет, переместившись на открытку. Его как-то уговаривают. На меня надевают взятый напрокат матросский костюмчик.
С портрета девчушка глядит недоверчиво-строго,
не веря, что вылетит птичка и все же надеясь.
В глухую деревню, давно позабытую Богом,
явился фотограф, в дремучести удостоверясь.
Народ – как на праздник, изба переполнена светом,
ковер с олененком, садимся семьей на диванчик.
Брат плакал – боялся: а вдруг он исчезнет бесследно,
и лишь на картинке останется маленький мальчик.
Но сходства с портретом я в зеркале вижу все меньше.
И только в глазах та же самая птичка надежды…
С радостью хожу в детский сад. Нравятся большие многоместные качели во дворе. Зинаида Ивановна подсаживает нас на длинную широкую доску, веля крепко обхватить друг дружку за спину, и раскачивает. Со стороны качели кажутся большой сороконожкой.
И теперь: стоит мне сесть на какие-нибудь качели – тут же внутри поднимается знакомый восторг. Не поверите удаче: недавно, выйдя с компанией из кафе, не устояла перед раскинутым на площади батутом, пустующим из-за непогоды, и, оставив все предрассудки, скинув босоножки, за двадцатку вволю напрыгалась. Наверное, мне повезло не расстаться с детством, сидящим во мне жизнерадостным щенком, готовым в любую минуту вырваться наружу и резвиться.
Капа
1957 год. У старшей сестры Капы в 18 лет проявился скрытый порок сердца. Врачи отказались что-либо делать. Привезенная из районного города, она лежит на кровати с опухшими, как столбы, ногами и слабеет с каждым днем. Однажды просит маму:
– Мамочка, можно, когда я там пообживусь, Тонюшку от вас к себе заберу? Очень ее люблю, мне с ней там веселее будет, да и тебе легче…
Похоронили Капу, а через два месяца со мной случилась беда. Вскипятив утром самовар, мама налила из него воды в ковш, чтобы остыла: отец собирался бриться. Подбежав к столу, я ухватилась за ручку ковша и опрокинула на себя кипяток. С меня, визжащей, стащили платье, а вместе с ним прилипшую к ткани кожу с шеи, плеча, груди…
Повезли в районную больницу, но там не оставили. Привезли назад. Началась каждодневная пытка перевязок. Отец, не выпуская из дрожащих губ папиросы, сбегал пораньше из дому, чтобы не присутствовать при экзекуции. А мама, еще не отойдя от непоправимой утраты Капоньки, превратилась в безмолвную тень. Бедная мамочка, сколько же она перенесла…
Сама я абсолютно ничего не помню: ни боли, ни мучений. Говорят, что снова пришлось повесить люльку и всем по очереди качать меня, верещащую: «Папа, дуй, мама, дуй!».
Вскоре мама родила младшего брата, и меня отправили к бабушке Ирине в деревню Ёргу за девять километров. Выживу так выживу…
Умница бабушка лечит народными средствами: намазывая тельце медвежьим или барсучьим жиром и накрывая простынкой. И никаких бинтов! Дело пошло на поправку. Еще безгрешную отмолила.
Срок моих мучений составил ровно 9 месяцев. Можно сказать, заново родилась…
Позднее мама опасалась, что не вырастет левая грудь. Но она выросла, правда, в шрамах, увеличивающихся с возрастом вместе с телом. С грудным вскармливанием детей проблем не было – молока было поровну. Маленькие детишки, увидев шрам на шее, обычно спрашивали:
– Тебе что – голову отрезали?…
Бабушка
Мне пять лет. Я знаю буквы, читаю и с удовольствием пишу имя сестры на стенах коридора. Строгая бабушка Ирина, взяв в руки веник, показывает, как надо подметать пол; вяжет из пучка сена куклу, но кукла мне не нравится, у нее нет лица. Люблю играть с поленом или со свернутым в рулончик домотканым половичком, ощущая тяжесть ребенка на руках, или с собственным коленом, рисуя на нем послюнявленным химическим карандашом мордашку и укачивая, прижав колено к груди.
Бабушка учит расчесывать колючими щетками шерсть на кудель и прясть пряжу на веретено. Усадив меня на нижнюю часть прясницы в виде большой перевернутой буквы «Г», к верхнему резному концу прялки привязывает расчесанную кудель, а рядом с куделью вешает моток с льняной ниткой. Сначала за льняную нитку привязываю к прялке веретено, как козленка. Поплевав на пальцы, вытягиваю из кудели шерстяную нить и, ссучив, то есть скрутив их вместе, пробую прясть. Самое трудное – это одним движением крутанув, как юлу, веретено, наматывать пряжу. Поначалу веретено не слушалось, норовило выскочить из рук и освободиться от наверченной на него пряжи, да еще и запутать ее. Ссученная нить получалась разной толщины и годилась только на грубые носки или варежки. Удивляюсь, что навык тот остался, наверное, на всю жизнь. Бабушка же научила нескольким молитвам, заговорам.
Один заговор от сглаза звучал очень поэтично:
Встану благословясь, пойду перекрестясь
из дверей дверьми, из ворот воротами
на широкую улицу, в чисто поле.
Во сыру землю уткнусь, белым светом понакроюсь,
частыми звездами поутычусь,
утренней зарей, вечерней-матушкой подпояшусь…
Любимая молитва – ко сну, от которой становилось тепло и уютно и верилось в какой-то Богородицын замочек:
Ложилась я спать ко Духу святому,
крест на мне Христовый – Богородицы замочек.
Лягу я, запрусь, никого я не боюсь,
Аминь святой молитве.
Ангел мой, пойдем со мной
к телу моему на спасенье,
к душе моей на сохраненье.
Аминь.
Бабушка умерла зимой, когда мне исполнилось пять с половиной лет. Помню: стою у гроба вместе с младшим братом Коленькой, трех лет, и плачу, толкая его в бок:
– Плачь! Надо же плакать…
Путешественница
Летом мне исполнилось шесть лет. Гостила у двоюродной бабушки Марии, одиноко живущей в той же деревне Ёрга, где меня выхаживала бабушка Ирина. До войны у Марии был муж Тимофей и четверо сыновей. Уйдя один за другим на фронт, сыновья-погодки – от 18 до 24 лет, погибли, не успев даже повоевать. На Тимофея в конце войны похоронка пришла. В молодости бабушка некоторое время работала горничной в районном городе Великом Устюге. Красивая, с высокой прической, в платье с белым кружевным воротничком – на дореволюционной фотокарточке.
Удивляюсь: у нее нет утюга, даже такого, как у нас, с трубой, страшного, как огнедышащий дракон. Я всегда забиралась в дальний угол, наблюдая, как одна из сестер, начинив утюг, как пирог, тлеющими углями, размахивает им, раскаляя докрасна.
– Чем же ты гладишь? – спрашиваю бабушку.
– Рубелем, – показывает та деревяшки, одна из них с просечками и есть рубель.
Накрутив на скалку полотенце, катнет по столу или по рубелю, и ткань, особенно льняная, становится относительно ровной и мягкой.
Умывальника у бабушки нет. Его заменяет широкая сверкающая медная плошка, типа низенькой кастрюльки с носиком, подвешенная в углу над тазом. Надо приноровиться, чтобы умыться, осторожно наклоняя емкость. Одно неловкое движение – и раскачавшаяся плошка тут же двинет по лбу или обольет водой. Каким отсталым показался мне дореволюционный быт бабушки!
Гораздо современней висевший дома примитивный умывальник с пипочкой, которой так здорово бренчать и брызгаться с братом.
Бабушка Мария, как и бабушка Ирина, строга. Теперь-то я понимаю, в чем дело. Шутка ли – потерять всех красавцев-сыночков, кормильца-хозяина и куковать в одиночестве со своим прошлым, продолжая жить, работать… Но, будучи ребенком, пробыв у нее несколько дней, я затосковала по маме, запросилась домой.
– Обожди, – говорит бабушка, – уедешь завтра на лошади с почтальоном.
– Знаю дорогу, дойду сама, – упрямлюсь я.
Не знаю, как бабушка отпустила меня, скорей всего, я самовольно убежала. Пройдя два километра растянувшихся за деревней полей и спустившись в низину к Студеному ручью у кромки леса, смотрю: дорога раздвоилась.
По какой тропинке идти, не знаю. Что делать?
Бухнулась на коленки, как учила бабушка Ирина, и стала, плача, творить самодельные молитвы:
– Помоги мне, Боженька, подскажи дороженьку, по какой идти…
Пошла по правой. Пройдя метров сто, смотрю – сбоку к ней и другая тянется. Оказывается, в низине шли параллельно и опять в одну сошлись.
Дальше дорога через лес. То потихоньку иду, то вприпрыжку, напевая песенки. Вдруг испугала мысль: а что, если волк? Хоть и слышала, что волки летом не нападают. А вдруг? Отломив прут, со всей прытью мчусь вперед. Устав, успокаиваюсь, замедлив ход. А пути не видно конца.
За три километра до дома, у речушки Крутихи меня настигает всадник на лошади, милиционер.
– Куда это ты, кроха? – спрашивает.
– В свою деревню, – отвечаю, как Красная Шапочка.
– Ну, садись в седло, устала, наверное, – подсадив меня на лошадь, сам пошел рядом.
Еду, не натягивая уздечку, жалею нежные, бархатные лошадиные губы. Обожаю лошадей, но так редко выдается счастье проехаться верхом. Раз в году отец, правда, брал напрокат лошадь, чтобы вспахать огород, и, конечно же, сажал меня на нее, но я не выдерживала без седла, быстро натирала ноги о широкую спину кобылы Чайки и просила ссадить на землю. В удобном кожаном седле я впервые. Лошадь смирная. Счастье – ощущать под собой живое транспортное средство.
Последние два километра дорога, словно прильнувшая к речке, вьется вдоль пожней, а на другом берегу, как куры на насесте, видны дома деревни. Меня распирает гордость, и я уподобляюсь лягушке Гаршина, которой хотелось всем похвастаться, что это она придумала способ путешествия на утках.
«Это я, это я!» – хочется крикнуть, чтобы все подружки увидели меня, важно сидящую на лошади, а рядом дяденьку в военной форме!
А милиционер, оказывается, приезжал по трагическому поводу: в той деревне, где я гостила, утопился взрослый парень из-за неразделенной любви…
Tasuta katkend on lõppenud.