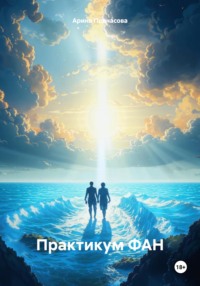Loe raamatut: «Практикум ФАН»
"Невозможно понять человека,
его можно только принять …"
Слова автора
Глава 1. Махровый реалист
«След кометы Трилучия шел над самой головой старого алхимика в ночном небе. Чертыхаясь и хромая, приподнимая тяжелую грязную и прожженную кислотой мантию, он брел в свою башню. На календаре был три тысячи двадцать пятый год после исчезновения человечества с этой планеты. Старый алхимик нес в башню драгоценную находку: большой фолиант неорганической химии древних обитателей Земли. Брел он в сладком предвкушении того, как проведет всю ночь, разбирая у свечи таинственные знаки и формулы. Капюшон мантии то и дело съезжал ему на глаза. Он чертыхался, останавливался, поправлял его и хромал дальше. Дойдя, наконец, до сложенной из бурых кирпичей башни с табличкой «Водонапорная станция» над входом, он с трудом открыл щербатую и перекосившуюся от времени дверь. Протиснувшись в проход, в темноте он оступился и неловко боком толкнул тяжелую дверь. Дверь заскрипела ржавыми петлями как раненный единорог и больно защемила ему его чешуйчатый хвост. Алхимик вскрикнул и пыльные стены башни ответили ему глухим эхом…».
И тут, в стеклянные двери лаборатории интенсивной симуляции Факультета Аналитической Неврологии (ФАН), громко постучали. За стеклом махала руками и подавала знаки к немедленному открытию замков миловидная девушка из секретариата университета. Тучный бородатый Профессор вскинул взгляд на двери, с сожалением закрыл чудесную бумажную книгу про хвостатого алхимика и пошел встречать незваную гостью.
– Лизонька, дорогая, Вы что, не видите? Я занят! У меня сеанс!
– Но, Дмитрий Артемьевич! Вы всегда заняты, а между тем, вы все еще не заверили списки своих студентов на курс «Знаю людей», которые я вам отправила еще третьего дня! Документы не могут больше ждать! Сколько можно?! Я требую, чтобы Вы сделали это сейчас и при мне! Иначе вы опять забудете, как в прошлый раз!
– Лизонька, посмотрите туда, сделайте милость! Вы видите в этой капсуле зеленого от напряжения третьекурсника?! Видите? Мне нужно следить за его жизненными показателями и мозговыми импульсами. Он может в любой момент выйти из транса и напрочь выпасть из учебного процесса! Это очень важная работа, я занят. Списки подождут.
– Вижу я, как Вы заняты. И Лиза покосилась на лежащую на кресле профессора книжку. – Ничего не будет с вашим третьекурсником. Он и медосмотр сегодня у медицинского бота проходил перед погружением в симуляцию, и приборы, если случится нервная перегрузка, запищат как резанные. У нас же хорошая капсула симуляции, последнего поколения. Так, что, уважаемый Дмитрий Артемьевич, давайте, при мне поставьте все нужные галочки на допуск и я оставлю Вас с вашим «зеленым» и вашей книжкой наедине.
– Жестокая, Лизонька! Вы очень жестокая! У меня и органайзера-то с собой нет …, – начал было бубнить Профессор.
Но Лизонька решительно протянула ему свой электронный университетский органайзер. Тот нехотя взял эту маленькую плоскую вещицу, потыкал в нее пальцем и перед ним открылся воздушный экран с нужными ему списками. Пробежав глазами знакомые фамилии, он запечатлел в воздухе свою подпись и свой фирменный «одобрямс», закрыл экран и отдал вещицу секретарше.
– Ну, вот дел-то на пять секунд, а не напомнишь, так вы и не соизволите!
Лиза резко повернулась на своих модных каблуках, словно солдат на плацу и направилась к двери. Профессор вздохнул и вслед уходящей девушке проговорил:
– А поцеловать? Душечка, а поцеловать?
Лиза тут же обернулась к нему и засмеялась.
– Ой, Дмитрий Артемьевич, Вы все шутите! Да, только я не ветеринар осеменитель из вашего старинного анекдота, а вы не корова. За что же мне вас целовать?! И она хихикнула. Кстати, на следующей неделе, не забудьте отправить представления на ваших студентов с рекомендованными для них местами практики. Если пришлете вовремя, обещаю, я вас поцелую, в щечку! Будьте уверены!
Она еще раз хихикнула, и выпорхнула из комнаты. Стеклянные двери закрылись за спиной бойкой секретарши.
– Ну, хоть что-то, – проворчал себе в бороду профессор и вернулся в свое кресло рядом с прозрачной капсулой симуляции, в которой неподвижно лежал молодой человек лет тридцати.
Профессор водрузился в свое кресло. Взял было книгу в руки, но настроение читать куда-то испарилось. Он вглядывался в лицо «погруженного в чужие воспоминания» и вспомнил вдруг, как сам когда-то изучал глубинные сценарии человеческой жизни. Капсула у него была попроще. В ней периодически тошнило от нервной перегрузки. После серии погружений в капсуле, приходилось пропивать курс антидепрессантов, потому что психика погружающегося была полностью дезориентирована, и некоторое время «жила чужим психическим материалом». Но, даже тогда оно того стоило. Эмоции тех воспоминаний накатили на профессора и он, предчувствуя, что сейчас выдаст что-то полезное для работы, мысленно приказал мозговому имплантату писать внутреннюю речевую продукцию, и стал проговаривать у себя внутри то, что само на ум шло:
– Эх, друг мой ситный! Почувствовать себя в шкуре другого человека, побыть другим человеком – это конечно незабываемый опыт, который раз и навсегда лишает человеческий ум многих и многих иллюзий. Другой вопрос, как жить потом с этим знанием дальше. Как жить, когда понимаешь, что человека сформировало такое количество им прожитых событий, которое ни осознать до конца нельзя, ни даже просто поименовать и перечислить. Не то, чтобы исправить! Другой – это другой, и понять, почему в своей жизни он делает именно это и именно так, нет никакой возможности, даже гипотетической.
Не для каждого человека возможно в принципе сначала познать, а потом навсегда отбросить вопрос: «почему Другой – есть Другой?», да еще и психически не разрушиться после этого глубинного понимания. Именно поэтому капсула симуляции всегда имела и имеет личностные и возрастные ограничения применения.
Профессор мысленно приостановил запись. Сам себе хмыкнул насчет внутренней самоцензуры и проговорил свою мысль до конца, уже без всякого мозгового запечатления:
– Вот смотрю я на тебя, парень, и думаю, а вовремя ли ты в эту капсулу лег, чтобы понимать другого человека, да еще женщину? И как вы все на это решаетесь? Ну, ладно я. Тогда мы всех эффектов капсулы не знали. А сейчас же точно известно, что если лечь в капсулу чужих воспоминаний слишком рано, можно дезинтегрировать собственную личность очень надолго тире навсегда. А если очень поздно по возрасту, то гарантированно навредить собственному психическому здоровью, потому что для восстановления после этого опыта нужна гибкая психика и достаточные психические ресурсы организма. И в любом случае – это опасно, даже с соблюдением всех условий. Опасно, ясен пень, а вот такие, как наша секретарша, относятся к этому, как к какой-то чертовой компьютерной игре-бродилке. Вообще не улавливают разницу между быть кем-то другим и играть в кого-то другого. Увы, такие вне естественные эксперименты с психикой сделать безопасными невозможно. Это тебе не игрушки. Эхе-хех!
Профессор вздохнул, вспомнил, что его внутренняя речь в голове сейчас автоматически не пишется и не отправляется в раздел «заметки» на личном ПК. Опять включил усилием воли самописец и продолжил мысленно наговаривать текст чуть с большим преподавательским пафосом:
– Большое знание о других людях всегда стоит больших усилий и больших исходных ресурсов. Очень больших. Даже больших психических ресурсов, чем знания о самом себе. И это конечно печаль… Печаль, печаль, особенно для мужчин, ведь гибкая, адаптивная и способная выносить большую неопределенность психика, прямо скажем не наш конек. У женщин капсула получается лучше. Тут мы им проигрываем с вживанием в опыт другого организма. А вот же, пойди разбери почему! И все же факт, женщины капсулу переносят лучше. Может и правда, Ева, прежде чем Адама на яблоко уговорить, сама с древа познания втихаря регулярно питалась. Сказка ложь, да в ней намек…
Профессор хихикнул, когда представил, как скажет эту шутку студентам.
Потом он глянул еще раз в капсулу и подумал: «Господи, лекциями уже не только говорю, но и думаю. Профдеформация на старости лет во всю голову»!
– А, все равно! Да говорил ведь это уже студентам миллион раз, а не каждый раз выходит так сформулировать! Нужно бы и эту запись вставить в лекцию и заставлять этих торопыг визировать текст о прочтении при подготовке к погружению. Есть, конечно, об этом же учебные тексты, но еще одна напоминалка лишней не будет! Может хоть кого-то из этих вьюношей остановит. Может хоть на сто первой лекции у некоторых жетон осознания опасности провалится куда надо. А то все торопятся, торопятся в капсулу, а потом академы берут «на восстановиться». И этот вот «зеленый» тоже залез, похоже, рано. А теперь вон, страдает. Чего торопился, чего лез? До курса «Знаю людей» дозреть нужно. Мог бы еще годик другой подождать, подрасти… Эх, и ведь не отговоришь их! Торопятся! А потом вот такие «зеленые» лежат, хуже покойников в гробу.
Профессор вздохнул, скомандовал прекратить запись внутренней речевой продукции и решил попить чайку. По русской традиции – сладкого, для сладкой жизни. Он встал и, прежде чем отойти к встроенной кухонной панели, похлопал по стеклу капсулы, и сказал вслух, обращаясь к «зеленому» студенту, хотя конечно тот его и не мог слышать. И все же, чем черт не шутит, мелькнуло у профессора в голове, эффекты полевых взаимодействий ведь до сих пор не изучены, может и услышит. И профессор сказал чуть громче, чем сначала хотел:
– Ты так-то сильно не напрягайся, друг! Правда, какой ты весь бледный, аж зеленый! Плохо тебе, поди… все равно зря ты так стараешься! Не разберешься ты все равно с Афродитой. Богиня! Не нам убогим мужланам чета. Митингуй – не митингуй, все равно получишь х..й! То есть упрешься в ограничения собственного восприятия, сформированного опытом проживания в фаллическом теле. Чтобы понимать женщин нужно отказаться от всего фаллического в себе. Отказаться, только это невозможно, потому что гарантированно потеряешь себя и разрушишь собственную личность. А это та же смерть! Вот, вот! Эх, паря, женщины не познаваемы!
– Ну, ладно психотипы других мужчин, там все еще более-менее понятно и близко по физиологии. А у этих есть матка и скачущий гормональный фон, повышенная психоэмоциональная адаптивность, два речевых центра и густые межполушарные связи в мозгу. У них вариативность используемых психзащит – как мужикам и не снилась. Их природа к родам подготовила, а там ощущения боли двенадцать из десяти. И психическая агрессия ого-го какая, сдерживаемая, между прочим, только мускульно более слабым телом, чем у нас. Будь они физически посильнее, они бы нас, как самки богомола, на завтрак ели. Что они мускульно слабее, нам просто очень сильно повезло. Природа подсуетилась. Ну, очень сильно, но это к слову.
– Короче, сочувствую тебе, братишка! Сочувствую! Напрягаешься, напрягаешься, а все равно ни черта не поймешь! Не было еще в истории человечества таких прецедентов. Вот такая загогулина судьбы: они нас понимают, когда хотят понять, а мы их нет. Так природа задумала и исключений не предусмотрела. Может оно и к лучшему…
Профессор помолчал, еще раз вздохнул, а потом добавил:
– И придется тебе, паря, как всем мужикам в нашей профессии, идти в формалисты или теоретики. Полевая и потоковая работа в психологии – это не для нас. Спечешься, как яблочко в духовом шкафу, помяни мое слово. Тонкое искусство эмпатии и незаметных со стороны интервенций только этим богиням подвластно. Ну да, собственно начальством в психологии тоже работать не плохо. Пойдешь по научной или управленческой части, там должности, звания, почет, студентки молоденькие в рот смотрят, пока у них префронтальная кора не сформируется полностью… Ты сильно-то уж не расстраивайся! Все социальное у тебя будет… Экх, хе-хе… Только женщин нам не понять, мозговая тара не та. Эх, не та. Другие они, понимаешь, другие.
– Ну, хоть посмотришь, как они нас мужиков видят из своего тела и обстоятельств. Вот тебе подсказочка: дай собственной Аниме нащупать структуру в этих женских воспоминаниях. Отдайся своей женской части своей психики и она тебя оттуда выведет, и не будет тебя так колбасить до тошноты. Доверься, даже если ее мир кажется тебе хаосом. Хаос это запредельно организованный порядок. Там расслабляться нужно в ноль, чтобы его ходы и выходы чувствовать. А если усвоишь, что Анимы в принципе непознаваемы, потому что их психические структуры находятся за пределами сознания и имеют иную логику жизни, я тебе уже зачет нарисую за старания. Так что, расслабься! Тяни по малому. А я пойду чайку попью. Не балуй тут…
Профессор похлопал по капсуле рукой, потом сунул свою бумажную книжку под мышку и пошел на другую сторону большой комнаты за чаем сам. Хотя, в принципе, мог бы и робота сгонять, но размяться и немного сбросить напряжение нужно было не только погруженному в чужие воспоминания студенту, но и самому профессору. Он это отлично понимал.
Глава 2. Про «таких» романы не пишут
Она старалась двигаться спокойно и расслабленно. Быстро не говорить. Резко не поворачиваться. И тревожно голову не вскидывать, когда услышит обращение к себе: «Света, вы…». Обстановка была «снова и опять» незнакомой. Незнакомый корабль. Незнакомые люди. Летят в незнакомое место. И черт ее дернул устроить себе очередной стресс и купить обучающий семинар по новинкам в области виртуальной одежды для личных медиа персон и игровых аватаров.
Хотя, какая разница: что так стресс, что так стресс. Поездочка эта все же лучше. По крайней мере, отвлекает. Так сидела бы дома и депрессивно думала: «Зачем жить следующие двадцать лет, подаренные общеобязательным клеточным омоложением от современной медицины?».
А, правда, зачем? Все уже было в жизни, всего было достаточно, было много любви, хорошая работа, путешествия, долгий счастливый брак и дети. Дети и даже внуки уже выросли. Муж не дожил. Друзей почти не осталось. Работа тоже кончилась чисто по возрасту. Тут молодым рабочих мест не хватает, чтобы еще отштукатуренных изнутри и снаружи стариков держать. А главное, не особо и интересно, что там будет дальше и на работе, и вообще.
Новых знакомств не особо хочется. Жить, чтобы только развлекаться? Тоже нет, не манит. Игроманкой, чтобы не выныривать из сетей, как многие сейчас, Света никогда не была. К родственникам каждый день не влечет. Гулять на воздухе в одиночку надоедает, хоть и нравится. И в целом, пусть снаружи она еще ничего, но внутри-то возраст «созерцания жизни» все равно накрывает. И тянет в уединение.
А если в уединении пересидишь чуть дольше своей приятной дозы, то опять депрессия и скука. И сейчас ей только и остается, что развлекаться «тряпочками», как раньше говорили, иногда встречаться с подругами, и каждый божий день мучительно выдумывать, чем бы еще заняться.
Еще повезло, что остался хоть какой-то интерес к эстетике, а так бы совсем опустилась и перестала вставать из постели по утрам. Так что, как не крути, а шкаф и одежда нынче единственная соломинка, что еще держит наплаву мою старую душу, думала Светка. И хорошо, что шкаф нынче удвоенный! Вот ведь когда-то у людей был всего один нормальный материальный шкаф одежды, а теперь как минимум два. И реальная одежда и виртуальная.
Нормальная одежда, «тряпочки», в своих фасонах поменялась не очень. Ну, разве что материалы стали лучше. И забыли все, что такое потеть или мерзнуть в своей одежде. Правда теперь по фасонам реальная одежда все больше напоминает старинные пижамы, широкие комбинезоны, свободные сорочки и шаровары, а у некоторых «любителей» термобелье «в облипку». Ведь все эти скромные кофты и штаны простейшего кроя, считай большую часть времени, никто не видит под «медиа-персоной». Главное, чтобы было по размеру, не стесняло движений и не терло. Зато буйство фантазии модельеров ушло в виртуальный мир, в котором люди бросились создавать свою «новую внешность», «медиа-персону», в просторечье «медийку». Про себя эту одежду Света называла «обои». Но, эти «обои» были ох как недешевы. А нужны были каждый день разные и для компьютерных игр, и для аватаров всех мастей, для жизни и для работы.
Когда все вокруг стали и в обычной жизни носить «медийку», то есть скрывать свою внешность под оптической иллюзией, которую генерировал маленький подкожный гаджет, востребованность и цена виртуальной одежды взлетела до небес. А людские комплексы относительно своей настоящей внешности расцвели со страшной силой. И никакие психологи не могли помочь от притяжения «идеального образа себя» и смены этого образа с такой же быстротой, как меняли перчатки аристократы других времен.
Светку это особо не коснулось, потому что женщина она была уже «древняя», рожденная и прожившая свои первые пятьдесят во времена, когда и вовсе никакой «медийки» не было. И, тем не менее, когда эта сначала игрушечка для элит, а потом и повальное увлечение всех подряд, появилась, Светка тоже не избежала соблазна, выдавать себя ежедневно за кого-то другого.
Всегда выбирать из серии бесплатных вариантов и быть медийно «как все» – ну, такое. Грустно и зачем быть клоном, аки инкубаторская курица? А покупать ограниченные серии и брендовое очень дорого. И программировать что-то оригинальное для себя не просто и нужно учиться. И еще некоторые элементы фасонов и образов защищены авторским правом и нужна лицензия. И за здорово живешь, попу себе, как у очередной звезды медиа, не нарисуешь, она тоже защищена лицензией и страховкой от скачивания. А только собой старенькой, хоть и регулярно клеточно обновляемой по полису гражданина, быть как-то скучно. И такая вот с этими виртуальными платьишками и внешностью катавасия. Короче, проблема! И что делать?
Пару недель назад, Света вытряхнула себя очередной раз из добровольного затворничества и грустных дум про «ничего уже не интересно», и записалась «учиться». Опять. Учиться и учиться, как завещал великий и не в ночь помянутый. Как все это надоело! И учиться без конца надоело тоже! Устала развиваться! Ну, сколько можно? И, кажется все, уже не могу, а все равно приходится, иначе тоска смертная. Последние годы Светка все время жила «на этой растяжке»: тяга к уединению и невозможность пребывать в нем долго, потому что бесит.
Один день она говорила себе: «Ну, почему нельзя жить спокойно и медленно? К черту друзей, к черту редкую работу, к черту визиты к правнукам, там и без меня воспитателей хватает. Давай так поживем! Убежать бы от всего этого в лес. Да там и в лесу уже на каждой кочке системы слежения. Кто-то будет за мной наблюдать, что само по себе неприятно. А еще этот кто-то может решить, что у меня крыша поехала и веду я себя не социально и пора вызвать мне санитарный борт. Нет, даже лес теперь не вариант уединения и возможность для «побыть собой без оглядки». Посижу-ка я дома. Просто посижу!».
А другой день уже ныла: «Не получается! Ну, почему не получается тихо и медленно жить? Потому, что не получается! И в лесу не получится! И дома не получается тоже! Да даже если бы и можно было скрыться в лесу или дома, сколько ты там в этом уединении пробудешь, пока в конец не одичаешь? Через три месяца уже будешь волком выть совсем без людей и выглядеть в собственном доме как бомжиха из под моста!. И работать не вариант. Тут молодых на работу из-за роботов не берут, чего уж нам старым перечницами соваться на постоянную работу? Так, раз в год по великим праздникам, может, позовут «опять не нужный опыт передавать незаинтересованным молодым», и все».
И куда не кинь – всюду клин. И как правильно выбрать ритм общения и уединения – не понятно в Светкином случае совершенно. Потому что кризис у нее. Кризис. Очередной. Возрастной. Потому и мотает по крайностям, а в золотую середину выйти и найти новый образ жизни приятный и ее натуре, и ее возрасту все никак не выходит. А тут еще постоянные изменения во внешней среде и каждый раз внутренний баланс тю-тю. Да чтоб им всем с их беспрестанными инновациями! Такая вот селяви.
В стародавних бы газетах или книгах написали что-то вроде: «Увы. Света была из несчастного поколения двух технологических скачков, когда на веку одного человека техника и уклад жизни полностью поменялись дважды и в своей технологической основе, и по духу. Поменялся и продолжал меняться каждый день. Так что, далеко не каждый мог угнаться за изменением обычаев и освоением новых технологий, которые все прибывали и прибывали, как снежный ком. Вещи вчера еще функциональные и любимые становились бесполезны, быт полностью обновлялся. И у людей, словно каждый день исчезал вчера еще знакомый и обжитой дом, а заодно и самоидентичность. Нигде не копились воспоминания, не оставалось памятных мест. Некуда было прийти, чтобы там все было «как обычно», точно как вчера, знакомо «как двадцать лет назад». Исчезли «альбомы с фотографиями» или просто семейные кинохроники, потому что люди за несколько лет забывали свое лицо из-за часто сменяемой «медийки», не узнавая себя и других на изображениях даже трехлетней давности, не то, что десятилетней.
Даже тело человека под «медийкой» часто менялось и приобретало невиданный до того функционал и неожиданные побочные сложности. Многие старались от этого спастись коллекционированием уже вышедших из употребления вещей. Превращали свои дома в музеи бесполезных вещей. Расцвели виртуальные рынки «антиквариата». «Коллекционером хоть чего-нибудь» становился каждый первый. Люди не успевали адаптироваться и очень скучали по старине, но технический галоп был неумолим. Все искали места с минимальным уровнем «технического шума», инноваций и безостановочного видеонаблюдения технических систем. Но, никакие законы, этические установки и стратегии совладания за этим стремительным обновлением всего и вся уже не могли поспеть. Отчего жизнь становилась сумбурной все больше и больше. А мошеннические схемы ведения бизнеса процветали. Контроль над инновациями был утрачен, и не понятно, временно или навсегда.
Стресс, стресс, сплошной стресс. Нет давным-давно никаких газет, а бумажные книги читают только те, кому по профессии положено или по умственным предпочтениям доступно. Но есть информационные каналы по желанию клиента «из любого утюга»: хочешь через имплантат в своей голове, хочешь через активные панели на стенах домов на улице, хочешь на воздушном экране в транспортном боте, где хочешь, там и смотри и слушай. Понемногу, но обязательно для каждого. И отключить этот поток полностью нельзя, и новости, и политическая повесточка, обязательная для любого гражданина, обязана быть «просмотрена – прослушана», чтобы «центробежные силы инноваций не разорвали общество на куски», как в конституции прописано в разделе «обязанности гражданина». Что, в общем, и правильно, чисто для самосохранения хоть какой-то государственной общности. И, тем не менее, нервирует тоже. Да что поделать?
И вот Светка летит куда-то, что бы хапнуть себе еще одну порцию стресса и научиться самой себе программировать одежду в нужном количестве. Скажи ей кто-нибудь в ее двадцать лет, что так будет, она бы не поверила. И посреди всей этой болтанки очередного возрастного и общественного кризиса чувствует себя она круглой дурой, потому что не понимает, как вокруг нее все устроено. Все экранчики эти воздушные, и все эти подкожные гаджеты, и медиа-персоны эти множественные, как функционируют – большинству людей не понятно. Да и не только это!!!! Не опозориться бы, по своему глубокому техническому невежеству! Вот какие нервы!
А еще, Света никогда до этого не летала на кораблях дорогих частных компаний. И сейчас откровенно пялилась на дизайнерские изыски летательного бота «как коза на новые ворота». Пассажирский салон корпоративного летательного модуля был сравнительно небольшим. Зато отделка была из очень дорогого пластика, внешне не отличимого от красного дерева, горного хрусталя и настоящего серебра. Что называется «под старину». Пассажирские кресла по бокам были напичканы огромным количеством сенсоров с непонятными значками. Только вот Светлана не умеет всем этим пользоваться и спросить об этом сейчас неловко.
Лучше эти сенсоры совсем не трогать. Не хотелось бы некстати и внезапно для себя упаковаться в изолированную от всех капсулу для сна или в медицинскую кабину для экстренной помощи. А по всему было видно, что эти функции во всех креслах салона есть и бог его знает, чем еще напичкано это чудо техники. Ладно, главное осанкой держаться расслабленно и не дергаться, а всю остальную неловкость и растерянность скроет медиа-персона, иллюзорная внешность, которую она себе сегодня выбрала.
Светке вспомнился вдруг момент, когда впервые «надела» медиа-персону и пошла прогуляться по улице. Как ей нравилось сочетание несочетаемого, о котором всегда мечталось. «Красота и абсолютный комфорт в одном флаконе». Она видела свои ноги в чудесных туфлях на высоком каблуке и при этом не испытывала никакого дискомфорта при ходьбе, потому что эти высокие каблуки были только иллюзией. Их видела она и окружающие, а на самом деле, под медиа-персоной, у нее на ногах были мягкие тапочки с амортизирующей подошвой и анатомической стелькой, и идти в них было просто чудо как приятно! А потом был «вау-эффект», когда она, прогуляв по парку около часа и совершенно забыв о том, как она сейчас для всех выглядит, увидела себя в зеркальных поверхностях стен одного универсального здания и не узнала себя.
А когда пришло понимание, что в отражении она, это было похоже на чудо! Надел на себя медиа-персону, забыл про нее и потом вдруг увидел свое сильно улучшенное отражение. Когда это впервые, это еще то переживание удивления и восторга! Жаль, что человек ко всему хорошему быстро привыкает и дальше начинает видеть только недостатки любого положения дел. И с медиа-персонами тоже так случилось.
С одной стороны, медиа-персона облегчала жизнь. Общество тотальной видео слежки и цифрового контроля, породило спрос на технологии невидимости, позволяющие скрывать истинное лицо, но не факт самого присутствия. И после принятия закона «о невидимости», программировать себе «ложную внешность», носить на себе медиа– персону, то есть световую иллюзию, воспринимаемую и камерами и глазами человека, как настоящую реальность, стало принято повсеместно.
А с другой стороны ношение этих медиа-персон породило очередной всплеск неврозов у людей, которые привыкли улучшать свою внешность в медиа-персоне и боялись ее снять потом даже дома и при близких людях, чтобы они не увидели, что человек под медиа-персоной совсем не такой красивый, как показывает. Были, конечно, и обратные случаи, когда люди «уродовали» себя в этой иллюзии или улучшали совсем немного. Но, в любом случае, отношение людей к своей реальной внешности сильно изменилось в худшую сторону.
Света, не была исключением из этого всеобщего процесса и тоже улучшала свою медиа-персону как могла. А чего такого, психологи хоть бывшие, хоть настоящие, тоже люди! «Все прыгнули и я прыгнула, а чего я лысая что ли?» – оправдывалась перед собой Светка иногда. Но, надо сказать, оправдывать себя ей приходилось не часто. Все же, в основном она себя глубоко одобряла и никакого скрытого внутреннего конфликта у нее не было. Как она всегда говорила своим ученикам и коллегам: «…я здоровый невротик, про таких, как я, никто романы не пишет. У меня обычная жизнь и никаких неразрешимых внутренних противоречий. А что психолог, так профессиональный талант дышит, где хочет. И в нормальных людей его тоже иногда заносит».
Короче, Светка любила объясняться, в том числе с самой собой, рефлексировать обо всем подряд, но оправдываться ей случалось сильно не часто. Может потому, что она свято верила своему папе, который ей однажды сказал: «Ты права, какая есть дорогая!». А может она, так же как отец, была просто спокойно уверенным в себе человеком. Без перегиба: ни в сторону большой самоуверенности, ни в сторону каких-то больших сомнений в себе. Обычная психика, ничего супер геройского, без всякого постоянного и огнеупорного внутреннего конфликта или «поломатого места в психике», как еще говорили ее коллеги. О таких, действительно, романов не пишут.
«И чего это у меня сегодня мысли скачут то про одно, то про другое?» – думала Светка, сидя «по струнке» в шикарном под кожу кресле шикарного летательного корабля. «Стресс, однозначно, стресс новизны! Можно было бы уже и привыкнуть. Да, как тут привыкнешь?».