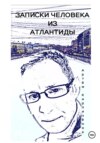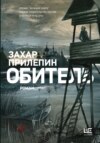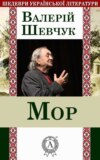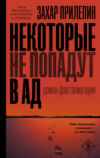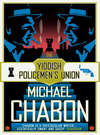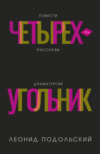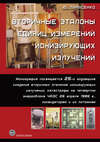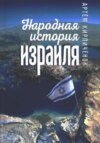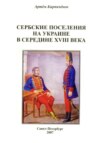Loe raamatut: «Записки человека из Атлантиды»
Посвящается моим родителям
Мы родились в стране,
которой больше нет,
но в Атлантиде той
мы были, мы любили.
Е. Евтушенко
Вместо предисловия
Обстоятельства сложились таким образом, что автор книги, которая сейчас лежит перед вами, получил историческое образование, но несмотря на всю любовь к своей науке, работал по специальности всего несколько лет. Я не имею возможности постоянно заниматься серьезными историческими исследованиями, но могу внести вклад в свой предмет путем создания исторического источника – данных мемуаров.
Когда я изучал на первом курсе введение в историографию, нам объяснили, что наиболее достоверными источниками являются нотариально заверенные сделки, а самыми сомнительным – воспоминания современников. Я не намерен скрывать, что мои мемуары субъективны и политизированы, но, осознавая лежащую на мне ответственность, я старался как можно точнее описать события, свидетелем которых я был. Мне выпала доля видеть последние годы существования Советского Союза, Перестройку, гибель СССР, эмиграцию советских евреев в Израиль, Мирный процесс на Ближнем Востоке в 90-ее годы ХХ века, правление Бориса Ельцина и воцарение Владимира Путина. Эта книга о том, как воспринимал эти потрясения советский подросток и живший в Израиле студент-эмигрант.
Мое второй задачей было сохранение памяти о людях, которых я встретил на своем жизненном пути. Мне не хотелось бы, чтобы их имена канули в Лету, большинство из них прожили честную жизнь и многое сделали для того, чтобы наш мир стал лучше.
Мои прославленные братья
Говард Фаст
Мои прославленные предки
(Пролог)
Несмотря на то, что согласно интернет-информации, фамилия «Кирпиченок» происходит из города Грязовец Вологодской области и ее обладатели в 66% случаев являются нанайцем, я смею предположить, что почти все мои корни теряются где-то в северо-западных владениях Речи Посполитой. Говорят, что в окрестностях Полоцка некогда было целое село, населенное Кирпиченками, которые к настоящему времени постепенно расползлись по городам и весям Белоруссии, а также попали и в некоторые сопредельные государства. К числу последних относился и полулегендарный основатель моего рода – Кузьма Илларионович Кирпиченок (1895 г.р.), который оставил родные картофельные поля ради успеха в столице Российской империи. Будучи молотобойцем, он устроился в железнодорожные мастерские, пополнив славные ряды питерского пролетариата начала XX века. Подобно многим рабочим того времени Кузьма Кирпиченок первоначально жил не в самом городе, а в пригороде, селе Прибытково, расположенном в нескольких километрах от Гатчины. Вероятно, в тех местах он встретил и свою жену Марцелю, которая была младше Кузьмы на шесть лет. Моя прабабка была полячкой и по непроверенным слухам ее отец был старостой в католическом приходе Гатчины.
Политические бури того времени не затронули семьи доброго железнодорожника. Мой прадед честно признавал, что судьбоносные события октября 1917 года он проспал в своей постели, хотя по его словам все рабочие знали, что взятие власти большевиками неминуемо. К началу 1920-хх годов семья Кузьмы Кирпиченка уже перебралась в Петроград на Боровую улицу и именно там, в доме 61, проживала зимой 1922 года, когда на свет появился мой дед Евгений.
Правильное социальное происхождение и хорошая работа обеспечили Кирпиченкам относительное процветание в межвоенный период. Кузьма стал профсоюзным активистом и согласно семейной легенде даже получил в подарок от Калинина велосипед*. Его единственный сын Евгений, несмотря на отсутствие благородных предков, проявил в школе замечательные способности, и сегодня я не могу рассматривать его аттестат зрелости без чувства вины за свою лень и бездарность. По результатам учебы в 1940-ом году Евгений Кирпиченок был освобожден от вступительных экзаменов в ВУЗ и выбрал карьеру юриста.
Война сыграла в судьбе Кузьмы роковую роль. В 1941 году он оказался в Прибытково, когда немцы выбросили десант, отрезавший село от Ленинграда. Понимая, что общение профсоюзного активиста с оккупантами может закончиться очень печально, родные спрятали Кузьму в подвале собственного дома, где он и пробыл до освобождения Прибыткова в 1944 году. Несколько раз к моему прадеду приходили люди, называвшиеся партизанами, и предлагали уйти в лес, но Кузьма каждый раз отвечал им отказом.
Не стоит пояснять, что в те годы подобное поведение не одобрялось и после войны Кузьме Кирпиченку пришлось давать неприятные объяснения руководству. С профсоюзный карьерой было покончено и к тому же прадед потерял квартиру в Ленинграде. Кузьма вернулся в Прибытково на Пионерской улице, где прожил еще почти сорок лет, попивая горькую и подвергаясь остракизму со стороны родных, в зависимость от которых он попал во время пребывание в Underground. В конце концов старый молотобоец угорел пьяным в бане в 1974 ом году. Когда его спросили о том, когда было лучше – до революции или после, он после тягостных раздумий ответил, что лучше было все-таки после, поскольку появилось уважение к рабочему человеку. Фамильное семейное «поместье» в Прибытково перешло к Евгении Лайхтман, сестре моего деда.
Ну а теперь поговорим о еврейском следе. Когда-то южноафриканские родственники прислали мне генеалогию нашего рода, уходящую в лохматый XVIII век, но я в ней ничего не понял. Разрозненные семейные слухи передают сведения о хранившейся в семье бородинской медали, грамоте от царя, позволявшей какому-то моему предку заниматься хлебопашеством вопреки еврейскому происхождению и то, что кто-то из моих пращуров был кантором в рижской синагоге. С уверенность могу лишь написать, что мой прапрадед Тевель был человеком праведным, учил Тору, не работал, а в свободное от благочестия время настрогал одиннадцать детей. Трогательная история повествует, как однажды сей достойный муж встретил на улице девочку и поинтересовался: «Чья ты деточка?» «Твоя папочка», – ответила несчастная сиротка. К сожалению, большинство потомков Тевеля погибли во время Великой Отечественной войны, честно защищая социалистическое отечество. Их могилы раскинуты от пригородов Ленинграда и Курской дуги до Кёнигсберга. Но один из его сыновей еще до революции уехал в ЮАР, и сегодня его правнуки страдают в своих белоснежных виллах под безжалостной пятой черных расистов. Те же из них, кто не захотел такой судьбы, перебрались в Израиль, в кибуц Ган-Шмуэль.
Лазарь Тевелевич Рыкман, мой прадед, был человеком мягкого нрава (эта черта, похоже была общей у всех моих предков мужского пола), но в предприимчивости ему отказать было нельзя. Уже в 16 лет он занимался торговлей леса на территории псковской губернии и современной Латвии. Его жена Эстер, моя прабабка, была родом из Риги. По непроверенным преданиям, еще в детском возрасте она проносила записки революционерам, томившимся в узилищах царизма, а повзрослев, окончила акушерские курсы. Сей факт подтвержден хранящимся у нас дома сертификатом начала XX века размером с хорошую простыню.
У Лазаря и Эстер было трое детей – Аснэ, Бенцион и Рейза. Для меня они были тетей Асей, дядей Беней и бабушкой Розой. Их детство прошло в Невеле, некогда важном еврейском центре на Западе Псковской области. Путешествуя в Беларусь на автобусе, я постоянно проезжаю этот невзрачный населенный пункт, но никак не могу найти время, чтобы выйти и найти следы моей семьи… А ведь в свое время значительная часть ленинградского еврейства вела свою родословною из «Майн штетле Невель…»
При НЭПе Лазарь преуспел и заработал неплохое состояние. В Невеле у семьи был целый дом, в огороде которого, вероятно было закопано золото, а в сарае спрятана валюта. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. НЭП канул в лету, а мой прадед был подвергнут процедуре, описанной в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: Лазарь Тевельевич был заперт в кутузке до тех пор, пока не согласился отдать все золото на нужды индустриализации. Моя бабушка рассказывала, что если бы в тюрьму посадили его жену Эстер, то советская власть не получила бы ни копейки, но, как я уже писал, бойцовский характер не является отличительной чертой мужчин моего рода.
За ликвидацией НЭПа последовал массовый исход евреев из местечек и городков севера-запада в крупные индустриальные центры. Лишившись традиционных гешефтов, аиды решили использовать новые возможности, представляемые советской властью, и мои предки стали частью этого процесса. В Ленинграде Рыкманы поселились на Петроградской стороне, на Гатчинской улице. Вся семья, которая тогда была еще очень велика, обитала в одной большой коммунальной квартире, и это тоже было типично для той эпохи. Лазарь Рыкман, успешно вырвавшись из лап фининспекторов, пополнил ряды советских служащих, а его жена после нескольких лет мытарств на черных работах, устроилась смотрительницей в ТЮЗ, который тогда еще находился на Моховой. Там она тесно сошлась с одной из своих родственниц, которая после 1940-ого года переехала в Ленинград из Риги, и вместе с ней вела долгие беседы на родном немецком языке.
А между тем о себе уже готовилось заявить новое поколение. Старшая дочь Асне окончила университет с дипломом химика и вышла замуж за Бориса Аграната, с которым прожила долгую и счастливую жизнь, омраченную только одним – их единственный ребенок умер в дни блокады. В 1939 году Ася Агранат устроилась в Лесотехническую академию, где и проработала до пенсии. Ее брат Бенцион, Беня, после окончания учебы был призван в армию и с военной службы вернулся только в 1945 году. Сначала в составе войск химзащиты он прошел финскую компанию, а затем, не успев демобилизоваться, отправился на фронт Великой Отечественной войны. Что же касается моей бабушки, то к 1941 году она окончила школу и поступила в Герценовский институт. Именно тогда, за несколько месяцев до начала войны, она, видимо, познакомилась с моим дедом, Евгением Кирпиченком, но где и когда произошло их первое свидание, мы уже никогда не узнаем.
После начала войны пути членов семьи разошлись. Борис Агранат был призван в части ПВО, благополучно прошел всю войну и в 1943 году во время прорыва блокады Ленинграда совершенной случайно встретился с братом своей сестры, Беней. Последний дослужился до звания старшины, получил множество орденов и медалей, но категорически отверг неоднократные предложения пойти на офицерские курсы и остаться на сверхсрочную. Ася Агранат продолжила работу в лабораториях Лесотехнической академии и вместе со своим руководителем профессором Федром Солодком внесла заметный вклад в спасение жизни многих ленинградцев. По свидетельству фармакологического сайта «в 1939 году к профессору Солодкому присоединилась доктор Ася Лазаревна Агранат (1914-1992). Вместе они посвятили жизнь развитию лесной биохимии и создали выдающиеся биологически активные субстанции – биоэффективы. Первые значимые результаты их исследовательского партнерства были получены во время Второй мировой войны. Хлеб, который выдавали ленинградцам во время 900-дневной блокады, был изготовлен из опилок с добавлением особой пищевой целлюлозы и биоактивного экстракта хвои, производимого Солодким, Агранат и их командой. Дневной рацион горожан также включал стакан воды с добавлением экстракта. Сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда избежали развития цинги с помощью этого живительного эликсира. Для лечения ожогов, обморожений и ускорения заживления ран после хирургических операций ученые использовали еще одно новое вещество, выделенное из хвойников, – хлорофилл-каротиновую пасту… Спасение Петербурга и сотен тысяч его жителей были должной наградой за работу Солодкого и Агранат».
Что же касается моей бабушки Розы, то сначала она была мобилизована на строительство укреплений к югу от Ленинграда, а затем поступила санитаркой в госпиталь, работавший при Лесотехнической академии. Зимой 1942 года бабушка вместе с Евгением Кирпиченком, ставшим к тому времени ее мужем, была вывезена по Дороге жизни из Ленинграда. В дальнейшем читатель поймет, почему дед не был призван в армию и не остался в городе. В эвакуации мои предки сначала оказались в Краснодарском крае, где богатство кубанских казаков действительно произвело на них впечатление. Затем, после летнего наступления вермахта, они были вынуждены бежать дальше на восток, в Нижний Тагил, но и там бабушка и дед не задержались. Условия в этом промышленном городе были чрезвычайно тяжелыми, в народе Тагил называли «Нижней Могилой». В итоге молодой паре удалось осесть в Омской области. В отличие от нынешних времен, ленинградцы в былые годы пользовались повсеместным почетом и уважением. Студент-первокурсник Кирпиченок сразу был назначен директором местной школы, а бабушка устроилась там учительницей немецкого языка. Именно там, в Сибири, 9 мая 1943 года родилась моя мама Тинаида.
Понятно, что мне, ребенку, историю бедствий военных лет рассказывали очень скупо и кратко. Бабушка упоминала, что во время постройки укреплений их бомбил немецкий самолет, который шел так низко, что можно было рассмотреть лицо летчика; как шедшая перед ними по Ладоге машина ушла под лед и про то, как она ездила по Сибири на лошади с ружьем в одной руке и с малолетней дочкой в другой. Среди сибирских знакомых моей бабушки была некая немецкая высланная старушка, которая верила, что Гитлер добрый и всех спасет. Все это были обыденные и даже в какой-то степени бытовые моменты того трагического времени. И лишь в зрелом возрасте, пересматривая семейные бумаги, я узнал, что мой прадед Лазарь умер в блокадном Ленинграде в марте 1942 года. Его могила стала первым захоронением на нашем участке Еврейского кладбища жертв 9 Января.
После снятия блокады семья моей бабушки вернулась в город. Дед закончил учебу на юридическом факультете и был распределен в Таганрог. Возможно, вы ожидаете в моем рассказе появления образа безжалостного Фуке-Тревилья или де Вильфора, сотнями отправляющего невинных жертв в мясорубку ГУЛАГА («и до сих пор в Таганроге матери пугают детей свирепым прокурором Кирпиченком»), но я буду придерживаться фактов. Не проработав и года на должности заместителя прокурора Таганрога по прокурорскому надзору и преподавателя юридической школы, мой дед Евгений Кирпиченок умер в возрасте 25 лет от туберкулеза. Памятью о нем в какой-то степени стали моя мать и я. Польско-белорусская кровь в нашем роду оказалась настолько сильнее еврейской, что по двору ходили слухи, будто мама была взята из приюта. Но гены, говорят, иногда проявляются через несколько поколений, и если у меня когда-нибудь родиться черноволосый и горбоносый ребенок, я не буду спрашивать жену, молилась ли она на ночь…
Для моей бабушки, ставшей в 22 года вдовой с ребенком на руках, смерть деда была настоящей катастрофой. Добавлю, что к тому времени начала разворачиваться кампания по борьбе с космополитизмом, что сильно осложнило трудоустройство для «лиц еврейской национальности». С большим трудом Роза Рыкман нашла работу под городом, в Ораниенбауме, и неизвестно как бы сложилась ее жизнь дальше, если бы ей не посчастливилось выйти замуж во второй раз.
…На Приморском шоссе, между Репино и Зеленогорском, в советское время был небольшой придорожный ресторан. Когда мы проезжали мимо него, я всегда уточнял у родителей: «Здесь ли дедушка должен плакать?» Ибо это было место, где познакомились Роза Рыкман и Калман Чернин.
Мой второй дед был родом из Харькова, хотя его имя и фамилия наводили на мысль о том, что семья Черниных происходила из Австро-Венгрии. Будучи ребенком, дедушка попал под трамвай и потерял обе ноги, после чего его мать, бывшая доселе безумной, внезапно сказала сама себе «хватит сходить с ума» и вернулась в здравый рассудок. Не знаю, ведает ли медицина о подобных прецедентах.
По образованию Калман Чернин был математиком. В годы войны он находился в эвакуации в Перьми, а после 1945 года стал работать в филиале Института математики РАН в Ленинграде. Ему светила блестящая академическая карьера, но на его продвижение печально отразилась борьба между еврейскими и русскими кланами математиков, сопровождавшая почти всю советскую эпоху. Якобы сам академик Иван Виноградов заявил, что «Чернин попадет в Академию наук только через мой труп!»
Чернину пришлось перейти от теории к практике и заняться новым современным направлением науки – программированием. В этой области он работал многие годы с будущим лауреатом Нобелевской премии Леонидом Конторовичем, в соавторстве с которым издал книгу с интригующем названием – «Таблицы для численного решения граничных задач теории гармонических функций». При желание, ее можно скачать в интернете и почитать название на досуге перед сном. Все остальное содержание очень напоминает послания от Алекса Юстасу до дешифровки. Возможно, Конторович бывал у нас и дома, но здесь что-то определенное я сказать не могу.
Молодое поколение обычно идеализирует отношения родителей, но мне кажется, что союз бабушки и дедушки был настолько счастливый и крепкий, насколько это было возможно в отношениях между людьми. Речь шла о двух очень сильных личностях, которым пришлось преодолеть в жизни множество препятствий, создаваемых обстоятельствами и людьми. Это были настоящие представители Великого поколения, создавшего Советский Союз.
Со второй половины 1950-х годов жизнь моей будущей семьи, состоявшей на тот момент из трех человек – Калмана и Розы Черниных, а также их дочери Тины Кирпиченок, – несколько стабилизировалась. Конечно, мы знаем, что советские люди всегда жили в убогой нищете, но все-таки к концу десятилетия мои родители получили двухкомнатную квартиру в «академическом» квартале на улице Жака Дюкло. Петербуржцы знают этот милый уголок на берегу Ольгинского пруда, рядом с лесопарком Сосновка. В ту пору это была фактически окраина города и самой большой проблемой был транспорт. Впрочем, вскоре дед приобрел машину, на которой мои предки ездили летом отдыхать в Крым и Молдавию. Из-за инвалидности водить машину ему было нелегко, дедушка часто попадал в аварии. Первая из них произошла почти сразу же после покупки машины, когда выезжая со двора, наш «Москвич» врезался… в машину ГАИ. Но стражи порядка обычно были снисходительны к деду, понимая, как тяжело водить на протезах.
В ту пору Калман Чернин получал заманчивые предложения от различных академических центров – Дубны, Минска, Новосибирска. Семья нередко думала о переезде из Ленинграда и лишь стечением обстоятельств я все-таки родился на берегу Невы, а не в Сибири или на своей исторической родине, в Белоруссии. В конце концов мой дед возглавил вычислительный центр Института Арктики и Антарктики, где и проработал до конца своих дней. Помимо своих прямых обязанностей, он писал программы для различных учреждений, поэтому контакты Калмана Чернина простирались от Геленджика на юге до Владивостока на востоке. В его некрологе говорилось, что дед был основателем школы программирования, но здесь я не могу сказать ничего конкретного, уступая слово историкам науки. Бабушка долгие годы трудилась в знаменитом «Кошкином доме», Институте текстильной промышленности на Большой морской улице. Позднее она любила рассказывать про то, как туда в 60-е годы ХХ века приезжал Косыгин, которого никто не узнал, и про заносчивого африканского студента, любившего кричать: «Мой папа – Царь!». Я, к сожалению, не поинтересовался у бабушки, организовали ли сему отроку экскурсию в Ипатьевский дом. Также среди ее коллег был потомок знаменитой дореволюционной династии книгоиздателей, то ли Брокгауз, то ли Ефрон. В детстве обувь ему завязывали слуги, и за 50 лет деформированного рабочего государства он так и не освоил этой науки, деликатно прося завязать шнурки кого-нибудь из коллег.
После моего рождения бабушка вышла на пенсию и посвятила себя домашним делам.
Тем временем в романтической атмосфере высокого сталинизма подрастала моя мама. Сначала она училась в школе для девочек, где юные институтки разучивали трогательную песенку: «Я – маленькая девочка, танцую и пою, я Сталина не знаю, но я его люблю». Потом, когда мужские женские школы объединили, школьники перешли к развлечениям на свежем воздухе. В Александровском саду у Кронверка Петропавловской крепости, на месте, где похоронены первые строители Петербурга, юные пионеры играли в «Зарницу». Моя мама была назначена командиром одного из отрядов, почему-то в чине «Адмирала». Смысл игры заключался в сдирании погон с противника, но все закончилось хаосом после того, как некий смышленый пионер надел на себя погоны противника, просочился во вражеский отряд и стал сдирать погоны со всех подряд. Началась всеобщая катавасия, и игра была сорвана…
После школы мама поступила в педагогический институт им. Герцена, главную кузницу педагогических кадров нашего города, ныне преобразованную в университет. Это было самое начало 1960-х годов, время советской оттепели и триумфов. То и дело студенткам приходилось бегать на Невский проспект, смотреть на проезжавший кортеж Фиделя Кастро или праздновать полет в космос Гагарина. Одновременно с учебой мама преподавала в вечерней школе для взрослых, а летом ездила с курсом на уборку урожая в колхоз, где-то у границы с Финляндией. Впрочем, все эти сопутствующие мероприятия не помешали ей закончить учебу и поступить в аспирантуру. Любопытно, что в течение ряда лет Тинаида обучалась на специальной программе по подготовке учителей для заграницы, с преподаванием предметов на английском языке. Два раза она должна была отправиться за рубеж, в Африку, но первый раз ее поездка сорвалась из-за военного переворота, а вторая командировка в Танзанию не состоялась из-за моего рождения. В то время мама работала в высшей профсоюзной школе. Появление на свет автора этих строк и начавшаяся тяжелая болезнь положили конец честолюбивым амбициям моей матери, что отравляло ее жизнь до последнего дня.
Приведенные выше сведения исчерпывают мои скромные генеалогические познания. Конечно, читатель спросит – «Да, кто же его отец?» – на что я честно отвечу, что данный текст пишет самый настоящий бастард, вроде Джона Сноу или того веселого паренька, который любил собачек. «Бастард из Ленинграда» или «Артем Поребрик» – Вас это устраивает? Подобный статус освобождает меня от труда написания еще пяти страниц о своих предках по отцовской линии. Тем более, что я о них ничего не знаю.
Если у вас хватило терпения дочитать до этих строк, то вы уже поняли, что я не могу похвастаться благородным происхождением. В моем роду не было пожирателей французской булки, тургеневских девушек и даже простых околоточных надзирателей. До начала XX века прапрапрадедушки и прапрапрабабушки Артема Кирпиченка были неисторическими фигурами, как и абсолютное большинство населения Земли. По всей видимости, они занимались грубым физическим трудом или в лучшем случае какой-то мелкой торговлей.
Драматические события конца XIX-начала XX века открыли им путь на страницы этой рукописи. Уже на первых этапах развития капитализма крестьяне направились в крупные города, а затем, в конце 1920-х годов в процесс урбанизации включились и евреи, чьи традиционные занятия канули в Лету вместе с НЭПом. Советская образовательная революция за одно поколение превратила детей выходцев из низов в ученых, юристов и квалифицированных служащих.
*Я думаю, что мои родители ошибались, и если прадеду кто-то и подарил велосипед, то это должен был быть Каганович, как нарком путей сообщения.