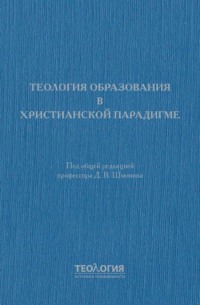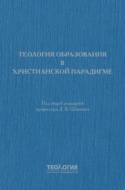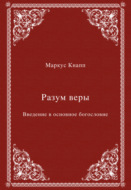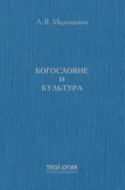Loe raamatut: «Теология образования в христианской парадигме»
© Шмонин Д. В., под общей редакцией, 2023
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2023
Авторы
Игорь Борисович Гаврилов – доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук, доцент,
Епископ Звенигородский Кирилл (Зинковский Евгений Анатольевич) – викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ректор Московской духовной академии, доктор богословия, кандидат технических наук,
Игумен Мефодий (Зинковский Станислав Анатольевич) – ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, профессор Института теологии СПбГУ, доктор богословия, кандидат технических наук,
Священник Игорь Анатольевич Иванов – заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия,
Павел Константинович Иванов – старший преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, магистр богословия,
Дмитрий Андреевич Карпук – доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия,
Протоиерей Константин Александрович Костромин – доцент кафедры церковной истории, проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук,
Священник Михаил Викторович Легеев – доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент,
Священник Димитрий Юрьевич Лушников – заведующий кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент,
Иеромонах Афанасий (Микрюков Димитрий Юрьевич) – старший преподаватель кафедры богословия и библеистики, проректор по воспитательной работе Николо-Угрешской православной духовной семинарии, кандидат теологии,
Священник Максим Сергеевич Никулин – научный сотрудник и преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия,
Роман Викторович Светлов – директор Высшей школы философии, истории и социальных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, доктор философских наук, профессор,
Протоиерей Владимир Федорович Хулап – заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, Dr. Theol., доцент,
Марина Николаевна Цветаева – профессор кафедры филологии и истории искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, доктор культурологии,
Дмитрий Викторович Шмонин – директор Института теологии СПбГУ, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, профессор кафедры богословия и библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры свв. Кирилла и Мефодия, доктор философских наук,
Протоиерей Димитрий Викторович Юревич – заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, доцент.
Предисловие
Цель монографии, которую держит в руках читатель, – обращение к ценностно-мировоззренческим истокам и перспективам отечественной системы образования в широком историко-культурном и философско-богословском (теологическом) контекстах.
Именно христианская школа (от греч. σχολή)1, созерцательная, наполненная ученым досугом жизнь исследователя (βίος σχολαστικός) задает привычные нам параметры школьного и университетского образования, причем не только ценностно-мировоззренческие и содержательные, но и организационные.
Обратим внимание на то, как выглядит классическая учебная аудитория с ее возвышением для учительского стола или профессорской кафедры, школьными партами или скамьями для студентов. Вспомним традиционный характер взаимоотношений между учащим и учащимися на занятиях и extra curriculum, включая нравственные, воспитательные стороны общения, которые в становлении личности молодого человека играют не меньшую роль, чем собственно обучение наукам и практическим умениям.
Вспомним и то, что вся система передачи знаний, которая кажется нам привычной, есть плод христианской образовательной парадигмы, впитавшей в свое время лучшее из античной и иудейской традиций обучения и воспитания, и сохранившейся, как некий стержень, внутри секулярных образовательных моделей и практик.
В наши дни, когда мы вспоминаем о том, что образование не только должно сопровождаться или дополняться воспитанием, но что воспитание, основанное на ценностях высшего порядка, было и остается его органичной частью, книга, посвященная истории и теологии образования, приобретает особое значение.
Авторов объединяет мысль о том, что образование, воспитание, педагогика немыслимы без абсолютных ценностей, и эти ценности не могут существовать «сами по себе», вне религиозного мировоззрения, вне веры, вне традиции.
Содержание книги приобретает особую остроту в период мощных геополитических сдвигов третьего десятилетия XXI в., которые разворачиваются на наших глазах.
По нашему мнению, христианская идея образования способна «перезагрузить», наполнить «вечными» смыслами провозглашаемые в качестве основополагающих принципы современного образования. Среди них: образование на протяжении всей жизни, академическая свобода, значение опыта и практики, критическое мышление и зрелость гражданина, развитие компетенций, а не накопление знаний, приоритет общего образования над специальным, умение учиться, самостоятельное деятельное усилие, интерактивность и сократический диалог2.
Важно вернуть этим принципам ценностно-мировоззренческую основу, и именно в этом, современном контексте рассмотреть то, как зарождалась христианская школа, как она развивалась в течение двух тысячелетий, каковы ее перспективы в новой образовательной парадигме, какова роль в этих новых процессах теологии христианства как религии Спасения, а также тесно связанной с ней православной философско-педагогической мысли.
Для решение основных задач, которые ставят перед собой авторы, уточним два ключевых понятия.
Первое – основные образовательные парадигмы.
Второе – теология образования.
Христианская образовательная парадигма в общем контексте (Д. В. Шмонин)
Основными образовательными парадигмами мы называем крупные исторические формы образования, связанные с определенными историческими эпохами3.
Первая эпоха – древность, которая, конечно, в широком историческом смысле должна вмещать в себя все связанное опытом воспитания и передачи знания у народов Древнего мира. Однако, говоря о сквозной истории образовательных систем, мы оставляем за скобками Китай, Индию, Междуречье, иные части света, цивилизации которых в этом отношении не дают нам возможности говорить о включенности или об их участии в формировании упомянутой выше сквозной истории образования, имеющей глобальное значение и продолжающей господствовать в наше время.
Такую непрерывную (школа, университет) и значимую для современности (просвещение, образование, наука) перспективу задают – в их автономном, но, вместе с тем, пересекающемся и взаимно влияющем друг на друга развитии – пути формирования иудейского и древнегреческого (позднее и древнеримского) образования.
Иудейское воспитание и языческое образование в древнегреческом и древнеримском изводах содержали в себе религиозную компоненту. У иудеев педагогика основывалась на библейском понятии «боязни Бога» (Исх 1:17). В семье воспитание было религиозно и нравственно детерминировано, хотя и достаточно свободно с точки зрения методов; его сменял процесс совместного обучения.
В основании античной педагогики лежала παιδεία, означавшая общую культуру и воспитание. Она была также ценностно ориентирована, поскольку верования составляли неотъемлемую часть античной культуры. Распространив свое влияние на Рим, она сложилась в систему воспитания добропорядочных граждан. Об этом будет подробно рассказано ниже, в соответствующем разделе монографии4.
Поэтому первой основной образовательной парадигмой мы называем парадигму античную или древнюю. Именно она закладывает те религиозно-философские основы понимания цели и задач образования, которые начинают работать «в полную силу», по-новому раскрываясь в перспективе христианства как религии Спасения.
Вторая основная образовательная парадигма может быть названа христианской по своей мировоззренческой сути. Рожденная в синтезе иудейского и античного педагогического наследия, святоотеческого богословия и раннехристианской педагогики, новая образовательная парадигма впитала в себя живое начало ветхозаветной педагогики, нацелив его на внутреннее преобразование, на преображение человека.
В доникейскую эпоху христианское образование ограничивалось воспитанием и было сосредоточено в церковных общинах. Систематический подход к занятиям заложили александрийская и антиохийская школьные традиции, интеграция светских и религиозных дисциплин в которых смогла обеспечить совместимость с греко-римскими программами, но вызвала критику тех, кто выступал за исключительно религиозное воспитание христиан в рамках общины5.
На христианском Западе образование получило развитие в монастырях, начиная с IV в. (монастыри свт. Евсевия Верчелльского, свт. Амвросия Медиоланского и др.). Крупными фигурами, заложившим основы теологии образования, стали великие каппадокийцы, блж. Августин, Боэций6, Кассиодор, свт. Григорий Великий, свт. Исидор Севильский, Беда Достопочтенный и др.
Ответственность церковных институтов за сохранение образования породила школу привычную нам сейчас в обоих смыслах – и как систему воспитания, обучения, передачи знания, и как науку. Это монастырская школа, где учат грамматике, риторике и диалектике, при появлении соответствующих условий добавляя арифметику, музыку, геометрию, астрономию. Только после этого приступают к изучению теологии, которая увенчивает собой содержание образования и наполняет его единым смыслом. Поэтому греческая σχολή и латинская schole могут по праву давать этой парадигме второй название – схоластической.
Карл Великий в конце VIII в. заложил основы средневекового просвещения на основе веры, объединяющей государство и разноплеменной, этнически пестрый народ. Так складывается схоластика, олицетворяющая собой передачу знаний, умений, правил поведения, ценностно-мировоззренческих основ жизни общества от поколения к поколению.
Развитие схоластики в X–XI вв. породило модель, включавшую тривиум и квадривиум, т. е. общее высшее («философское») образование, а затем – высшие науки: теологию, медицину и юриспруденцию; к началу XIII в., уже на университетском этапе, схоластическая модель приобрела основанную на гармонии теологического мировоззрения завершенность.
Можно напомнить некоторые ключевые имена представителей школьно-университетской схоластики: Алкуин из Йорка (ок. 735–804), который педагогически точно описал путь восхождения через свободные искусства к теологии, Ансельм Кентерберийский (1033–1109) и Петр Абеляр (1079–1142), каждый по-своему успешно применявшие рационально-теологические методы к преподаванию, автор «Дидаскаликона» Гуго Сен-Викторский (1096/97–1141) и автор «Сентенций» Петр Ломбардский (ум. 1160), Винсент из Бове (ум. 1264), св. Фома Аквинский (1225–1274), Иоанн Жерсон (1363–1429) и др.
Сформировавшись, достигнув «готической» завершенности в университете, эта теологоцентричная парадигма, однако, уже в эпоху раннего Возрождения начинает размываться. Усложнение системы дисциплин, включение в учебные планы факультетов искусств метафизических, естественнонаучных и психологических курсов увеличивает удельный вес философии как суммы знаний о мире и порождает конфликты между философами и теологами вроде аверроистского кризиса, который во второй половине XVIII в. довольно долго тлел в Парижском университете.
Христианская образовательная парадигма, однако, оставалась несущей конструкцией системы образования в Европе вплоть до XVI в., до Реформации и католического ответа на нее.
Реформация в христианской образовательной парадигме (протоиерей Владимир Хулап)
Реформация стала не только важнейшим событием в западной церковной жизни XVI в., но и предложила новый взгляд на образование, дав мощный толчок к его дальнейшему развитию. Стремление к реформе Церкви привело к глубочайшим изменениям в самых разных сферах европейской общественной жизни, чему способствовала активная поддержка протестантизма со стороны государственной власти. Одновременно быстрое развитие естественных наук, географические открытия, изобретение книгопечатания, либерализация религиозной, общественной и культурной жизни стали важными составляющими новой эпохи в истории христианского образования.
Богословская мысль реформаторов содержала в себе ряд важных основополагающих идей, определивших эту динамику. Спасительная личная вера (sola fide) и получение оправдывающей благодати (sola gratia) как следствие искупительного дела Христа (solus Christus) предполагали необходимость знакомства каждого верующего со Св. Писанием (sola Scriptura), в том числе на родном языке. Благодаря такому прямому доступу к Богу – а не просто на основании вероучительно-сакраментального посредничества Католической Церкви – каждый верующий получал возможность истолковывать Слово Божие, реализуя тем самым свое «царственное священство» (1 Пет 2:9). Такой подход делегитимировал католическую иерархию и устранял принципиальные различия между духовенством и мирянами, предлагая каждому верующему осознанно и критически оценивать все свои поступки согласно Евангелию. Всеобщее священство всех крещеных подчеркивало религиозную ценность каждого христианина и одновременно его личную ответственность за Церковь, ее учение и устройство общества.
На смену централизованной средневековой церковной модели во главе с папой, претендовавшей на обладание единой нерушимой истиной, пришла множественность конфессий, каждая из которых имела свои вероучительные особенности и притязала на правильное понимание Св. Писания. Перед лицом этих различных способов истолкования верующему было необходимо решить, какому из них он сознательно отдает предпочтение и следует в своей жизни. Новые религиозные сообщества должны были не только ясно формулировать свое вероучение, но и передать его другим (напр., детям и молодежи), аргументированно отвечая на возражения противников. Тем самым новое понимание христианской веры требовало систематизированного знания, церковного просвещения и постоянного обучения; образование становилось одной из важнейших сфер, в которой происходила конкуренция христианских конфессий.
Мартин Лютер (1483–1546) вырос в рамках традиционной латинской школьной системы, а затем не только получил университетское образование, но и стал профессором библеистики в Виттенберге. Размышления о воспитании, образовании и роли школ в жизни общества широко представлены в его трудах, причем он предлагает как их богословское осмысление, так и конкретные организационные формы. Два его текста специально посвящены этой тематике: «К членам всех городских советов Германии о необходимости создавать и сохранять школы» (1524 г.)7 и проповедь «О необходимости посещения детьми школы» (1530 г.)8. В них виттенбергский реформатор излагает свое понимание образования и настойчиво призывает городские власти к всемерной поддержке образовательной системы.
В отличие от широко распространенного взгляда той эпохи, согласно которому образование открывало путь к хорошему заработку и высокому общественному положению, Лютер рассматривает его прежде всего в сотериологической перспективе. Образование важно для каждого человека, поскольку именно оно делает возможным восприятие, понимание и применение Слова Божиего, тем самым созидая живущих по евангельской вере христиан. Там, где нет образования, возникает пространство для разрушительного действия диавола, который губит призванные к блаженству человеческие души. Поэтому образование является оружием в рамках всемирной борьбы Творца-Педагога и сатаны, а также особой формой человеческой благодарности Богу за Его дары, особенно за разум9. В такой перспективе государственные власти должны поддерживать систему образования не просто для достижения собственных земных интересов, но прежде всего с целью спасения душ детей и юношества. Образование также играет важную роль в рамках лютеранского учения о двух царствах, которыми управляет Бог: духовном (regnum Christi) – через Слово и Таинства, и земном (regnum civile) – через человеческий разум. В обоих случаях Бог правит миром через человека, который нуждается для надлежащего выполнения своих функций в качественном образовании. Пасторам необходимо глубокое знание Св. Писания и древних языков, на которых оно написано; представителям светской власти для успешной деятельности нужны знания свободных искусств, истории, математики и т. п.10
Важность образования для Лютера настолько высока, что он ставит деятельность школьного учителя на один уровень со служением проповедника, она – «самое нужное, великое и лучшее»11. Школа и образование защищают государство от варварства и служат благополучию общества. Поэтому из его уст неустанно звучат призывы к инвестициям в образовательную систему, которые необходимо рассматривать в качестве одного из государственных приоритетов: «Процветание города заключается не только в том, что в нем строят большие дома, производят много орудий и доспехов… Скорее, самое лучшее для города, его прекраснейший расцвет, его благо и сила заключаются в том, что он имеет множество хороших, образованных, разумных, порядочных, благовоспитанных граждан, которые могут собирать сокровища и блага, сохранять и правильно использовать их»12. Такой подход предполагает стратегические накопление человеческого капитала, наличие которого необходимо для долгосрочного стабильного развития общества. Очевидно, что при этом особую роль играет разум, посредством которого человек получает знания – и это постепенно приводит к эмансипации сферы образования. Светское образование, которое ранее рассматривалось как вторичное и комплиментарное по отношению к духовному, обретает совершенно новое самостоятельное значение, в том числе ввиду протестантского понимания освящения жизни путем созидательного труда, когда профессия (Beruf) является реализацией христианского призвания (Berufung) в повседневности. Лютер неоднократно подчеркивает эту ценность образования как такового: «какая радость, когда человек образован, даже если он никогда не будет занимать должностей – ведь он сможет дома читать сам для себя, общаться с учеными людьми, путешествовать в другие страны»13.
Новую просветительскую функцию в концепции Лютера обретает приходская община: в центре богослужения на немецком языке, понятном для всех участников, теперь находится чтение Св. Писания, проповедь, катехизические тексты и совместно исполняемые церковные песнопения. Перевод Библии Лютера, осуществленный в 1521–1534 гг., заложил основу немецкого литературного языка и дал важный импульс для «демократизации» образования. Новая форма катехизических проповедей подчеркивала важность систематического просвещения верующих в рамках богослужения и приходских занятий. Катехизисы, компендиумы протестантского вероучения, создавались как попытка нормативно зафиксировать новое понимание христианской веры и одновременно обозначить существующие конфессиональные границы (причем не только по отношению к католикам, но и между различными протестантскими течениями)14. Богослужебные гимны – как составленные на основе библейских псалмов, так и новые литургические тексты – играли важную просветительскую функцию в обучении простого народа.
Важным центром лютеранской педагогики также становится семья. Мудрым родителям следует понимать, «что они не могут сделать для Бога, христианства, всего мира, для себя самих и своих детей ничего более важного и полезного, чем хорошо воспитывать своих детей. Ибо это – их самый прямой путь на небо»15. Лютер различает при этом «внешнее», «плотское» образование, направленное на получение материальных мирских благ, и «духовное» воспитание, закладывающее в ребенке необходимые основы его внутренней жизни. Именно здесь необходима правильная расстановка приоритетов, поскольку «ложная естественная любовь ослепляет родителей, так что они более обращают внимание на плоть своих детей, чем на их души»16. Благодаря книгопечатанию каждая семья получила возможность иметь в доме Библию на родном языке для ежедневного совместного чтения и изучения, что заложило основу новой совместной культуры чтения. Образцом постепенно становится «дом пастора» (Pfarrhaus), который после упразднения обязательного целибата обрел новую образовательно-приходскую функцию – если позволяли условия, при нем также могло организовываться обучение17.
Однако полноценное качественное образование может обеспечить только школа, поэтому Лютер выступает за всеобщее образование. Он увещает родителей отправлять своих детей учиться, поскольку это – исполнение заповеди Божией18. Он также подчеркивает, что доступ к школьному образованию должен быть обеспечен для бедных детей и для девочек – хотя такой взгляд не был чем-то само собой разумеющимся в то время19. Школы должны стать привлекательными и обязательными для всех членов общества, однако для их надлежащей работы необходима справедливая оплата труда преподавателя: «Усердного, почтенного учителя… никогда нельзя достаточным образом вознаградить и оплатить его труд никакими деньгами… Однако у нас постыдно этим пренебрегают, не считая чем-то значимым, и они еще хотят называться христианами!»20
Женевский реформатор Жан Кальвин (1509–1564) уделяет вопросам образования не так много внимания, как Мартин Лютер, однако в его церковных уставах и других текстах также высказывается ряд важных богословских мыслей. Бог воздействует на человека как непосредственно, так и через внешние обстоятельства, к которым также относится сфера образования. В своем главном труде «Наставление в христианской вере» Кальвин пишет: «Он использует для этой цели людей, которых ставит своими представителями. Но Он делает это не для того, чтобы облечь их своим достоинством и превосходством, а лишь для того, чтобы воспользоваться ими для собственных деяний, подобно тому, как ремесленник пользуется инструментом»21. Обучение и наставление (doctrina) относятся к важнейшим из этих инструментов, поэтому два из четырех реформатских церковных служений имеют учительные задачи. Учителя (docteurs) ответственны за систему образования, включая богословское образование (la lecture de theologie), пасторы (pasteurs) – за преподавание катехизиса (le catechisme), который для всех верующих – как детей, так и взрослых – является условием осознанной духовной жизни и участия в христианском богослужении22. Все образование должно быть основано на принципе accomodatio Dei, подразумевающем, что Бог «приспосабливается» к человеческой силе постижения. Подобно няне, которая говорит с ребенком не так, как со взрослым, Бог обращается к человеку в соответствии с его уровнем понимания, поскольку иначе люди не могли бы постичь Его весть. Кальвин рассматривает все Божественное действие в истории спасения как «педагогику спасения», церковное образование должно следовать этой спасительной педагогике, ориентируясь на свою целевую аудиторию – в зависимости от ее уровня. Поэтому он образно называет Церковь «школой Христа» (schola Christi), членов общины – «учениками» (discipuli), а Бога – их «высшим и единым Учителем» (summus et unicus doctor)23.
Филипп Меланхтон (1497–1560), один из ближайших друзей и соратников Лютера, получил прекрасное гуманистическое образование, что позволило ему занять кафедру греческого языка в Виттенбергском университете. Характерно название его речи, которую он прочитал перед большим количеством слушателей при своем вступлении в должность в августе 1518 г. – «О реформах образования юношества»24. В своей дальнейшей деятельности он уделял большое значение теоретическим основам связи христианства и образования, а также организационным вопросам развития образовательной системы, подчеркивая необходимость совместного осуществления церковной реформы и реформы образования. В своей «Похвальной речи новой школе» (1526), произнесенной по случаю основания новой школы в Нюрнберге, Меланхтон подчеркивает важность наук и знаний (litterae) для успешного функционирования человеческого общества, для нравственности (virtus) и благочестия (pietas)25. Преподаватели прославляют своей деятельностью Бога и приносят особую пользу людям; между христианской верой и образованием не существует противоречий, в конечном счете они устремлены к одной и той же цели. Обучение открывает человеку новые горизонты духовного познания, поэтому оно не должно быть привилегией только духовного сословия, но его следует сделать доступным для всех, в т. ч. для детей из бедных слоев общества. Он призывает своих слушателей к гражданской ответственности: «Не прилагающий усилий к тому, чтобы его дети получали как можно лучшее образование, не только не выполняет своей обязанности по отношению к Богу, но скрывает за человеческим обликом свой животный образ мысли… Поэтому правильно устроенное общество нуждается в школах, где получает образование молодежь – будущее общества»26. В «Loci communes» (1521), первой попытке систематического изложения лютеранского богословия, он говорит о широком спектре наук своей эпохи, рассматривая их как подготовку и приглашение к изучению Св. Писания (ad scripturas invitare).27 В «Речи об обязательной связи между школами и служением Евангелия» (1543) он особо подчеркивает: Богу угодно, чтобы «и в церкви занимались гуманитарными науками, а голос церкви воспринимался бы как голос учительницы (doctrix)», поэтому «при храмах всегда следует организовывать школы, без образования меркнет свет Евангелия»28. «Наставление визитаторам»29 посвящено вопросам визитации, т. е. контроля качества работы в различных областях церковной жизни. Текст указывает на необходимость материальной поддержки школьных учителей, а также предлагает конкретные образовательные программы, представляющие собой синтез гуманистического и церковного образования. При этом он желает не просто дать определенный набор знаний, но развивать всю человеческую личность в рамках целостного образовательного процесса, объединяющего «духовное» и «мирское» учительство.
Меланхтон был вынужден решать ряд острых проблем в области образования, возникших в ходе Реформации. Если в Католической Церкви богословское образование традиционно требовалось прежде всего для принятия священного сана и монашества, распространение протестантизма привело к закрытию многих образовательных учреждений при соборах и монастырях (преподаватели оставляли сан и вступали в брак, разрушалась прежняя система финансирования и т. д.). С другой стороны, ряд представителей радикального крыла Реформации выступал против гуманистического образования, делая акцент на непосредственном просвещении Духом Божиим30; это могло приводить даже к общественным беспорядкам (например, в Виттенберге в 1521 г.). Очевидно, что для успешного решения возникших проблем требовалось вмешательство светских властей, которые нужно было убедить в необходимости долгосрочной и систематической поддержки образовательной сферы в новых общественных условиях. Именно Меланхтон сыграл в этом важную роль, проводя разъяснительную работу среди протестантских земельных князей и городских советов, создавая новую образовательную систему (без прежней опоры на монастыри), открывая школы, готовя учебники, в которых он стремился объединить христианский и гуманистический подходы. Безусловно, он осуществлял эту деятельность не один, его соратниками были Иоганн Бугенхаген (1485–1558), Иоганн Агрикола в Айслебене (1492–1566), Иоганн Бренц в Вюртемберге (1499–1570), Иоахим Камерарий в Заксене (1500–1574), Иоганн Штурм в Страсбурге (1507–1586) и др. Их силами была создана новая система немецкоязычных школ (прежде всего в Северной Германии)31. Возникновение этого нового общедоступного уровня, в рамках которого дети крестьян также могли овладевать культурой чтения и письма, было важным шагом. До сих пор в основе образования лежало изучение классической латыни (характерно, что еще в 1570 г. ок. 70 % всех книг в Германии издавались на латинском языке), знание которой являлось границей между образованным меньшинством и неграмотным большинством. Именно эта «новая школа» была призвана стать основой развития «новой Церкви». Такая активная деятельность привела к тому, что еще при жизни Меланхтона называли «учителем Германии» (praeceptor Germaniae).
Безусловно, быстрое распространение Реформации было немыслимо без университетов. Характерно, что она началась в 1517 г. в молодом Виттенбергском университете (основан в 1502 г.) – именно здесь были написаны знаменитые 95 тезисов, целью которых был не разрыв с Римом, но начало академической дискуссии. Успеху нового учения во многом способствовала именно университетская среда, предполагавшая широкие научные дискуссии и делавшая акцент на свободном развитии индивидуума. Лютер и многие его соратники первоначально озвучивали свои богословские мысли в кругу студентов, которые затем активно распространяли новые идеи. Многие важные события в истории немецкой Реформации (напр., Лейпцигский диспут) также происходили в форме академических дискуссий, а благодаря книгопечатанию их аудитория быстро расширялась. Новая Церковь нуждалась в своей собственной системе высшего образования пасторов, преподавателей, ученых; латинский язык при этом оставался важным средством интернационализации протестантизма. Поэтому Лютер, резко критикуя традиционную схоластическую образовательную систему своих противников32, одновременно горячо призывал курфюрстов поддерживать университеты в качестве интеллектуальных центров протестантских земель. Так, в 1532 г. евангелическим стал университет в Базеле, в 1535 г. – в Тюбингене, Грайфсвальде и Ростоке, в 1539 г. – в Франкфурте-на-Одере и Лейпциге; в качестве протестантских были основаны университеты в Марбурге (1527), Кенигсберге (1544), Йене (1558). Важнейшим кальвинистским университетом стала основанная в 1559 г. Женевская академия.
Тем самым в XVI в. на Западе возник новый интерес к сфере образования и воспитания. Реформация и государственная власть стремились совместно организовывать и контролировать эту сферу для решения задач, возникающих перед Церковью и обществом. Богословская рефлексия и практические реформы шли рука об руку, в результате появился уникальный симбиоз протестантизма и образования, идеи которого во многом определили динамику развития последующих столетий: всеобщее образование, равенство возможностей, государственная поддержка образования как служение общественному благу, дальнейшее самостоятельное формирование педагогики как науки.