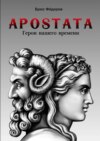Loe raamatut: «Стрельцы окаянные»
Тихо вспомним расстрельные 90-е. Время
отчаянных и отмороженных. Время молчания
ягнят и разгула мясников. Время безудержных
фантазий, обманных слов и лживых обещаний.
Время первобытной китайской
косметики и героинового флёра.
Время оптических прицелов и пластида,
Время золотых тельцов и их пещерных
пастухов.
Корректор Александра Приданникова
Иллюстратор Марина Шатуленко
Дизайнер обложки Мария Бангерт
© Брюс Фёдоров, 2020
© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2020
© Мария Бангерт, дизайн обложки, 2020
ISBN 978-5-0051-7614-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава I. Нас водила молодость
– Ты, паря, должон слухать старших и понимать, а поняв, уважать их, – внушал домовой дворник Потапыч своему собеседнику, лежавшему на неказистом топчане со сбитыми ножками и укрытому с головой пёстрым, в цветных заплатках покрывалом. Из-под покрывала высовывался худосочный зад, затянутый в протёртые до белизны джинсы с распущенным ремнём, а также правая ступня со спущенным до половины давно не стиранным носком зелёно-жёлтого цвета.
– Ты вот думаешь, метла – это что? Палка с ветками? Безделица? Вещь пустяшная? Ан нет. Шалишь. По молодости лет тебе, конечно, не понять, потому как неуч ты беспросветный. И не возражай мне! – Дворник в сердцах прихлопнул по столу ладонью, сплошь покрытой сетью синих венозных протоков. От неожиданного удара разом подпрыгнули вверх тарелка с куском недоеденного бутерброда с плавленым сыром и гранёный стакан с недопитым бурым портвейном. Потапыч грозно воззрился на молчаливого собеседника, за которого он всё больше принимал торчащую из-под одеяла джинсовую задницу. – Эта метла – моя кормилица.
Дворник, не покидая кособокого табурета, обитого поверху ватной подстилкой, с трудом дотянулся до важнейшего атрибута в нехитром арсенале дворницкого инструментария. Движения его были предельно неверными. Он дважды промахивался и дважды отважно балансировал на табуретных ножках. Не выпуская из правой руки стакана с портвейном, он всё же сумел левой ухватить берёзовый черенок и пристроить его к давно небритой щеке. Теперь, со стаканом, заменившим ему державу, и метлой, превратившейся в царский скипетр, Потапыч стал похож на императора одной захолустной африканской страны, грозно взиравшего на своих коленопреклонённых подданных. Подданные воздевали руки вверх и восклицали пронзительными голосами: «Хо!» – славя своего вождя и отца всех народов, над головой которого сияет вечное солнце.
Этой завораживающей картины счастливый обладатель берёзовой метлы не увидел, так как был занят тем, что нацеливал свой валенок с подшитым кожей задником в пятую точку распростёршегося на топчане незнакомца, который, как ему показалось, сознательно никак не реагировал на его глубокомысленные сентенции.
Нет никакого сомнения в том, что дворник в конце концов попал бы – может быть, не с первого раза, но всё же попал бы – в ягодицы молчаливого чухана, но неожиданная мысль, посетившая его затуманенный алкоголем разум, заставила его на время отложить воплощение в жизнь столь коварного замысла.
Просто Потапыч вовремя взглянул на полупустую бутылку портвейна и сообразил, что дорогого его сердцу напитка хватит разве что на ещё один стакан. Делиться таким счастьем он ни с кем не собирался. По этой причине ударник метлы и лопаты решил не тревожить притворявшегося спящим соотечественника и перенёс своё внимание с задницы на его голую пятку, которой продолжил изливать свою душу:
– Ты, Митроха, в нашем деле ещё кутёнок несмышлёный, а меня сам Митрич учил.
Глаза дворника благоговейно закатились к потолку, точно он на нём разглядел образ святого Дмитрия. Нет, разумеется, не великомученика Дмитрия Солунского, а скорее другого страдальца-тёзки, прославившегося своим благочинным житием в сфере городского коммунального хозяйства, перенёсшего многие изощрённые измывательства начальства, которые после безвременной кончины с метлой в руках возвели его на пьедестал покровителя всех дворников и сторожей.
– Откуда тебе знать, недотёпа ты этакий, что сметать пожухлые листья с детской площадки надо с умом. Вначале, ты должон пройтись посередине, оставляя за собой чистую полосу, затем вдоль, также через центр. Одним словом, размечаешь как бы доску для шашек, а мусор с листьями метёшь в угол каждого квадрата и формуешь из них кучки. Усваиваешь?
Должно быть, сию великую премудрость Потапыч услышал не от безвинно почившего от перепоя Митрича, а подглядел у дворового кота, известного всем под невразумительной кличкой Мойша, который имел дурную привычку наведываться ночами в детскую песочницу и облагораживать её своими фекалиями, расставляя вонючие холмики в строго геометрическом порядке.
За недогляд молодые мамаши из третьего и шестого подъездов регулярно устраивали Потапычу выволочку, чем изрядно портили ему настроение. Понятно, что после несправедливых наветов, обрушившихся на его хмельную голову, Потапыч расстраивался и не мог дальше заниматься творческой деятельностью, а потому ставил свою метлу в пыльный угол, запирал на крючок дверь в каморку и доставал из обшарпанной тумбочки заветную бутылку портвейна «Три семёрки», всенародно почитаемого как «три советских удара по печени».
При рождении родители дворника Потапыча назвали своего долгожданного первенца звучным именем Энгельгардт, очевидно позаимствовав его из реестра старонемецких фамилий или рассказов о подвигах некого полковника Энгельгардта, командовавшего отрядом прусских «чёрных гусар» в битве народов под Лейпцигом в 1813 году.
В тот незабываемый осенний день бравый полковник, вскочив на боевого коня, повёл свой отряд на французские позиции. Однако, то ли из-за коварного утреннего тумана, то ли по причине всенощного пьянства накануне в цыганском таборе, но удалой кавалерийский налёт не вполне удался. Голова лихого рубаки всё ещё находилась в плену взрывной смеси из бордоского лафита и искрящейся «Вдовы Клико», придавленной сверху литровой бутылкой семидесятиградусного абсента «Зелёная фея». Однако судьба была милостива к всепьянейшему кутиле.
Ведомые лихим рубакой гусары шустро проскочили мимо батарейных редутов, чем немало удивили артиллеристов старой гвардии французов, и углубились в не обозначенный на карте перелесок далеко от ставки самого Наполеона Бонапарта, где неожиданно для себя наткнулись на выжидавшую в засаде конницу маршала Мюрата. Расслабившиеся французские кавалеристы никак не ожидали появления обнаглевших от пьянства пруссаков. Ряды их были расстроены, а коварный план изобличён, что доставило немалую радость австрийско-русско-прусскому командованию.
Принимая из рук короля Пруссии Фридриха III Железный крест, гусарский полковник скромно умолчал о первопричине своего подвига и предпочёл сосредоточиться на воспоминаниях о черноокой красавице-цыганке Зане и её шелковистых руках, ещё так недавно обнимавших его задубевшую на ветру в череде бесконечных сражений кожу.
О заслугах знатного родоначальника своего имени Потапыч, разумеется, ничего не знал, но также, как и его предшественник, любил побаловать себя красненьким. Он не имел ничего против того, что его когда-то назвали Энгельгардтом, хотя и немало претерпел от своих одноклассников, которые на все лады склоняли и переиначивали столь своеобычное имя.
В эпоху гражданской зрелости пополнив ряды сообщников по уборке листвы и снега, Потапыч был порядком удивлён, как быстро его звучное имя Энгельгардт переехало на место отчества, уронив таким образом честь отца огорошенного дворника. Однако новое прозвание – Потап Энгельгардтович – прижилось, но не очень.
Руководство и сослуживцы постепенно всё больше стали обращаться к нему как Потап Ягелевич – видимо, по причине того, что выговаривать «Энгельгардтович» было нудно и сложно. А может, из-за притянутых к ушам глаз потомка всех гусар, напоминавших зрачки северных оленей, которые, как известно, очень любят мох-ягель, на котором растёт прихваченная морозом брусника. И всё было бы хорошо, если бы беспощадное время в свою очередь не вытравило из его Ф. И. О. упоминание о северном лишайнике, окончательно затвердив лишь дворовый позывной – Потапыч, что, впрочем, скажем прямо, звучит по-семейному и очень тепло.
Что же действительно было записано в паспорте, выданном Потапычу районным ОВД, оставалось тайной за семью печатями до конца его дней.
Незнакомец, который спал или притворялся спящим на топчане в дворницкой у тёплой стенки, вряд ли слышал пьяные увещевания дворника, но его последнюю и самую знаковую фразу из обширной и назидательной речи он всё же уловил:
– Снег чистить – это тебе не песок перекидывать. Тут сноровка нужна. Что толку долбить его, как дятел сосновую корку? Вот ежели, скажем, ты берёшь скребок или движок, то должон вначале плавно вести его по дороге и лишь потом, набрав поболе снега, делаешь им поворот в сторону, к бордюру. Не спеша и не отрываясь от поверхности. Вот такая закавыка. Тут тебе и объёмы, тут тебе и премия. А то чиркаешь, как нехристь, лопатой по льду, а я за тебя отдуваться буду?
Воспоминания о полученной премии, на которую были куплены пара бутылок портвейна и столько же банок с сардинами в масле, подогрели остывающий энтузиазм Потапыча. Сам Бельбель Ушатович, глава ЖЭКа, строгий и бескомпромиссный человек, выбившийся в коммунальные начальники после позорного увольнения из армии за потраву вверенного под его попечительство продовольственного склада, как-то на общем собрании произнёс:
– Ты, Потап Ягелевич, – наша гордость. Ураган, а не человек. Один – ЗИЛ-110 заменяешь.
«Этому конца не будет», – решил про себя обладатель голой пятки и жёлто-зелёных носков и наконец-то высунул из-под одеяла давно нечёсаную и косматую, как у тибетского мастифа, голову. Митрофану Царскосельскому, сокамернику Потапыча по вонючей дворницкой, уж очень не хотелось размыкать закисшие слёзной плёнкой глаза. В кои веки ему приснился порядочный, а главное, многообещающий сон. И надо же было этому чудесному видению посетить его в этой убогой берлоге, в которой и десяти квадратных аршин не наберётся? В которой, помимо полуразвалившегося топчана, прозябали одинокий стол, застланный протёртой до дыр клеёнкой, четыре самодельных табурета, телевизор «Юность» на дребезжащем холодильнике, а также местами проржавевший умывальник под краном, из которого мерно капала холодная вода.
А Митрофану приснилось ровно то, как его игрушечные солдатики из сомнительного олова, добытого кустарным образом из разобранного домового водопровода, которыми он приторговывал, в основном безуспешно, на местном рынке, вдруг выстроились в парадные колонны и под барабанную дробь и посвист флейт двинулись вперёд, чеканя шаг и делая поворот головы строго направо – в сторону украшенной кумачом трибуны, на которой находился их предводитель и генерал Царскосельский.
Стройные колоны маршировали и периодически кричали «ура», откликаясь на призывы своего военачальника, который не забывал приветственно вскидывать руку каждый раз, когда мимо проплывал боевой штандарт. Вместо ружей солдаты несли большие рублёвые монеты, которые складывали у подножия постамента вождя. Металлическая гора всё росла и росла, поднимаясь к самому небу, а на вершине её стоял он, окружённый потоками света и с солнечной короной на голове.
Уже год, как Митрофан открыл собственное дело и начал приторговывать оловянными поделками. В это время в стране эпохи застоя и перестройки вдруг вспыхнула, как бы сама по себе, идея возрождения кооперативной торговли и мелкого производства.
Митрофан Царскосельский решил попробовать себя в новом деле хотя бы потому, что других дел у него на тот момент не было вообще. На пятом курсе он умудрился вылететь из высшего учебного заведения наподобие перезрелого огурца из банки с перебродившим рассолом. Высоты института лёгкой промышленности и будущего технолога – мездрильщика шкур диких и одомашненных животных ему так и не покорились. Пришлось искать вдохновения в областях редких и туманных, приноравливая руки и голову к работе гибщиком труб, испытателем бумажных мешков, лакировщиком глобусов и даже демонстратором пластических поз в полулегальных студиях натурной скульптуры и живописи.
– Не моё это всё, не моё, – приговаривал Митрофан каждый раз, выходя из кабинета очередного захудалого начальника и засовывая во внутренний карман трудовую книжку с вложенными в неё несколькими листками казначейской бумаги рублёвого достоинства.
В итоге, под начало всезнающего Потапыча студент-недоучка попал по дикому случаю, который всегда подстерегает нас на жизненной дороге. Испытав себя во многих передрягах, к торжественному вручению ему берёзовой метлы Митрофан отнёсся совершенно спокойно.
– Поэт в ожидании озарения, – философски провозгласил он, справедливо посчитав, что иметь про запас гарантированный тёплый угол никому не помешает. Дело в том, что собственной жилплощади у гражданина Царскосельского никогда не было. Удобства цивилизации в виде отдельной квартиры или хотя бы комнаты в коммуналке оказались для него недостижимыми. Удачей было хотя бы то, что государство всё-таки расщедрилось на койко-место в студенческом общежитии, наивно рассчитывая на то, что будущий специалист с высшим образованием выедет в дебри Красноярского края, чтобы с энтузиазмом заняться животрепещущими вопросами увеличения маточного поголовья норок, чтобы потом делать из них меховые горжетки.
А ведь было и такое:
Испробовав себя в разных ипостасях, Митрофан всё-таки добился своего и попал в поле зрения властей предержащих.
«Наивная вера в человека может разрушить даже самую передовую идеологию» – к такому неутешительному выводу пришёл первый секретарь райкома, на заседании которого рассматривалось личное дело злостного прогульщика, комсомольца и дебошира Митрофана Царскосельского.
Митрофан стоял у длинного стола, покрытого зелёным сукном, за которым непробиваемой македонской фалангой сгруппировались члены выездной комиссии, собравшиеся воедино, чтобы дать принципиальную оценку моральному и политическому облику неисправимого нарушителя кодекса строителя коммунизма и хронического двоечника из почитаемого миноблпрофобразованием института.
Шло заседание, люди потели и злились оттого, что тратят свое время на пустяки, а студент-тунеядец изо всех сил старался придать своему лицу выражение глубочайшего раскаяния и показать, что он с трепетом и надеждой воспринимает упрёки и проклятия, сыпавшиеся на его бедовую голову из уст комсомольского вожака.
– Как ты дальше собираешься жить, Царскосельский? – звенел на высокой ноте секретарский голос. – Лёгкой дорожкой по жизни пройти хочешь, в то время как твои товарищи денно и нощно должны бороться и побеждать, безответственный ты человек? – Сей пассаж, произнесённый с глубоким чувством, удался главе райкома особенно хорошо.
Перед его глазами ярко вспыхнуло полярное сияние, в котором он сам с райкомовским знаменем в руках идёт на редуты идеологического противника впереди атакующей цепи сотрудников своего аппарата. Безостановочно стучат пулемёты, грохочет артиллерия, земля бугрится от взрывов, и пули рвут в клочья обожжённое порохом полотнище.
Но крепки ещё руки; всё ещё держится иссечённое осколками древко, и уже нацелено в грудь запаниковавшего врага золотое копьевидное оконечье.
Все – герои, победа близка, но нет на фланге бойца Митрофана. Сбежал, подлец, прихватив бутылку общественного портвейна, чтобы поспеть на тусовку с девочками и расписать марьяжный «гусарик». И хлынула тогда в образовавшуюся брешь сабельная конница, сметая райкомовские порядки. А как хорошо всё начиналось.
– Так что же нам делать с тобой? – тяжело вздохнул комсомольский вожак, отгоняя от себя грустные мысли. – Вот и ориентировка на тебя из органов пришла. Опять фарцой занимаешься. Джинсы по общагам толкаешь. Выходит, ни себя, ни нас, твоих наставников, не жалеешь? На статью нарываешься.
Не знал секретарь, что ему делать с непутёвым членом своей организации: то ли с хреном съесть, то ли дать шанс для покаяния? Молод ведь ещё. Все мы не без греха. Может, как-нибудь всё перемелется, мука будет.
О чём не ведал комсомольский начальник, то прекрасно знал Ильич, изображённый на картине, висевшей над секретарским столом. Знал и грустил, прищуривая один глаз и заложив большой палец правой руки за жилетку. Сколько раз всем разжёвывал, растолковывал:
– Нет беды хуже формализма и обюрокрачивания живой теории. Быстро доведут они любое хорошее дело до большой напасти.
Бородатые классики марксизма перерыли все заповедные уголки в книжных сокровищницах Лондонской библиотеки и Гейдельбергского университета, разыскивая противоядие от вековечной привычки человека плевать на лысину ближнего и на всё общественное мироустройство. Так и не смогли найти, как ни пытались. Оставили нам лишь туманные советы и что-то ещё не вполне вразумительное о частной собственности и об инстинкте личного обогащения.
Разумеется, не знал ничего такого и Митрофан Царскосельский, вообще не друживший с такой учебной дисциплиной, как теория марксизма-ленинизма, находя её наукой умозрительной и мало практичной, за что имел невыводной неуд.
Сколько раз преподаватели кафедры научного коммунизма, уподобляясь монахам нищенствующего ордена кармелитов, бросали нерадивому студенту спасительный «конец», надеясь вытащить заблудшую душу из болота мрака и незнания. Ведь свой же он, как ни крути, до самой мозговой косточки узнаваемый выходец из среды передового рабочего класса.
Хотя в этой части они, возможно, ошибались. В той деревне, которую тридцать лет назад появление на божий свет крикливого младенца Царскосельского озарило невиданным прежде сиянием, никто о его матери путного слова сказать не мог. Ну да, была такая смешливая женщина, вроде как Надя, большая затейница по части забористых песенок и кружевных платьев, которые так славно обвивают танцующие ноги.
Родила бойкая дивчина как-то ненароком своего младенца и через год скинула его на руки родной тётке, юркнув в чрево плацкартного вагона, унёсшего её в морозную дымку, куда-то в восточном направлении, искать лучшую долю. Кто был его отец и в какой момент подсуетился удачливый мужичок, сдув пыльцу невинности с бутона-первоцвета, так и осталось неизвестным.
Оттого загрустившая тётка обставила приставной столик и колыбельку подкидыша фотографиями первопроходцев Севера и героев канувших в Лету баталий, чтобы стал её чадонюшка похожим на одного из них.
Не удалось, не получилось Митрофанушке допрыгнуть до вершин классовой сознательности. Утянула его подворотня в свои липкие объятия, и потому, следуя генетической предрасположенности, сбежал и он, махнув на прощание сердобольной тётке своей ладошкой. Огни большого города навечно припечатали его к своим фонарным столбам.
Всё знал о себе студент Царскосельский, но того не знали ни деканат, ни молодёжный заводила факультета, ни даже вооружённые передовой марксистской диалектикой преподаватели, так и не сумевшие вбить в голову упёртого разложенца коммунистические идеи или хотя бы, на худой конец, признательность за свои чистосердечные потуги.
Вся могучая система мирового коммунизма в одночасье сломалась, натолкнувшись на презрительную ухмылку прогульщика и любителя нетрудовых доходов Митрофана. Не выдержала она подлого удара грязной пяткой, который нанёс ей взлелеянный десятилетиями основной общественный элемент.
Темна вода в облацех, особенно если она плещется в душе человеческой.
Однако пока на ветру хлопали крыльями красные знамёна и счастливые демонстранты несли на плечах портреты суровых вождей, студент Царскосельский вынужден был притворяться и стоять навытяжку перед строгим экзаменатором, выслушивая полные коварства вопросы.
– А скажите мне, молодой человек, – кривил губы в ехидной усмешке маститый профессор, – как вы видите дальнейшее развитие социалистической собственности на средства производства в ходе построения коммунистического общества?
Ни переминания с ноги на ногу, ни даже нутряное мычание ничем не смогли помочь Митрофану осчастливить правильным ответом взгрустнувшее человечество. В его сознании, уже тронутом водочным перегаром, никак не умещалось представление о том, что он должен как-то заботиться о сохранении и приумножении народной собственности. Общественной, но ведь не его.
А раз так, то какого рожна, скажите на милость?
В итоге, обобщая опыт пребывания студента Царскосельского в стенах института, трудолюбивая секретарша на марксистской кафедре, Верочка, уже как пару лет зачислившая сама себя в число беспросветных старых дев с крысиными косичками, напечатала прелюбопытнейший документ под общим названием «Что мы можем ожидать от студента 4-го курса Царскосельского?».
Получился двухстраничный меморандум, в начале которого ярко и доказательно был расписан неприглядный облик Митрофана, попавшего в удавку чуждой идеологии. Хотя, по правде говоря, в конце заглавного листа ему всё же давались авансы на выход из-под ярма коварного капитализма при условии неусыпного контроля над ним партии и комсомола.
Вторая же страница означенного опуса благоухала росписью весьма занимательных и оздоровляющих вопросов, которые следовало задавать незадавшемуся и нуждавшемуся в опеке студенту. Причём на его выбор.
Перечень был хорош и, несомненно, отличался глубокой продуманностью, так как был подкреплён протоколом совместного заседания кафедры и деканата. Особенно впечатляли следующие пункты:
«Митрофан и социалистическая революция»,
«Митрофан и борьба с беспризорностью, всеобщей неграмотностью и комчванством»,
«Митрофан и задачи по повышению урожайности яровых на примере отдельных районов Кустанайской области».
Если целинные земли Казахской ССР, по которым пылили комбайны и рокотали трактора, студент Царскосельский ещё мог себе представить, и то не сразу, разве что при помощи опохмелившегося дворника Потапыча, то дело с заковыристым словом «комчванство» обстояло значительно сложнее.
С первой частью работы над билетом Митрофан справился, хотя не без дружной подсказки доцента и ассистента кафедры, и разложил-таки каверзное слово на две составные части. Вышло «коммунистическое чванство». Этимологию «чванства» он кое-как, и то больше по интуиции, осилил и обозначил в своём ответе как нечто нехорошее и очень привязчивое, которое всё время растёт и раздувает нос и щёки по мере того, как руководитель, вылезший из кокона человеческого образа, начинает порхать с одной должности на другую, подбираясь под самые облака.
А вот объяснить, как это существительное может сопрягаться со столь громоподобным прилагательным – «коммунистический» и какие при этом возникают ассоциации, не мог и крошил зубы о гранит ленинского выражения, но сдвинуть с места этот камень так и не сумел. Экзаменаторы смотрели на него, удивлялись, хмурили брови и загадочно о чём-то шептались между собой.
– Ладно, Царскосельский, – заключил председатель комиссии упавшим голосом. – Ставим вам «удовлетворительно». В конце концов, вы смогли нам кое о чём поведать. Это вселяет надежду. Вы переводитесь на следующий курс – так сказать, авансом. Летом, надеюсь, вы уделите внимание нашему предмету и расширите ваш кругозор в области научного коммунизма.
Митрофан сразу согласился и расширил, выскочив из вуза со справкой «о неоконченном высшем образовании».
Поселившись у дворника Потапыча, он тут же применил полученные в институте знания и со всей скрупулёзностью знатока марксистской диалектики дал передовику метлы и мусорного ведра определение, назначив его ярким примером человека нового типа, знаменующего собой начало успешной «смычки промышленного пролетариата с деревенской беднотой и нарождавшимся колхозным крестьянством».
Однако такое выражение вскоре наскучило бывшему студенту-разночинцу, который посчитал его растянутым и чрезмерно вычурным. Поэтому Митрофан недрогнувшей рукой повыкидывал из него лишние определения, сократив наукоподобную фразу до минимума. У него получилось «проледер», которое сразу понравилось ему и было в качестве никнейма приклеено к настырному дворнику – только за то, что тот постоянно мешал Митрофану безмятежно почивать на старом топчане.
Как говорится, проверяй свои выводы временем, которое через месяц-другой указало расстриге из института лёгкой промышленности на то, что в слове «проледер» усматривается излишнее благозвучие, которого злопыхатель Потапыч, безусловно, не заслужил по причине безостановочного треньканья о том, что, мол, снег, забери его холера, всё идёт и идёт и что опять надо вставать в четыре утра и скрести заледеневший асфальт.
В итоге Митрофан решил окончательно остановиться на прозвище Смычок.
Таким образом заслуженный дворник Энгельгардт Потапович превратился в устах своего нахального помощника в Смычка. Однако, Потапыч не обиделся и постепенно привык к своему новому имени и всё более охотно откликался на него.
«Ну и что? – рассудительно думал он. – Кто и как меня раньше не называл. Ничего, до сих пор живой. Побывал и Потапычем, и Ягелевичем, побуду и Смычком. Грех небольшой. Нехай молодёжь клевещет. Главное, чтоб толк с неё был и чтоб листву до кучи собирала».
Единственное, к чему не привык доблестный Потапыч, – это к отсутствию к его персоне общественного внимания. Ну ни в какую ни один городской медвытрезвитель не соглашался брать его на содержание, справедливо полагая, что клиент столь высокого ранга в полдня разложит всех постояльцев учреждения заодно с обслуживающим персоналом, превратив их в алкоголиков краевого масштаба.
Ещё не ведали ни принципиальный секретарь райкома комсомола Никита Закревский, ни злостный нарушитель устава ленинской молодёжной организации Митрофан Царскосельский, что вскоре настанут лихие времена – и их судьбы переплетутся в любовном экстазе на почве совместного распила большой-пребольшой народной собственности на мелкие и мельчайшие частные кусочки, перемещаемые на заокеанские офшорные счета.
Понятие в советские годы жуткое и неведомое, но уже ставшее до невозможности привлекательным и притягательным. Выходит, не зря старались пройдошистые лазутчики из наступавшей армии капитализма, пробираясь в тыл социалистического монолита.
Попервоначалу с оглядкой, а потом всё смелее они вылезали из ширинок голубых джинсов Levi’s, выглядывали из рукавов блузок Zanetti, стекали на язык с пластинок жевательной резинки Super Bubble и проникали в уши и сердца вместе с песнями Led Zeppelin.
А пока что пробуждению Митрофана предшествовало ощущение острого запаха пота, который исходил от сохнувших на электрическом обогревателе портянок дворника. Свои обмотки Потапыч носил, не стирая, шесть месяцев кряду, очевидно, в бессознательной попытке добиться аромата такой ядрёной духовитости, которая навсегда отвадила бы от его каморки любое жэковское начальство, возмечтавшее нанести ему инспекционный визит.
Подтянувшись на руках, Митрофан сел на край топчана и без промедления зарылся пальцами в свою кудлатую башку, выскребая из неё ошмётки перхоти и ости соломы, которой была набита подушка, на которой он спал.
Признаемся, что новообращённый заместитель дворника Царскосельский не очень любил мыться под горячими струями душа. К тому же в дворницкой был только умывальник с холодной водой. А многочисленные друзья, благополучно проживавшие в различных коммунальных квартирах, не очень привечали несостоявшегося философа-мездрильщика по той простой причине, что после посещения им их жилплощади комнату приходилось проветривать два дня подряд. По их мнению, партнёр по преферансу и нелегальной торговле по базарам и в тёмных подворотнях слишком много пил, изрядно курил, чрезмерно рыгал и вообще сильно портил воздух.
– Здорово, – прохрипел Митрофан, рыская глазами в поисках съестного по столу, сплошь уставленному немытыми стаканами и фаянсовыми тарелками с отбитыми кромками, на которых временами встречались крошки неизвестного происхождения.
За время сна своего напарника лихой дворницкий старшина успел не только опорожнить две бутылки красненького, но и проглотить всю незамысловатую закуску.
И всё-таки Митрофану повезло. Он нашёл засохшую корку белого хлеба с надкусанным куском костромского сыра, которую с усердием голодной белки тут же принялся грызть, запивая неразведённой заваркой прямо из носика фарфорового чайничка.
Голова его тут же прояснилась, а остатки сладкого сновидения упорхнули в никуда, похоронив под собой гору из золотых монет.
Суровая действительность окружала состоящего на подряде работника коммунальной службы Царскосельского. Храпел в разбитом полукресле Потапыч; рядом с ним стояли его необыкновенные валенки, а голые ступни со скрюченными пальцами обхватили ножку стола с такой же сноровкой, как это обычно делает предводитель стада бабуинов, взбирающийся по лиане на вершину тропического дерева кастанейро.
Насытившись чем бог послал, Митрофан решил, что должен отправиться по неотложным делам, к которым причислил посещение своего партнёра по коммерческим делам, Касьяна Голомудько, которого он любил именовать не иначе как «индустриальная часть моего бизнеса».
Натянув на ступни ног в рваных носках основательно растоптанные штиблеты с заострёнными мысками, начинающий негоциант удачно пронырнул в рукава и горловину толстого вязаного свитера, обмотал шею шерстяным шарфом красного цвета, накинул короткую куртку на рыбьем меху и, наконец, толкнул от себя дверь дворницкой.
За порогом его ждал февраль перестроечного 1991 года. Быстро вечерело. Знакомый до боли в затылке двор многоквартирного дома замер в ожидании фейерверка ночных событий. На подломленной с одного конца лавочке уже разместилась троица граждан колоритной наружности, решивших, что им самое место на детской площадке, превращённой владельцами собак и неопознанной мелкой живностью, обитавшей в домовых подвалах, в коллективное отхожее место.
На расчищенном от снега деревянном сиденье был расстелен внушительный кусок коричневой бумаги, позаимствованной в ближайшем продуктовом магазине, на котором красовалась горка настриженной неровными ломтями любительской колбасы в целлофане, и буханка ржаного. Рядом возвышался скромный пузырёк «Тройного» одеколона. Однако центральной фигурой пиршественного стола была, несомненно, полулитровая бутылка-чебурашка «Русской водки», с которой чьи-то торопливые пальцы уже успели сорвать «бескозырку» из пищевой жести.
– За что пьём, други? – возвестил первый голос.
– За сегодняшний успех. «Беленькая» с нами, и ещё три в запасе, – живо откликнулся второй.