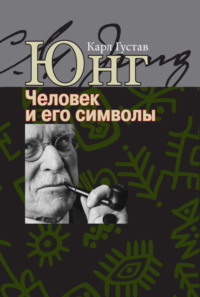Loe raamatut: «Человек и его символы»
C.G.Jung
MAN AND HIS SYMBOLS
Aldus Books Ltd
1964
Перевод с английского В.В.Зеленский

© Зеленский В.В., перевод, 2020
Введение
Джон Фримен
Появление данной книги имеет свою необычную историю, напрямую связанную как с ее содержанием, так и со всем тем, что из нее вытекает. Поэтому я хотел бы рассказать, каким образом она оказалась написанной.
Однажды – это случилось весной 1959 года – Британская радиовещательная корпорация пригласила меня взять интервью у доктора Карла Густава Юнга для Британского телевидения. Предполагалось, что интервью будет, что называется, достаточно «глубоким». В то время я знал о его книге и о его работе весьма мало, а поэтому отправился для знакомства в прекрасный дом Юнга на берегу озера в Цюрихе. Это было началом дружбы, которая столь много значила для меня и, я надеюсь, доставила некоторое удовольствие и Юнгу в его последние годы жизни. Телевизионное интервью ко всей дальнейшей истории отношения не имеет, за исключением того, что оно оказалось успешным, и по странному стечению обстоятельств эта книга также стала завершающим результатом телевизионного успеха.
Дело в том, что одним из тех, кто увидел Юнга на экране, был Вольфганг Фогес, ведущий директор «Алдес Букс». Еще с детства Фогес увлекался современной психологией, когда жил по соседству с Фрейдом в Вене. Увидев Юнга, рассказывающего о своей жизни, работе, идеях, Фогес вдруг сообразил, насколько печально то обстоятельство, что на фоне широкого знакомства образованного читателя с учением Фрейда Юнг до сих пор неизвестен широкой публике, – как ни странно, он всегда считался трудным автором для популярного чтения.
Фактически Фогес и явился создателем «Человека и его символов». Почувствовав во время телевизионной передачи, что между Юнгом и мной существуют теплые личностные отношения, он попросил меня о возможности присоединиться к нему в попытке убедить Юнга изложить его самые основные и важные мысли таким языком и в таком объеме, чтобы они были интересны и доступны взрослому читателю-неспециалисту. Я буквально подпрыгнул от такой идеи и помчался обратно в Цюрих, убежденный, что смогу убедить Юнга в необходимости и важности подобной работы. В течение двух часов почти не перебивая Юнг слушал меня в своем саду, а затем сказал: «Нет». Он сообщил мне это в самой вежливой форме, но с очевидной твердостью; никогда ранее он не пытался популяризировать свои работы и сейчас не был уверен в том, что сможет сделать это успешно. В любом случае он уже стар и достаточно утомлен, так что у него нет желания брать на себя обязательство, относительно которого у него столько сомнений.
От друзей Юнга я знал, что он человек твердых решений. Он обдумывает и взвешивает проблему внимательно, не торопясь, и ответ, который он дает, обычно является окончательным. Я вернулся в Лондон весьма разочарованный и уверовавший в то, что отказ Юнга завершил все мероприятие. Возможно, так бы оно и было, если бы не два вмешавшихся обстоятельства, предвидеть которые я не мог.
Первым стало упорство Фогеса, настоявшего на том, что следует предпринять еще одну попытку уговорить Юнга, прежде чем смириться с окончательным провалом всего начинания. Другим оказалось событие, до сих пор удивляющее меня всякий раз, когда я оглядываюсь на этот период своего прошлого.
Как я уже говорил, телевизионная передача прошла успешно. Она принесла Юнгу огромное количество писем от самых разных людей, в большинстве своем обычных людей, не имевших ни медицинской, ни психологической подготовки, на которых внешний облик, юмор, скромное обаяние этого великого человека произвели сильное впечатление. Эти люди увидели в его взглядах на жизнь и человеческую личность нечто такое, что могло им помочь. И Юнг несказанно радовался не столько получению самих писем (его почта во все времена была достаточно обширной), сколько получению их от людей, которые в обычных обстоятельствах не смогли бы найти с ним никакого контакта.
Именно тогда ему приснился весьма знаменательный сон. (Прочитав книгу, вы поймете, насколько это может оказаться важным). Ему приснилось, что он находится не в своем кабинете, где ведет беседы с известными докторами и психиатрами, съезжавшимися к нему со всего света, а в каком-то общественном месте и обращается к огромному множеству людей, которые слушают его с жадным вниманием и ПОНИМАЮТ ВСЁ, ЧТО ОН ГОВОРИТ…
Когда через неделю-другую Фогес повторил просьбу о том, чтобы Юнг создал книгу не для философов или врачей-клиницистов, а для широкой публики, Юнг дал себя уговорить. Правда, он выставил два условия. Первое – книга будет написана им совместно с группой его ближайших последователей, с помощью которых он пытался воплотить в жизнь свои идеи и методы. Второе – то, что мне поручается задача координации работы и разрешения всех проблем, могущих возникнуть между авторами и издателем.
Дабы читателю не показалось, что мое введение выходит за пределы разумной скромности, хочу тут же сообщить, что я был весьма признателен за второе условие, хотя и с некоторой оговоркой. Весьма скоро я понял главную причину, по которой выбор Юнга пал на меня. Он рассматривал меня как человека разумного, но далеко не исключительного, интеллектуального, но без какого-либо серьезного знания психологии. Юнг видел во мне «среднего читателя» данной книги; то, что мог понять я, было бы понятно и всем остальным, все то, что отпугивало своей непривычностью, могло показаться неясным и трудным и для других. Мало обрадованный подобной оценкой своей роли, я тем не менее скрупулезно настаивал (порой, возможно, к большому раздражению соавторов) на том, чтобы каждый параграф был написан и – если это требовалось – переписан до такой степени ясности, которая позволяла бы мне сказать с уверенностью, что книга всецело обращена к широкому читателю и сложные темы, поднимаемые в ней, раскрыты с предельной и впечатляющей простотой.
После долгого обсуждения было решено, что темой книги будет Человек и его Символы. Юнг самолично пригласил для этой работы своих сотрудников д-ра Марию-Луизу фон Франц из Цюриха, вероятно своего ближайшего профессионального конфидента и друга; д-ра Джозефа Л. Хендерсона из Сан-Франциско, одного из наиболее известных и доверенных американских юнгианцев; миссис Аниэлу Яффе из Цюриха, которая будучи опытным аналитиком, работала личным секретарем Юнга и его биографом; и д-ра Иоланду Якоби, являвшуюся после Юнга наиболее профессиональным автором среди членов юнговского кружка в Цюрихе. Все четверо были выбраны отчасти потому, что были опытными специалистами в заданных темах, но также и по причине того, что все они пользовались полным доверием Юнга и были способны к самоотверженной работе по юнговскому плану, как члены единой команды. Юнг сам определил ключевые темы и структуру книги, наблюдал и направлял работу своих соавторов и написал стержневую главу «Подход к бессознательному».
Последний год жизни Юнга был посвящен главным образом данной книге, и его собственный раздел был полностью завершен еще до последовавшей 6 июня 1961 года смерти (Юнг закончил редактуру текста за десять дней до начала болезни), главы же, написанные его соавторами, были одобрены им вчерне. После смерти Юнга в соответствии с его указаниями всю ответственность за окончание работы взяла на себя д-р фон Франц. Название книги «Человек и его символы» и ее общие черты были детально проработаны самим Юнгом. Глава, подписанная его именем, – его собственная работа (кроме нескольких редакционных поправок). Кстати, она была написана по-английски. Остальные главы были написаны разными авторами по указанию Юнга и под его наблюдением. Окончательная редактура всей работы после смерти Юнга была сделана д-ром фон Франц, исполнена неспешно, с пониманием и добрым юмором, за что издательство и я в долгу перед ней.
Теперь относительно содержания самой книги.
Юнговское мышление окрасило мир современной психологии много больше, чем это обыкновенно осознают неспециалисты. Такие, к примеру, известные термины, как «экстраверт», «интроверт», «архетип», – суть юнговские понятия, подчас слишком вольно трактуемые другими. Но его неоценимый вклад в психологическое понимание – концепция бессознательного (подобно «подсознательному» Фрейда), представляющего не просто свалку вытесненных подавленных желаний, но микрокосм, составляющий такую же жизненную и реальную часть человеческой сути, как и сознательный «мыслимый» мир эго, лишь бесконечно более широкий и богатый по своему масштабу. Язык и обитатели этого бессознательного – символы, а средства сообщения – сновидения.
Таким образом, изучение Человека и его Символов есть в действительности исследование отношения человека к своему бессознательному. А так как, по убеждению Юнга, бессознательное – это великий поводырь, друг и советчик сознания, сама книга напрямую связана с изучением человеческого бытия и духовных проблем. Мы знакомы с бессознательным и сообщаемся с ним (в обоих направлениях) главным образом с помощью снов, и на протяжении всей книги (и прежде всего в собственной главе Юнга) можно обнаружить настойчивое утверждение важности сновидений в жизни человека.
Было бы неприлично с моей стороны пытаться растолковывать данный труд Юнга читателям, многие из которых наверняка более подготовлены к его пониманию, чем я. В своей роли я выступаю лишь как некий «понимающий фильтр», но никоим образом не интерпретатор. Тем не менее осмелюсь сделать два указания, которые мне как неспециалисту представляются важными и могут, возможно, помочь другим читателям. Первое – о снах. Для юнгианцев сон не является стандартизованной криптограммой, которая может быть расшифрована с помощью словаря символических значений. Сон есть суммирующее, важное и личностное выражение индивидуального бессознательного. Он так же «реален», как и любой другой феномен, связанный с индивидом. Индивидуальное бессознательное спящего обращается к самому сновидцу и с этой целью выбирает символы, имеющие значение только для сновидца и ни для кого больше. Поэтому интерпретация снов, будь то аналитик или сам сновидец, является для психолога-юнгианца крайне личным, индивидуальным делом (иногда экспериментальным и весьма длительным), которое никоим образом не может быть осуществлено с помощью каких-либо правил.
И напротив, сведения из бессознательного имеют важнейшее значение для человека, видящего сон поскольку во сне человек проводит чуть ли не половину своей жизни, а бессознательное частенько предлагает индивиду совет или руководство, которые не могут быть получены из иного источника (образ химической таблицы, явившейся Менделееву во сне, и др.). Поэтому, когда я говорил о сне самого Юнга, в котором он обращается к широким массам, то описывал не какую-то магию и не утверждал, что Юнг занимается предсказаниями судьбы. В простых выражениях повседневного опыта я представил, каким образом собственное бессознательное Юнга «посоветовало» ему пересмотреть неадекватное решение, которое он вынес сознательной частью своего разума.
Из этого следует, что ни один хорошо подготовленный юнгианец не может рассматривать сны лишь как случайное событие. Наоборот, способность устанавливать связь со своим бессознательным – это часть целостного человека, и юнгианцы «учатся» (лучшего термина я придумать не могу) быть восприимчивыми к снам. Когда, в свою очередь, сам Юнг встал перед критическим выбором писать или не писать эту книгу, он оказался способен призвать ресурсы как сознания, так и бессознательного, чтобы собрать воедино весь свой разум. На протяжении всей книги легко обнаружить, что сон воспринимается как прямое личное и осмысленное сообщение сновидцу, – сообщение, использующее символы, общие для всего человечества, но использующее их каждый раз совершенно индивидуальным образом, оно может быть интерпретировано только с помощью индивидуального «ключа».
Второе указание, которое мне хотелось бы сделать, имеет отношение к особенностям доказательного метода, свойственного всем авторам данной книги и, возможно, всем юнгианцам. Люди, ограничивающие свою жизнь исключительно миром сознания и отвергающие сообщения бессознательного, связывают себя законами сознания, формальной жизнью. С безупречной (но зачастую бессмысленной) логикой алгебраического уравнения они переходят от взятых предпосылок к неоспоримым выведенным заключениям. Юнг и его коллеги, как мне кажется (знают они это или нет), отбрасывают ограничения подобного метода рассуждения. Это вовсе не означает, что они игнорируют логику, в своих рассуждениях они все время обращаются и к бессознательному, и к сознанию. Их диалектический метод сам по себе символичен и непрямолинеен. Они убеждают не при помощи узкого луча силлогизма, но кружением, повторением, представлением вторичных аспектов той же темы под несколько другими углами зрения – до тех пор, пока читатель, который так и не нашел единственного завершающего момента доказательства, не обнаружит, что каким-то необъяснимым образом он уже воспринял, вобрал в себя некую более широкую и всеобъемлющую истину.
Юнговские аргументы (как и аргументы его коллег) раскручиваются спирально вверх над предметом, подобно птице, облетающей дерево. Вначале у земли она видит лишь неразбериху ветвей и листьев. Постепенно, по мере того как она кружит все выше и выше, вновь открывающиеся части дерева предстают во все большей целостности и связи с окружающим. Некоторые читатели, возможно, вначале сочтут подобный «спиральный» метод доказательства неясным или даже запутывающим, но, полагаю, ненадолго. Это всего лишь характеристика юнговского метода, и очень скоро сам читатель почувствует себя вовлеченным в убедительное и глубоко захватывающее путешествие.
Все разделы данной книги говорят сами за себя и вряд ли нуждаются в моем предисловии. Первая глава (текст самого Юнга) вводит читателя в область бессознательного, особое место в ней уделено архетипам и символам, образующим его язык, а также снам, с помощью которых бессознательное сообщает о себе.
Д-р Хендерсон в следующей главе иллюстрирует возникновение некоторых архетипов в древней мифологии, народной легенде, первобытном ритуале.
Д-р фон Франц в главе, названной «Процесс индивидуации», описывает процесс, при котором сознание и бессознательное внутри индивида научаются узнавать, уважать и приспосабливаться друг к другу. В известном смысле эта глава воплощает не только суть всей книги, но, возможно, и сущность всей юнговской философии жизни: человек становится целостным, интегрированным, спокойным, плодотворным и счастливым, когда (и только тогда) процесс индивидуации закончен, когда сознание и бессознательное научаются жить в мире и дополнять друг Друга.
Миссис Яффе, как и д-р Хендерсон, демонстрирует в привычной структуре сознания повторяющийся – почти навязчивый – интерес к символам бессознательного. Эти символы сохраняют для человека глубокую значимость и наполнены для него внутренним притяжением, вне зависимости от того, встречаются ли они в мифах и волшебных сказках, которые анализирует д-р Хендерсон, или в изобразительном искусстве, которое, как показывает миссис Яффе, удовлетворяет и восхищает нас постоянной апелляцией к бессознательному.
Наконец, я должен сказать несколько слов о главе д-ра Якоби, отличающейся от других глав. Фактически, это сокращенная история одного интересного и успешного анализа. Ценность данной главы в книге очевидна, но несколько предупредительных слов все же необходимы. Прежде всего, как указывает д-р фон Франц, не существует такой вещи, как типичный юнгианский анализ. И его не может быть, поскольку каждый сон – это частное и индивидуальное сообщение, никогда два сна не используют символы бессознательного одинаковым образом. Поэтому каждый юнгианский анализ уникален, и было бы ошибочным считать данный, взятый из клинических записей д-ра Якоби (или чьих-либо иных), как «репрезентативный» или «типичный». Все, что можно сказать о случае Генри и его порой сенсационных снов, это то, что они дают истинный пример возможности применения в частном случае юнгианского метода. И еще. Полная история даже сравнительно несложного случая заняла бы целую книгу. Очевидно, что история анализа Генри была достаточно сжата. Например, ссылки на «И цзин» не выглядели бы столь неясными, в них не ощущался бы привкус оккультного, будь они представлены в полном контексте. И тем не менее окончательный вывод таков – думаю, что и читатель с ним согласится, – анализ снов Генри при всех оговорках весьма обогащает книгу.
Я начал с описания того, как Юнг пришел к необходимости написания книги «Человек и его символы». Я закончу напоминанием о том, насколько замечательна, возможно, уникальна эта публикация. Карл Густав Юнг был одним из великих врачей всех времен и вместе с тем великим мыслителем нашего века. Его желанием было помочь мужчинам и женщинам познать самих себя, дабы это самознание и мыслимое самопользование вело их к более полной, богатой и счастливой жизни. В самом конце своей собственной жизни, которая была полной, богатой и счастливой, он решил оставшиеся у него силы истратить на труд, обращенный к более широкой аудитории, чем та, с которой ему приходилось иметь дело прежде. Он завершил свою задачу и свою жизнь в одно и то же время. Эта книга – его дар широкой читающей публике.
Часть 1
Карл Густав Юнг. Подход к бессознательному
Значение слов
Человек пользуется устным или письменным словом для того, чтобы выразить смысл, который он хотел бы передать. Наш язык полон символов, но мы также пользуемся знаками и образами не строго описательными. Некоторые являются простыми аббревиатурами, т. е. рядом заглавных букв, таких, например, как ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, другие – известные торговые марки, названия лекарств, нашивки, эмблемы, знаки различия. Сами по себе бессмысленные, они приобретают узнаваемость в результате ежедневного употребления или преднамеренного введения. Это не символы. Это – знаки, и они лишь обозначают объекты, к которым относятся.
То, что мы называем символами, – это термин, имя или изображение, которые могут быть известны в повседневной жизни, но обладают специфическим добавочным значением к своему обычному и очевидному смыслу. Они подразумевают нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас. Например, многие критские памятники отмечены знаком двойной секиры. Мы узнаём этот предмет, но его символический смысл остается непонятен для нас. Или представьте себе индуса, который, вернувшись из Англии, рассказывает друзьям, что англичане поклоняются животным, поскольку в старых английских церквях он обнаружил изображения орлов, львов, быков. Он не знал (как и многие христиане), что эти животные – символы евангелистов, восходящие к видению пророка, а видение, в свою очередь, имеет предшествующую аналогию с египетским богом Солнца Гором и его четырьмя сыновьями. Более того, существуют такие примеры, как колесо и крест, известные повсеместно, хотя и они при определенных условиях имеют символическое значение. То, что они символизируют, – все еще предмет противоречивых суждений.
Таким образом, слово и изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение. Они имеют более широкий «бессознательный» аспект, который точно не определен или его нельзя объяснить. И нет надежды определить или объяснить его. Когда мы исследуем символ, он ведет нас в области, лежащие за пределами здравого рассудка. Колесо может привести наши мысли к концепции «божественного Солнца», но здесь рассудок должен допустить свою некомпетентность: человек не способен определить божественное бытие. Когда со всей нашей интеллектуальной ограниченностью мы называем что-либо «божественным», мы всего лишь даем ему имя, которое основывается на вере, но никак не на фактическом свидетельстве.
Так как существует бесчисленное множество вещей за пределами человеческого понимания, то мы постоянно пользуемся символической терминологией, чтобы представить понятия, которые мы не можем определить или полностью осознать. Это одна из причин, по которой все религии пользуются символическим языком или образами. Но подобное сознательное использование символов – лишь один аспект психологического факта, имеющего большое значение: человек также продуцирует символы спонтанно и бессознательно в форме снов.
Это не так легко понять, но понять необходимо, если мы хотим узнать больше о том, как работает человеческое сознание. Человек, если мы внимательно поразмыслим, никогда ничего полностью не воспринимает и никогда ничего полностью не осознаёт. Он может видеть, слышать, осязать, воспринимать вкус, но насколько далеко он видит, как хорошо он слышит, что говорят ему осязание и вкус, зависит от количества и качества его ощущений. Они ограничивают восприятие окружающего его мира. Пользуясь научной аппаратурой, человек может частично компенсировать недостатки своих органов чувств. Например, он может увеличить пределы зрения с помощью бинокля, а чувствительность слуха – с помощью электронного усиления. Но большинство разработанных приборов не могут сделать что-нибудь большее, нежели приблизить отдаленные и маленькие объекты к его глазам или сделать слабые звуки более слышимыми. Неважно, какими инструментами пользуется человек, в некоторой точке все равно наступает предел уверенности, за который осознанное знание переступить не может.
Более того, существуют бессознательные аспекты нашего восприятия реальности. Когда наши органы чувств реагируют на реальные явления, скажем, изображения или звуки, они переводят их из области реального в область разума, – это очевидный факт. Здесь они становятся психическими явлениями, конечная природа которых непознаваема (психика не может познать свою собственную психическую сущность). Поэтому любой опыт содержит бесконечное множество неизвестных факторов, не говоря уже о том, что каждый конкретный объект всегда неизвестен в определенных отношениях, поскольку мы не можем знать конечной природы самой материи.
Кроме того, существуют некоторые события, которые мы не отмечаем в сознании; они остаются, так сказать, за порогом сознания. Эти события имели место, но были восприняты подпорогово, без участия нашего сознания. Мы можем узнать о таких событиях только интуитивно или в процессе глубокого размышления, который ведет к последующему осознанию того, что они должны были произойти; и хотя первоначально мы игнорировали их эмоциональное и жизненное значение, оно все же проступило из бессознательного в виде послемысли.
Подобные события могут проявиться, например, в форме снов. Как правило, бессознательный аспект любого явления открывается нам в снах, в которых он возникает не как рациональная мысль, а в виде символического образа. Исторически именно изучение снов подвигло психологов на изучение бессознательного аспекта сознательных психических явлений.
Именно на основе таких свидетельств психологи выдвинули предположение о существовании бессознательной психики, хотя многие ученые и философы отрицают ее существование. Они наивно аргументируют свою позицию тем, что подобное предположение психологов ведет к допущению существования двух «субъектов», или (говоря обычным языком) двух личностей, внутри одного индивида. В действительности же так оно и есть. Одно из проклятий современного человека заключается в том, что он страдает от расщепления собственной личности. И это ни в коем случае не патологический симптом, а вполне обыденное явление, которое можно наблюдать везде и в любое время. Не только у невротиков правая рука не знает, что делает левая. Это неприятное положение является симптомом общей бессознательности, бесспорного общего наследия всего человечества.
Человек развивал свое сознание медленно и трудно. Потребовались бессчетные века, чтобы достичь цивилизованного состояния (которое произвольно датируется временем изобретения письменности около 4000 года до н. э.). Эта эволюция и сейчас далека от завершения, поскольку значительные области человеческого разума погружены в темноту. То, что мы называем «психическим», «душой», ни в коей мере не идентично нашему сознанию и его содержанию.
Тот, кто отрицает существование бессознательного, фактически предполагает, что наше нынешнее знание психики является полным. Но эта вера определенно ложна, так же как ложно и предположение, что мы знаем все, что можно знать о Вселенной. Наша психика есть лишь часть природы, и тайна ее безгранична, поэтому мы не можем дать полное определение ни психическому, ни природе. Мы можем лишь заявлять, что верим в их существование и, как умеем, описываем, каким образом они действуют. Помимо свидетельств, собранных в медицинских исследованиях, существуют сильные логические основания, чтобы отвергнуть заявления типа «бессознательное не существует». Утверждающие это лишь выражают древний «мизоне-изм» – страх перед новым и неизвестным.
Разумеется, есть исторические причины для противостояния идее существования неведомой области в человеческой психике. Сознание – относительно недавнее приобретение природы, и оно все еще пребывает в стадии «эксперимента». Оно хрупко, подвержено опасностям и легко ранимо. Как заметили антропологи, одним из наиболее частых умственных расстройств, встречавшихся у представителей первобытных племен, оказывается то, что последние называют «потерей души», что означает, как указывает само название, заметное разрушение (точнее, диссоциацию) сознания.
Среди людей, чье сознание находится на уровне развития, отличающемся от нашего, «душа» (психика) не ощущается как нечто единое. Многие первобытные племена считают, что человек имеет помимо собственной еще и «лесную душу» и что эта «лесная душа» воплощена в диком животном или в дереве (друиды), с которыми тот или иной человек имеет некоторую психическую идентичность. Именно это известный французский этнолог Леви-Брюль назвал «мистическим участием»1. Правда, позже под давлением критики он отказался от этого термина, но я полагаю, что его оппоненты были неправы. Человек может находиться в состоянии психической идентичности с другим человеком или предметом, и это известный психологический факт.
Подобная идентичность среди находящихся на первобытном уровне развития племен принимает самые разнообразные формы. Если «лесная душа» принадлежит животному, то считается, что это животное и человек связаны братскими узами. Предполагается, что человек, чьим братом является крокодил, находится в безопасности, когда плавает в реке, кишащей крокодилами. Если его душа воплощена в дереве, то считается, что дерево имеет над ним нечто вроде родительской власти. В обоих случаях тот или иной вред, нанесенный «лесной душе», истолковывается как вред, нанесенный самому человеку. В ряде племен полагают, что человек имеет сразу несколько душ; такая вера отражает некоторые первобытные представления о том, что каждый человек состоит из нескольких связанных между собой, но все же отдельных друг от друга единств. Это означает, что человеческая психика далека от полного синтеза, напротив, она слишком легко готова распасться под напором неконтролируемых эмоций.
Хотя описанная ситуация известна нам по работам антропологов, ею не следует пренебрегать и в нашей развитой цивилизации. Мы тоже можем оказаться диссоциированными и утратить собственную идентичность. На нас влияют различные настроения, мы становимся неразумными, порой нам не удается вспомнить самые важные факты о самих себе, так что даже близкие нам люди удивляются: «Что за черт в тебя вселился?» Мы говорим о способности «контролировать» себя, но самоконтроль – весьма редкое и замечательное качество. Мы полагаем, что полностью контролируем себя; однако друзья без труда расскажут нам о нас такое, о чем мы не имеем ни малейшего представления.
Вне всякого сомнения, даже на так называемом высоком уровне цивилизации человеческое сознание еще не достигло приемлемой степени целостности. Оно все так же уязвимо и подвержено фрагментации. Сама способность изолировать часть сознания – безусловно ценная характеристика. Она позволяет нам сконцентрироваться на чем-то одном, исключив все остальное, что может отвлечь наше внимание. Но существует огромная разница между сознательным решением отделить и временно подавить часть психики и ситуацией, когда это происходит спонтанно, неосознанно или без согласия на то и даже вопреки собственному намерению. Первое – достижение цивилизации, второе – первобытная «потеря души», или патологический случай невроза.
Таким образом, в наши дни единство сознания все еще не очевидно, слишком легко оно может быть разрушено. Способность же контролировать эмоции, весьма желательная, с одной стороны, с другой – оказывается сомнительным достижением, так как лишает человеческие отношения разнообразия, тепла и эмоциональной окраски.
Именно на этом фоне мы и должны рассмотреть важность снов – этих легких, ненадежных, изменчивых, смутных и неопределенных фантазий. Чтобы объяснить свою точку зрения, я бы хотел описать, как она развивалась с годами и как я пришел к выводу, что сны – это наиболее частый и универсально доступный источник для исследования способности человека к символизации.
Зигмунд Фрейд стал первым, кто на практике исследовал бессознательный фон сознания. Общим положением в его работе было то, что сны не являются делом случая, а связаны с сознательными проблемами и мыслями. Это предположение основывалось на выводах известных неврологов (например, Пьера Жане), что невротические симптомы связаны с определенным сознательным опытом. Эти симптомы оказываются некими отщепленными областями сознания, областями, которые в другое время и при других обстоятельствах были бы сознательными.
В конце прошлого века Фрейд и Иосиф Брейер выяснили, что невротические симптомы – истерия, некоторые виды боли и ненормальное поведение – несут в себе символическое значение. Это один из путей, по которым бессознательная психика проявляет себя, равным образом как и в снах, и оба пути оказываются одинаково символичными. У пациента, который, к примеру, столкнулся с непереносимой ситуацией, может развиться спазм при глотании: «он не может это проглотить». В сходных условиях психологического стресса другой пациент получает приступ астмы: он «не может дышать атмосферой дома». Третий страдает от паралича ног: «он не может ходить», т. е. «не может продолжать делать что-либо». Четвертый, которого рвет во время еды, «не может переварить» какой-то неприятный факт. Можно привести множество примеров подобного рода, но такие физические реакции лишь одна из форм, в которой выражаются проблемы, бессознательно нас волнующие. Чаще же они находят воплощение в снах.