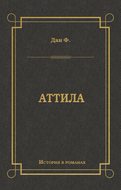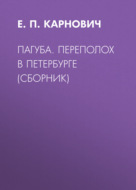Loe raamatut: «Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008
© ООО «РИЦ Литература», 2008
Господин Великий Новгород
Предисловие автора
Мне бы хотелось перенести читателя в глубокую древность, в которой витают теперь моя мысль, сердце и воображение, словно губка, напитанная картинами, образами, речами и звуками этой чарующей своей таинственностью древности.
Правда, это не та далекая, поэтическая, окутанная дымкой тысячелетий седая древность Востока, куда переносит своего читателя высокодаровитый Эберс1, под художественным пером которого оживает таинственная жизнь Древнего Египта – Египта времен фараонов и Моисея, а давно умершие цари и царицы Нила, ее жрецы и воины, «парасхиты»2 и «Уарды»3, давно истлевшие под знойным солнцем юга, либо в виде мумий спящие непробудным сном в пирамидах да в разных европейских музеях, встают перед нами как живые, с их радостями и печалями, любовью и ненавистью.
Это и не та мифическая древность времен Цимбелина4, не классическая древность Эллады и Рима, в которую иногда переносит нас гениальное, неистощимое творчество величайшего из рожденных женщиной смертного – Шекспира.
Древность, в которую я хочу перенестись с моим читателем, только относительно глубокая; но это наша родная, русская древность, кровавым, так сказать, пятном засохшая на исторической памяти Московской Руси. Это – древность Господина Великого Новгорода с его вольной вечевой жизнью, когда под звон «вечного» колокола собирался к Ярославову дворищу или на Софийский двор весь «Господин Великий Новгород» с его знатными мужами и посадниками, со степенными тысяцкими и боярами, с богатыми гостиными и «пошлыми» купчинами, с «лучшими старыми и молодшими людьми», когда на вечах с вечевого помоста держали речь к Господину Великому Новгороду его излюбленные говоруны, когда там же, на ступенях вечевого помоста шумели во все мужицкие горла «худые мужики вечники» и привалившие из пригородов, из дальних «пятин» и сел «рольники» и «обжинные тяглецы», и когда вече превращалось в бурное море, а провинившиеся перед Господином Великим Новгородом ораторы и целые массы «недобрых людей» свергались с великого моста в Волхов, подобно идолищу Перунищу, и сотнями погибали в его волнах, а дома их и «животы» брались недовольной стороной на «поток и разграбление».
Мне кажется, что я вижу перед собой этот вольный, шумный, поражающий кипучей деятельностью и богатством «великий град». Передо мною встают из развалин его старые стены с мрачным Детинцем, видевшим в себе еще Мстислава Удалого; перед моими очами раздвигаются вширь и вдоль все его пять «концов» с «улицами», раскидываются на десятки и сотни верст его пригороды, которые так и кричат, кажется: «На чем Господин Великий Новгород постановит, на том и мы, пригороды, станем». Встают из развалин многочисленные церкви и часовни этого великого города с раскинувшимися на десятки верст кругом монастырями, и во всех церквах ярко горят свечи во множестве массивных паникадил, стоят тучи дыма от «темьяна» и ладана и гремит хвала Великому Богу и святой Софии и вечная слава – Господину Великому Новгороду. Я слышу звон бесчисленного множества колоколов, которые кричат до самого неба божью славу, и меж всеми этими колоколами особенной мелодией звучит для меня голосистый «вечный», или вечевой, колокол, от которого «дрожало каждое новгородское сердце». Передо мной встают из могил славные «мужие новугородстии», бородатые посадники, бояре и купчины гостиные, усатые удалые добрые молодцы – «хоробрые укшуйники» с Васькой Буслаевым во главе и с Садком богатым гостем и его гусельцами звончатыми.
И все это – все величие и богатство Господина Великого Новгорода, его многолюдство, его шумные веча, его торговые площади, обширные и густонаселенные «концы», его испоконная свобода и право «показывать путь» нелюбимым князьям и говорить им – «иди, княже, откуда пришел, ты нам нелюб» – все это исчезло как дым…
Что теперь представляет собой Господин Великий Новгород? Жалкий губернский городишко, занимающий, может быть, десятую долю своих обширных развалин. Он изображает отчасти то, что говорила якобы на вече Марфа-посадница, которой Карамзин влагает в уста следующую цветистую речь: «скоро ударит последний час нашей вольности, и вечевой колокол, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бедному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!.. Но знай, о, Новгород, что с утратой вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда новгородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся… Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные концы твои; широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: здесь был Новгород!»…
Конечно, Марфа-посадница не могла говорить так, но все, что она могла говорить другими словами, сбылось…
Эти последние дни независимости Господина Великого Новгорода и составят предмет нашего повествования.
Глава I
Избрание владыки
Мягкое морозное утро 15 ноября 1470 года5.
На колокольнях новгородских церквей раздается торжественный трезвон. Под этот трезвон горожане из церквей и домов валят на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по льду, и по «великому мосту» – кто успевал раньше других попасть на мост.
Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без того полные народа, окончательно запружены были колыхавшимися массами. Народ толпился и в улицах, и по всему Детинцу, но целое море голов колыхалось около собора.
У Святой Софии только что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обращены были к паперти – ждали…
Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступеньках соборного крыльца и около него стояли старосты «концов», сотские и десятники, поблескивая на солнце бердышами. Среди них терся слепой нищий, известный всему Новгороду Тихик блаженненький – «Христа ради юрод» и, за неимением глаз, духом своим «провидящий вся сокровенная». Он прикасался то к тому, то к другому из старост и сотских, тряс косматою, нечесаною головой и идиотически улыбался. В руках у него была длинная палка – посох с ручкою в виде восьмиконечного креста6, на котором висели различной величины сумки. Две большие сумы перекинуты были, посредством ремней, через плечи, крест-накрест.
Наконец, из соборных дверей вышел на паперть священник в полном облачении и с крестом в руках. За ним показалась седая голова с золотою гривною на шее. Священник осенил крестом народ на все стороны – и тысячи рук замахали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немого согласного движения тысяч глухой гул прошел по площади и по всему Детинцу.
– Братие новугородьци! – раздался с паперти скрипучий старческий голос. – Жеребий Господень совершается! Молитеся святой Софии, да укажет перст Божий на достойного владыку.
Тысячи рук снова взметнулись, и снова глухим гулом – немая молитва по всему Детинцу…
– Сыщите, братие, Тихика блаженного, – снова раздался тот же старческий голос.
– Тихика!.. Тишу блаженненького! – пронесся говор в толпе.
– Здесь Тихик, здесь блаженный…
– Я тутотка, – отвечал сам нищий, ощупывая посохом землю и подходя к паперти. – Туто изгой Тишка… Подайте Христу!
И он протягивал руку, ожидая получить милостыню.
– Чадо Тихиче! – заговорил священник, осеняя нищего крестом. – Сотвори знамение.
Нищий перекрестился и поднял голову, поводя слепыми глазами и как бы ища чего-то в воздухе. Священник приложил крест к его губам.
– Гряди за мною, чадо, – продолжал священник, – тебе, слепорожденну, подобает налезти жребий владычен; гряди за мною.
Нищий, стуча посохом по ступенькам соборного крыльца, взошел на паперть. Священник повернулся и пошел снова внутрь храма. Слепой следовал за ним, ощупывая путь свой посохом. Все расступались перед ними.
Массы народа, заполнявшие площадь, еще более понадвинулись к собору. На лицах выражалось нетерпеливое ожидание и как бы испуг. Многие со страхом крестились и глубоко вздыхали. Казалось, все эти массы ожидали чего-то неведомого, рокового. То там, то здесь слышался сдержанный говор:
– Тишеньку слипеньково повели владыку вынимать…
– Слепой-ту зрячее у Бога, братцы, живет.
– Кого-ту святая София даст нам во владыки?
– Отца Пимена, ведомое дело.
– А может, Варсонофья слепенькой вымет.
– О, Господи и святая София, спаси град свой!
Между тем слепец, следуя за священником, прошел через весь собор и очутился у амвона7.
В церкви все усердно молились, поглядывая в то же время на царские врата, которые были открыты. В алтаре, вокруг престола, собралось высшее духовенство Новгорода. Именитые люди города, степенные посадники, бояре, житые люди8 и гости, блистая золотым платьем и дорогими мехами, а иные – массивными золотыми гривнами, занимали весь правый придел. В левом приделе стояли женщины и молились особенно жарко, не сводя глаз с темных ликов икон и с дорогих окладов. Впереди всех их, у левого клироса, на почетном месте, стояла высокая, дородная и уже немолодая боярыня с матовой белизной смуглых полных щек и с черными широкими бровями. Черные, с большими белками глаза ее неподвижно устремлены были через царские врата на престол, на котором стояла дароносица9, покрытая богатыми воздухами10, а около нее – три блюда, тоже прикрытые каждое малиновою тафтою.
Женщина эта была – Марфа Борецкая, или Марфа-посадница. «Посадниками» и «посадницами» называли в Новгороде не только настоящих, действительных посадников и их жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде – равно и жены их всю жизнь назывались посадницами.
– Дерзай, чадо! – уже в царских вратах обратился священник к нищему.
Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на амвон и, сделав перед царскими вратами три земных поклона, вошел в алтарь и остановился у престола.
– Дерзай, раб Божий Тихиче! – продолжал священник. – Ныне престолу Бога жива предстоиши.
Слепец еще перекрестился. Рука его дрожала.
– Простри руку твою, – подсказывал священник.
Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе напряженно следили за ним. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую его руку.
Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого тафтой, – до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам присутствовавших в церкви.
– Вознеси горе жребий сей, да узрят стоящий зде, – распоряжался священник.
Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подошел соборный протодиакон с орарем11 на руке и, бережно взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дискос с агнцем пасхальным12. Потом, вместе со священником, державшим в руках крест, он вышел из алтаря и направился к выходу из собора. За ними следовал тот седой боярин с золотою гривною на шее, который и прежде этого выходил на паперть. Это был посадник – глава Господина Великого Новгорода. Все глаза по-прежнему напряженно следили за движениями этих трех лиц.
Выйдя на паперть, протодиакон снял с головы блюдо и подал его посаднику. Посадник снял с блюда тафту. Под тафтою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Глава города развернул ее и прочел написанное на ней.
– Господине Великий Новгород! – громко произнес он, поднимая вверх бумажку. – Смотрите – вот жребий преподобного Варсонофия!
– Варсонофий! Варсонофий! – прошел говор по площади и по всему Детинцу.
– Не быть владыкой Варсонофию – не на него пал перст Божий.
Все заволновалось. Говор, хотя сдержанный, но могучий, как всколыхнутое бурей море, волнами ходил по всему пространству, занятому народом.
– Отца Пимена! Пимена во владыки!
– Не надо Пимена – он латынец!
– Феофила протодьякона! Феофила!
– В Волхов Феофила! Он московской руки… холоп княженецкий!
– Пимена в прорубь! Пимен похваляется: меня-де и в Киев пошлют на ставленье… я и в Киев пойду… Латынец он… литва хохлатая.
Между тем священник, протодиакон с блюдом и посадник воротились в собор. Первые два вошли в алтарь, где у престола все еще стоял слепой Тихик.
– Паки дерзай, раб Божий Тихиче! – провозгласил священник.
Слепец вздрогнул, протянул руку и ощупал левое крайнее блюдо. При этом движении слепого яркая краска залила полные щеки Марфы-посадницы, не спускавшей глаз с престола.
И это блюдо протодиакон возложил себе на голову. Тем же порядком и священник с крестом, и протодиакон с блюдом на голове, и посадник вышли к народу.
Опять сняли тафту с блюда и раскрыли жребий.
– Господине Великий Новгород! – раздался тот же голос старого посадника. – Вот жребий преподобного отца Пимена!
– А… Не быть Пимену, латынцу, владыкой! Не вывезла кривая…
– Феофил владыка! Многая лета владыке Феофилу!
– Ай да Тиша блаженненькой! Знал, кого вымать! Исполать Тише.
Действительно, там, в храме, на престоле, остался жребий Феофила-протодиакона, и это было знамением, что Бог благословляет избрание во владыки новгородские Феофила – а Варсонофия и Пимена отверг.
Избрание владыки свершилось. Но не было, как водилось прежде, всенародного ликования… Напротив, только немногие голоса огласили стены Детинца и соборную площадь шумными восклицаниями в честь и во здравие новому владыке. Мало того, дело кончилось тут же, у Святой Софии, свалкой, во время которой у кричавших «слава» и «многая лета» были поразбиты носы до крови и перещупаны ребра. А когда толпы повалили с Софийской стороны на торговую, то «кончане» и «уличане» с Славенского и Плотницкого концов да некоторые из пригорожан, большею частью «худые мужики-вечники»13, обрушились на «житых людей» из Людина и Неревского концов, шибко их помяли, а некоторых с мосту прямо пошвыряли на реку, на лед. «Худые мужики-вечники» кричали искренне, хотя и не о себе, а то, что хотели от них (те же Борецкие), чтобы они – кричали… Что избранием во владыки не Пимена, а Феофила богатые люди (как будто не были таковыми сами Борецкие) готовятся продать Новгород в московскую кабалу, где «козам рога правят» и «слезам не верют»… Что зажмет Москва Новгород в «ежовы рукавицы да согнет в три погибели», как она уже согнула княжество Тверское и иные… Что можно, коли уж шибко начнет наседать, и с Литвою побрататься, чтоб она, Москва, «растак ее да переэдак – знала, что Господин Великий Новгород ни кречету, ни соколу, а тем паче татарскому улуснику – гнезда своего, Святой Софии, в обиду не даст»14.
Когда Марфа выходила из собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала «резаны», «куны» и «мордки»15 в толпы ее почитателей, «мужиков-вечников», лицо ее вспыхивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило досадой.
Как бы то ни было, но проглотила она обиду судьбы – и из собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и тысяцкого, и других знатных людей к себе на пир, чтобы духовное торжество завершить приличным случаю плотским радованием.
Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого нищего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и нищенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почетное место.
В числе ее гостей был один, привлекавший к себе общее внимание. Это был невысокенький, сухенький старичок с уже льняной бородою и тем более необыкновенно в его годы живыми глазами. Но одет он был в грубое монашеское одеяние, и именно что – монахом, человеком не от мира сего, оставался он среди шумных гостей: нездешняя, за пределами видимого, глядела в молодых глазах его какая-то особенная мысль…
Хотя все вокруг него – говорило, улыбалось, кланялось; возглашая и из Священного Писания, и, целыми цитатами, – из пророка Исаии16, из «Слова» Даниила Заточника17 и из «Вопросов» Кирика18 – льстило радушной хозяйке: все вокруг говорили о славе «Господина Великого Новгорода», о его управлении, о разных «пятинах» новгородской земли19 о торговле с амбурскими и аглицкими немцами20, о том, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федоровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы… Но этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал, тихо перебирая четки.
Этот молчаливый старичок был знаменитый подвижник Соловецкой обители – преподобный Зосима21. Печать необыкновенно аскетической энергии лежит на всей жизни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувствовал в себе недовольство той жизнью – жизнью мелочных целей и желаний, которая окружала его. Его пламенная душа искала подвигов, жаждала идеала – и этот идеал воплотился у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который, казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтический, он любил природу – любил слушать «говор древесных листов», чувствовать «трав прозябанье», прислушиваться к лепетанью горного ручья, к прибоям сердитых волн родного озера – Ладожского, которое в бурю клокотало и пенилось в скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы он любил – любил эту недосягаемую даль синего неба, эти летучие облака, суровую зелень северного леса – и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сначала он молился и «трудился» на Валааме, но этот труд показался ему ничтожным; он искал более суровых подвигов и, прослышав, что отшельники Савватий22 и Герман нашли недоступный для людей остров где-то у полуночного моря, перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом далеком острове они и основали христианскую обитель, самую северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море – и то и другое без конца-краю…
Савватий скоро умер, но не в своем мрачном уединении, а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Герман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди могут жить в такой далекой и суровой стране, а между тем слава отшельников росла, имя Зосимы разносилось по всем концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савватия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест потянулись к новой святыне, на неведомый «оток моря», где, по слухам, «чудище неизглаголанно, хотяще потопити остров и вся сущая на нем», и только молитвами преподобнаго Зосимы исчезал под водою «оный зверь гороподобный».
Но слава человеческая всегда рождает зависть мелких людей. Позавидовали многие новгородцы и преподобному Зосиме с его обителью, которая с каждым годом возрастала числом иноков, а вместе с тем и богатела. Новгородские рыбники-стяжатели помыслили оттягать у отшельников рыбные ловли, и вот преподобный Зосима и явился в Новгород отстаивать свои права на остров.
– На ките, родимая, сказывают, угодничек-от приплыл с киян-моря, с самово острова Буяна, – рассуждали новгородские бабы, видевшие Зосиму в числе гостей Mарфы-посадницы.
– На ките! Матушки, вот страстобушка!.. И он ево, угодничка, не сглотнул – кит-от?
– А крест на что? Он, этот кит самый, родимая, креста ни-ни!
– Знамо крест – он и кита испужае, а не то что.
– Так вот он каков живет, этот угодничек, Зосима, дивыньки. А исть он одну просвирку в неделю – такой постник!
– И-и!.. Что ж и на пиру-ти у Марфы, у посадници, он, угодничек, ничево исть не будет?
– Ничевошеньки, родимушка, ни синь пороха… Просвирочку, може, махоньку либо причастьица святово ложечку, вот и все: они вить, святые угоднички, только просвиркою да причастьицем святым и живут.
– То-то святость-то – не легко ее сподобиться!
Глава II
Пир у Марфы-посадницы
Дом Борецких находился на Софийской стороне, в Неревском конце, на Побережье, между Розважею и Борковою улицами. По словам летописца, дом этот был «чюдень» своею лепотою извне и богатством внутри. Он не походил на тогдашние московские дома, которых неуклюжая татарская пестрота так и кричала своею грубостью, так и била глаз аляповатостью и татарско-византийским безвкусием – чем-то средним между монастырем, кибиткою и острогом. К Новгороду не привилась еще тогда эта византийско-татарская оспа.
Дом Марфы скорее напоминал средневековое жилище богатого бюргера, в котором славянская простота первобытного стиля и первобытных украшений скрашивалась европейским искусством и предметами, созданными западною цивилизациею: славянская братина в полтретья ведра и славянская чара с дыню астраханскую стояли рядом с красивым кубком изящной итальянской работы и позолоченным литовским турьим рогом; родные скатерти браные, покрывавшие длинные столы с дорогими приборами, мешались с сукнами и шелками «любскими», «дацкими», «аглицкими» и «амбурскими»; вычурные изделия «рыбий зуб» и шелки шемаханские виднелись и на гостях, и на стенах, и на скамьях там же, где и бархаты «фларенски» и «венедицки»23, «камки куфтери»24 и «сукна лундыши»25… Видно, что в Новгороде уже давно было прорублено то окно в Западную Европу, которое через несколько столетий пришлось Петру пробивать в Петербурге кровавым топором, долго плававшим в московско-русской крови. Мало того, в Новгороде была отворена в Европу целая дверь, и Марфа Борецкая, как любезная хозяйка, стояла на пороге этой двери и принимала дорогих немецких гостей, наезжавших в Новгород из любских, аглицких, амбурских, венедицких, дацких, шпанских и иных мест…
И настоящий пир у Марфы-посадницы не обошелся без иноземных гостей.
Обширная передняя палата Марфы была установлена длинными столами «покоем»26. Столы были покрыты скатертями браными, а скамьи у столов – дорогими коврами и сукнами. На столах дорогая посуда, братины, чары, кубки, блюда и шитые полотенцы для утирания рук, хотя в обычае было, что каждый гость имел свою собственную «ширинку» в кармане и ею утирался, а люди старые – так те, по старине, обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто обтирали их о свои головы, тогда еще не так скоро плешивевшие, как ныне.
На почетном конце посажено было высшее духовенство Новгорода – новоизбранный владыка Феофил, Софийского собора казначей и друг Марфин – Пимен, отец Варсонофий, духовник покойного владыки Ионы. Тут же чернелась и скромная фигурка преподобного Зосимы, а недалеко – и лохмотная одежда блаженненького Тихика с его нищенскими сумами. По сторонам их восседали – седоволосый, но необыкновенно моложавый на вид, с золотою гривною на шее степенный посадник Господина Великого Новгорода Василий Ананьин, вожди антимосковской партии Василько Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, архиепископский чашник; тут же старый боярин Памфиль и другие бояре. Между почетными гостями особенно бросался в глаза недавно прибывший из Киева «на кормление» князь Михаил Олелькович с несколькими киевлянами, которых одеяние напоминало собою что-то не то польское, не то литовское, а хохлы на маковках да черные усы приводили новгородских баб в немалое изумление, иных в трепет даже, а некоторых, помоложе, и в восхищение: «Не то, мать моя, ефиопы, не то Ягорьи хоробрые»…
Сама хозяйка и ее два статных сына – черноглазый, весь в мать Дмитрий и белокурый, кудрявый и с кудреватою же бородкою Федор, сопровождаемые челядью со блюдами и кувшинами в руках, – постоянно ходили около гостей и усердно потчевали каждого разными, наваленными горою на блюда яствами и питиями. Постоянно слышалось: «Не побрезгуйте, дорогие гости, – куровя печеное, а се лебедь жарена, а се боран молодой – осетринка добрая – пирожок с вязигой – теша межукосна с хренком – романейка добрая – ренское сладенькое – мальвазейцы стопочку махоньку – чарочку угорсково – грибков рыжиков – семушки свежей – отведайте, гостюшки, не побрезгуйте – чем богаты – от чистово сердца – сижка копчоново – поросеночка молочново – гусачка с яблочком – глухарика малость испробуйте – индийсково петела с шпанским моченым виноградом – пивца аглицково черново – много довольны, матушка Марфа, ажно рыгаем со умилением и молитвою о твоем здравии…»
Одно кушанье сменяло другое, и казалось, что им и конца не будет. Челядь не успевала вносить, разносить и уставлять блюда, чтобы сменить и унести опорожненную посуду, а хозяйка с сыновьями все угощала да умасливала дорогих гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыбками. Братины, рога, ковши, кубки и всякие чапарухи переходили из рук в руки, сверкая серебром и золотом. Вносились и уносились ендовы, глиняные кувшины, бутыли.
Только двое из гостей не принимали участия в пиршестве – блаженный Тихик и преподобный Зосима. Первый брал от каждого блюда порядочный кус и, крестясь и улыбаясь, совал его в один из висевших на нем мешков и мешочков и при этом бормотал: «Деткам своим понесу – птицам небесным, что не сеют, не жнут, не в житницы собирают… Много у меня таких птичек».
И все знали, кто были эти «птички»: блаженненький Тиша так называл нищих.
Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не дотрагивался, как ни упрашивала его хозяйка. Он только благословлял каждое подносимое ему блюдо, конечно, постное, но ничего не ел и хранил глубокое молчание.
Сначала беседа на пиру шла беспорядочно, шумно, но потом разговором овладело несколько лиц, и в особенности благообразный седоголовый посадник, которого все слушали очень внимательно. Посадник с своими речами преимущественно относился к князю Михаилу Олельковичу и к преподобному Зосиме соловецкому, которые, как недавно прибывшие в Новгород гости, не знали самых свежих, весьма важных новостей, волновавших последние новгородские веча.
Князь Олелькович слушал посадника, окидывая и его, и все общество черными, блистающими глазами, и по временам вставлял в речь своего собеседника, от себя, то игривое замечание, то вопрос, вызывавший улыбки и смех гостей. Преподобный же Зосима слушал молча, не подымая головы, и только иногда как бы окатывал светом своих серых, небольших, но живых глаз красивое лицо посадника или лицо его соседа, Селезнева-Губы, и опять прятал эти прозорливые глаза и поникал головою.
– Так не ласков москаль? – вставил Олелькович, блеснув разом и светящимися глазами, и белыми, такими же светящимися зубами из-за приподнятых улыбкою черных усов: – Яко кот до сала?
– Точно, княже, – как кот до мышей, – улыбнулся и посадник.
– А мыши что?
– Да мы, новогородские мыши, княже, – будь тебе ведомо, – посольство к московскому коту правили… О земских делах своих я был посылан в Москву… Приехал это я в Москву, поклонился боярам новгородскими поминками. Приняли дары – не спесивились.
– Любят сало – ласковы до него?
– Любят, княже… Поклон правлю им от Господина Великого Новгорода – прошу доложиться великому князю на очи… Не подобает, говорят, тебе, холопу, пред светлыя царския очи становиться.
– «Холопу»! – проворчал сердито Селезнев-Губа, стукнув чарою об стол. – Холопы они, а мы вольные люди.
– Что-то зазнались! – вскинул на посадника стоячими глазами и сосед Селезнева-Губы белокурый Арзубьев Киприян. – А давно он у Ахматки стремя и ногу целовал?
При этих словах соловецкий отшельник, в свою очередь, как бы изумленно вскинул глазами на Арзубьева и Селезнева-Губу…
– Так и не допустили до князя?
– Не допустили, княже… Да еще меня же и докоряют: как же это, говорят, приехал ты от Великого Новгорода великому князю посольство править о своих земских новгородских делех, а о грубости и неисправленье новгородском ни одного-де и слова покорного не правишь?
– О грубости?.. эге-ге! Мыши коту согрубили…
– Да, о грубости… А я им на это аркучи тако: «Господин-де и Великий Новгород мне это не приказывал».
– А чим бы то мыши согрубили коту? – улыбнулся Олелькович хозяйке, которая в это время подошла к нему сама с золотым кубком на подносе.
– Да Новгород, княже, не пустил через свои земли послов псковских ради того, что они ехали к великому князю не с добром, – отвечала Марфа, кланяясь князю кубком.
– Какое же было их недоброе дело?
– А они, княже, плетут в Москве на нас безлепичные сплетки, – отвечал посадник вместо Марфы. – Так вот, когда я отвечал боярам, – продолжал он, не давая говорить хозяйке, – что мне того в посольстве править не указано, так бояре, аки псы ощетинясь, рекли, что-де сие великому государю вельми грубо – не в истерп-де воля новгородская и что-де и великий государь тебе, Василию-посаднику, указал ответ ево, государев, держать, Великому Новуграду, аркучи тако: «Исправьтесь-де и, отчина моя, Великий Новгород, людие новугородстии, сознайтесь в винах своих, в земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно, по старине, ко мне, великому государю, посылайте бить челом по докончанью, а я вас, отчину свою, жаловать хочу и в старине держу».
Посадник договорил последние слова взволнованным голосом, бледное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и, когда, замолчав, он потянул руку к братине за чарой, рука его дрожала. Глаза преподобного Зосимы как-то робко вскидывались на него из-под опущенных ресниц и снова прятались. Глаза Марфы, которыми она обводила собрание, горели молодым огнем.
– Что ж он и впрямь! Так! Ноли мы холопи московские! Новгород ни у кого в холопех не был, – заговорил сын Борецкой, Димитрий, бледный и взволнованный.
– Не был и не будет! – ударил кулаком по столу Арзубьев.
От этого удара чары и братины задрожали и расплескали вино. Преподобный Зосима вздрогнул и с немым укором глянул на Арзубьева. Марфа самодовольно обвела гостей своими большими глазами. Она видела, что уже довольно подпито и разгорячена кровь у большинства.
«Ох, баба, заварила кашу… – казалось, говорили, однако, задумчивые глаза соловецкого отшельника. – Каша закипает… Кто-то будет ее расхлебывать?..»
Михайло Олелькович, тоже подвыпивший, веселыми и лукавыми глазами оглядывал расходившихся новгородцев и подзадоривал их то улыбкой, то кивком головы…
Духовные чины между тем вели более скромную беседу – о церковных делах. Отец Пимен, белокурый и рыжебородый попина, жарко оспаривал в чем-то своего соседа, новоизбранного владыку Феофила.
– И ты таки на Москву поволочишься на ставленье? – говорил он, откидывая от кистей своих пухлых рук широкие рукава рясы, мешавшие ему жестикулировать.
– И поволокусь, – невозмутимо отвечал октавой сухой, черный и горбоносый Феофил.