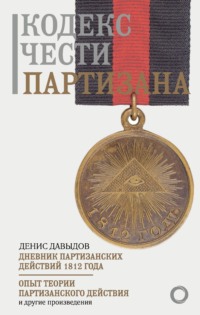Loe raamatut: «Кодекс чести партизана»
* * *
Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
1812 год1
Il у а bien des qualités essentielles pour executer dans les circonstances ordinaires des dispositions qu’un autre a arretées à la portée d’esprit nécessaire pour, dans un cas imprévu, prendre conseil que de soi-même et discerner d’inspiration de qui est juste et bon, au milieu de l’extraordinaire et de l’irregulier.
Foi. Guerre de la péninsule, t. IV2
…cette guerre de partisans, si difjicile, si perilleuse, si active pour laquelle il jaut être continuellement à cheval et en meditation et qui demande au plus haut dégré dans le même homme, l’action et la pensée…
Nécrologie du général Hugo3
I.
Вместо вступления4
Недавно случилось мне читать записки Наполеона. Владетель сей любопытной книги ссудил меня оною на короткое время: он спешил в путь далекий, невозвратный.
Я сдержал слово и, несмотря на пролетное чтение, успел вполне насладиться и смелыми очерками, и неожиданными мыслями и выражениями, и вообще какою-то воинственною оригинальностию пера сего чудесного человека. Смело можно сказать, что Наполеон явился на сем новом для него поприще, каковым бывал он на поле брани: везде исполин мысли, везде с своим собственным, цельным характером, но – увы! – и в том и в другом случае, играя легковерием людей, он представляет им обстоятельства и события так, как хочет, чтобы они их видели, а не таковыми, каковы они в существе своем. Может быть, что в первом положении он считал на средство сие, как на самое действительное, чтобы увлекать умы за колесницею победителя. Но поэт в душе, порабощенный сим увлекательным воображением своим, он мало-помалу уверил себя в истине всех ложных сказаний, им же самим вымышленных и для заблуждения других обнародованных. Так Руссо любил идеальную Юлию, как существо живое, его любившее; так пламенный Тасс уверился, наконец, что битвы под стенами Иерусалима происходили не иначе, как они изображались в бессмертном его творении.
Я могу ошибаться, но правдоподобность на стороне моего мнения: смотрите, как решительно, с каким нетерпением, можно сказать, с какою досадою Наполеон опровергает в запусках своих неоспоримые доказательства и деяния, всему свету известные!.. Притворство не имеет подобных порывов. Впрочем, какая бы ни была причина неосновательным описаниям, разбросанным по сей сокровищнице военных и политических наблюдений, – причина не оправдывает следствия, и мы не без удивления видим, как новый историк, опровергая и уничтожая описания подвигов тех войск и военачальников, которые против него сражались, касается наконец и до службы русских партизан.

Д. В. Давыдов. Литография В. Бахмана
«Ни один больной, – говорит он, – ни один отстранившийся, ни одна эстафета, ни один подвоз не были взяты в течение сей кампании от Майнца до Москвы. Не проходило дня без получения известия из Франции; не проходило дня без того, чтобы Париж не получал писем из армии»5.
Потом, четырнадцать страниц далее, он говорит: «Во время движения на Москву он никогда не имел в тылу своем неприятеля.
Во время двадцатидневного пребывания его в сей столице ни одна эстафета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены, ни один почтовой укрепленный дом (таковый находился на каждом посту) не был атакован; артиллерийские подвозы и военные экипажи дошли беспрепятственно»6.
И, наконец, семь страниц далее, опять обращается к тому же предмету и повторяет: «Во время Аустерлицкой, Йенской, Фридландской и Московской кампаний ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило ни одного дня, чтобы главная квартира не получала известия из Парижа»7.
Слова, падшие с такой высоты, не суть уже шипение раздраженной посредственности, столь давно преследующей партизан наших. Это удары Юпитера; звук их может увековечиться в общем мнении, как увековечились в нем все те ложные предания, кои равнодушие людей поленилось исследовать, повторяя беспечно то, что уже было другими сказано.
Я один из обвиняемых. Честь вооружает меня против нареканий ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых. Но что делать? Новый Леонид, иду на громады Ксеркса! Мнение мое о партизанской моей службе не равняется с тем вниманием, коим почтили ее мои соотчичи; однако оно не упадает и до презрения. Я скажу более: я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года, но рожденным подобно тому рядовому солдату, который в дыму и в сумятице Бородинской битвы, стреляя наудачу, убил десяток французов. Как ни мало употребил он на то и знания и дарования, при всем том судьба определила его уменьшить неприятельскую армию десятью человеками и содействовать общему ее истреблению своим товарищам.
Так я думаю о себе, уменьшив неприятельскую армию по мере способов, предоставленных мне начальством, и способностей, данных мне природою.
В воле Наполеона налагать, в числе прочих, и на меня проклятие за пролитую кровь его воинов; но не отнимай он у меня дел моих, не стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпечатков чести, купленных мною трудами и ежеминутною жертвою жизни… Это моя собственность; это мой участок в славе земляков моих, тем для меня драгоценнейший, что он один возвышается на моей жизни, бесплодной в своей юности и в преклонности своей ничего для честолюбия не обещающей! Но какой избрать способ к защите сей собственности? Предать известности эфирные строки моих собственных записок в надежде, что они затмят во мнении людей неизгладимое начертание чрезвычайного человека, было бы верх дерзости, смешной и бесполезной; да и кто возьмет на себя труд читать описание, поступившее в область вымыслов с тех пор, как клеймо отвержения горит на каждом листе его?
Опровергнуть падшие на партизанов наших нарекания доказательствами, которые были бы основательнее нареканий?
Постараемся отыскать их в бюллетенях французской армии, как известно, самим Наполеоном сочиненных; в «Монитере», в сем единственном официальном журнале французского правительства; в письмах маршала Бертье к начальникам корпусов большой армии; в отбитых у неприятеля бумагах, хранящихся в главном штабе государя императора, и в тех описаниях русской кампании, коих сочинителей нельзя упрекнуть в пристрастии к нашему войску.
Отыскав документы сии, представим тогда и собственные записки.
Наполеон говорит: «Во время Аустерлицкой, Йенской и Фридландской8 кампаний ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило дня, чтоб армия не получала известия из Парижа».
Правда, что в кампаниях Аустерлицкой и Йенской мы не слыхали ни об одном партизанском покушении. Я полагаю, причиною сему бездействию – оцепенение австрийских и прусских военачальников от понесенных ими решительных поражений при самом открытии обеих кампаний. Оцепенение сие столь сильно охватило самые твердые души, что сам Блюхер, подобно прочим прусским генералам, не постыдился положить оружие в Радкове, имев под командою своею сверх тридцати трех баталионов, пятьдесят четыре эскадрона, с коими он мог, видя беду неминуемую, броситься к Гамбургу или Лауэнбургу и, перейдя Эльбу, долго наносить неприятельской армии чувствительные удары партизанской войной. Я уверен, что будь отсрочка Йенскому сражению на столько времени, сколько нужно было, чтобы прусское войско несколько приобыкло к разнообразию военных случайностей, то не только Блюхер, но и генералы, менее его одаренные мужеством и духом предприятия, и они обратились бы к сему последнему средству погибающей храбрости и извлекли бы из оного неожиданную пользу для отечества. Как бы то ни было, но слова Наполеона насчет кампаний Аустерлицкой и Йенской, относительно к партизанскому действию, справедливы и не подлежат ни малейшему возражению.
Нельзя того же сказать о так называемой им Фридландской кампании (что мы называем кампаниею 1807 года в Восточной Пруссии).
С самого начала сей кампании русская армия встретила неприятеля с твердостью. Под Пултуском она отразила часть Наполеоновой армии и отступила потому только, что битва с нашей стороны произведена была не на той точке, где следовало произвести оную. Главные силы французской армии обращены были тогда не на Пултуск, а стремились из Плоцка и Торна и угрожали громадами своими правый фланг нашей армии, находившийся у Голомина и Макова. Следственно, как при успехе, так и при неудаче нам нельзя было оставаться у Пултуска, еще менее – преследовать к Варшаве французские войска, отраженные при Пултуске. Малейшее замедление, малейший шаг вперед вдоль границы Восточной Галиции, тогда принадлежавшей Австрии, вовлекли бы нас к потере сообщения с Россиею или к необходимости нарушить границу нейтрального государства. Рассуждение сие решило Беннигсена к немедленному отступлению и к переносу театра войны в Старую Пруссию – к направлению ошибочному и кое-как исправленному перехватом курьера Наполеона к Бернадоту, коего армия наша преследовала уже к Торну сосредоточением при Янкове и сражением при Прейсиш-Эйлау – битвой упрямой, но нерешительной, после коей каждая сторона хвалилась победой: мы – потому, что удержали поле сражения, французы – потому, что после боя российская армия отошла к Кёнигсбергу.
Итак, победа французов при Фридланде есть единственная победа неприятеля в сем походе; но прежде сего несчастного для нас события мы имели время частными сшибками приучить легкие войска наши к военным случайностям. Около полугода сряду продолжалась школа сия. Нечаянные успехи поощрили к обдуманным. Наконец размышление, соединенное с отвагою, наблюдения, опытность и навык довели нас до некоторых предприятий в истинном смысле партизанской войны. Но предприятия сии, быв плодом частных вдохновений и порывов, а не соображения главного начальства, совершались еще, так сказать, на выдержку и без связи между собою. Далеко им было до того, чтобы составить целое и идти дружным натиском к общей решительной цели, ибо и самая цель сия не была еще известна ни начальникам, ни наездникам нашим.
Спустя долгое время, после разрушительных неудач в недрах России, когда гибель отечества напрягла умственные и существенные силы наши к его спасению, – тогда только удостоверились мы в большей или меньшей пользе, могущей произойти от согласного действия легких войск, в партии устроенных, на сообщения наступательной неприятельской армии, – по мере большего или меньшего протяжения сообщения ее со средоточием ее средств и запасов.
Итак, соглашаясь в том, что партизанские наезды, произведенные в кампании 1807 года, были чужды влияния вышнего начальства и, следственно, и взаимного между собою согласия в достижении цели, тогда неизвестной, я не могу согласиться в том, чтобы наездов сих вовсе не было! Бюллетени и «Монитер» – архивы истины относительно признания в неудачах французской армии – возопиют на несправедливость мою! Да и самые записки Наполеона, оценяя для точнейшего определения важность одной из перехваченных депешей в сей кампании, представят нам собственные слова его, весьма справедливо изображающие бедственное положение, коему подверглась бы армия наша, если б депеша сия дошла до своего назначения. Между тем они принесут нам и другую услугу: в них мы увидим явное противоречие удостоверению, в той же книге изложенному, и которое я оспариваю.
Начнем с записок, а потом приведем в свидетели «Монитер» и бюллетени.
«После сражения при Пултуске, в декабре 1806 [г.], командовавший российскою армиею генерал Беннигсен выступил к нижней Висле с тем, чтобы напасть на маршала принца Понте-Корво (Бернадота), занимавшего Эльбинг. Наполеон оставил Варшаву 15/27 января 1807 [г.], сосредоточил армию в Вилленберге и двинулся на левый фланг русских в намерении опрокинуть их на Фриш-Гаф. Снег и лед покрывали землю. Беннингсенова армия находилась в крайней опасности; уже французская армия достигла до тыла оной, как вдруг казаки схватили офицера Главного штаба принца Невшательского (Бертье). Взятые на нем депеши известили о движении. Беннигсен, испуганный, поспешно стянулся к Алленштейну»9 и прочее.

Вступление Наполеона в Россию. Гравюра с картины Я. Желмовского

Сражение при Бородине, 26 августа 1812 г. Д. Скотти, 1883
Вот что объявлено о том же в «Монитере»:
«Французская армия еще не трогалась с места. Все другие корпуса оставались в своих квартирах в совершенном обезопасении.
Она медлила для того, чтобы действие неприятеля более обрисовалось, и боялась малейшим движением обратить внимание его на бедствия, коим он подвергался.
Между тем движение русских прояснялось каждый день более и более. Они прошли Остероде и вступили в Лебаву. Тогда по сигналу, поданному во французской главной квартире, войска поднялись и совокупно устремились на левый фланг неприятеля в намерении зайти ему в тыл. Но на войне встречаются обстоятельства, не подвластные расчетам. Офицер, принадлежавший Главному штабу, послан был к принцу Понте-Корво с описанием движения войск французской армии. Начальник Главного штаба извещал принца о намерении императора и предписывал ему отступить до самого Торна, дабы заманить далее неприятеля. Офицер сей был схвачен казаками и не успел разорвать депеши своей. Итак, российский генерал узнал заблаговременно об опасности, которая постигла бы его сорока восемью часами позже. Сие способствовало ему прибыть 3-го февраля (22-го января) со всею армиею в Алленштейн и встретить в боевом порядке шедшую по сему пути французскую армию. Таковое обстоятельство показалось неизъяснимым. Тайна открылась на другой только день, когда узнали, что посланный офицер был взят неприятелем и не успел сжечь депеши»10.
«Монитер» заключает статью сию повторением: «Он (неприятель) был бы истреблен, если бы офицер, посланный с депешами к принцу Понте-Корво, сжег оные, ибо все было так разочтено, что неприятель не прежде сорока восьми часов мог известиться о том, о чем узнал по сим депешам. Российская армия избегла гибели посредством одного из происшествий, которые представлены случаю, дабы напоминать людям, что он вмешивается во все соображения, во все события и что если решительные удары, истребляющие армию и преобразующие ход кампании, суть плоды опытности и гения, то не менее того они нуждаются и в его содействии». Таковой курьер стоит ста эстафетов, часто привозящих известия о сплетнях парижских актеров или о пустословии Брутов – болтунов Пале-Рояля.
В течение сей кампании были взяты и другие курьеры, между коими находился и известный императорский ординарец Монтескью; но так как о них не было упомянуто в официальных бумагах, то и я о них умалчиваю.
Относительно же больных известно, что при нападении на корпус маршала Нея, 24-го мая (5-го июня) при Гутштадте и 25/6 при Анкендорфе, не только больные сего корпуса, но и обозы, парк, канцелярия и собственные экипажи маршала достались в добычу казакам Платова, переплывшим чрез Алле, а потом и чрез Пассаргу. В доказательство тому, что они действовали в тылу неприятеля, служит 78-й бюллетень французской армии, в коем сказано о деле при Анкендорфе: «Наш урон состоял в ста шестидесяти человеках убитых, двухстах раненых и двухстах пятидесяти взятых в плен. Большая часть последних были схвачены казаками, которые поутру, прежде атаки, пришли в тыл армии». 78-й бюллетень, 31-го мая (12-го июня) 1807 года, Гейльсберг11.
Из сего видно, что отряд Платова, составленный из десяти казачьих полков, Павлоградского гусарского, 1-го егерского и двенадцати орудий конной артиллерии, прежде атаки еще пришел в тыл четырнадцатитысячному корпусу, внезапно атакованному с трех сторон восьмидесятитысячною армиею. Спрашиваю всякого истинно военного человека: мог ли Платов не похитить все то, что находилось на самом удобнейшем месте для похищения? И впрямь, если уже там взяты все при корпусе находившиеся важнейшие бумаги, кои доныне хранились у генерала Беннигсена, если, по сказанию самого бюллетеня, там же взяты и двести пятьдесят здоровых солдат, то каким же способом могли избежать той же участи транспорты больных? Их перемещать было не легче самих артиллерийских парков и провиантских фур, которые, не имев времени от внезапной атаки убраться заблаговременно в отдаленное и безопасное место, попались также в руки летучему корпусу атамана.
Впрочем, зачем привязываться к словам? Намерение Наполеона очевидно: говоря о беспрепятственном ходе эстафетов и о неприкосновенности до больных его, он не столько имел в виду и эстафеты и больных, как доказательство, что в течение сей кампании все затыльные части его армии были недоступны и что на них войска наши ничего не отбили. Вот сущность обвинения. Итак, прибавим к сему следующее.
В одном из бюллетеней сказано: «Генерал Виктор (он командовал тогда вторым корпусом большой армии) проездом в Штетин был с адъютантом своим схвачен партиею, производившей в той стране поиски и состоявшею в двадцати пяти гусарах». 53-й бюллетень, 10-го (22-го) января 1807. Варшава.
В другом: «В стороне Вилленберга три тысячи русских пленных были освобождены партиею, состоявшей в тысяче казаков». 60-й бюллетень, 5/17 февраля 1807, Эйлау. Тут нужно замечание: пленные сии были освобождены не казаками, а Киевским драгунским полком, командуемым тогда генерал-майором Львовым. Генерал сей послан был для сего предмета из отряда Седморацкого, занимавшего Иоганисбург. Он пришел в тыл французской армии во время движения оной к Прейсиш-Эйлау и, отбив в окрестностях Вилленберга не три тысячи русских, а до пяти тысяч русских и прусских пленных, веденных из армии в Варшаву, невредимо возвратился с ними в Иоганисбург.
Если этого не довольно, то вот еще случай, служащий мне сильнейшею подпорою:
13/25 января Бернадот разбил авангард наш под Морунгеном и до глубокой ночи преследовал оный к Либштадту, не заботясь о первом местечке, оставшемся в тылу победительного корпуса и прикрытом самым наступательным движением оного. К несчастию французского маршала, того же числа к вечеру прибыли в село Лоокен полки: Сумский гусарский и Курляндский драгунский, командованные тогда – первый графом Петром Петровичем Паленом, а последний флигель-адъютантом князем Михаилом Долгоруким. Приметя, что пушечный гул более и более подвигается к Либштадту, Пален счел за стыд оставаться в бездействии тогда, как другие дерутся, и рассудил самовольно пуститься в тыл французского корпуса. Между тем, дабы не оставить занятый им пункт, который мог входить в состав дальнейших предначертаний главного начальства, он к отважности соединил и благоразумие, взяв из всего отряда только три эскадрона драгун и два эскадрона гусар, с коими помчался на Экерсдорф и Гимельфорт и прибыл в глубокую ночь к Морунгену, упраздненному от войск, но заставленному тяжестями французского корпуса. Пален и Долгорукий немедля ворвались в улицы и разбудили острием и выстрелами стражу корпусной квартиры, покоившуюся под покровом победы. Все, что ни находилось в Морунгене, все попалось в руки эскадронам нашим, так что 15/27 числа, когда Бернадот, вследствие наступательного на него движения всей нашей армии, возвратился с корпусом своим в Морунген, то не нашел в нем ничего, кроме одних мертвых тел, изрубленных повозок и носимых ветром бумаг его канцелярии. От карет и верховых лошадей до последней рубашки Бернадота – все досталось в добычу предприимчивым исполнителям сего подвига12.
Сим мог бы я заключить возражения насчет кампании 1807 года; но справедливость требует, чтобы я не умолчал и о собственном нашем неумении извлечь всю пользу, которую представляли нам огромные полчища, прибывшие в армию с берегов Дона, Кубани и Урала. И подлинно, за исключением ударов, мною упомянутых, из коих только два принадлежат казакам, вся служба их ограничивалась содержанием передовой стражи и действием на одной черте с линейными войсками, – действием совершенно разнородным с их склонностями, оковывающим и подвижность, и сноровку, и хитрость – сии главные качества всякого воинственного народа, коего методические уставы не заключили еще в графы европейского однообразия.
Отряд атамана Платова состоял, как я уже выше сказал, в полках: десяти казачьих, одном гусарском, одном егерском и в двенадцати орудиях конной артиллерии. Какое было назначение оному отряду?
До марта месяца он находился в авангарде главной армии. От 1-го (13-го) марта до 24-го мая (5-го июня) он составлял при Пассенгейме связь главной армии с корпусом, действовавшим на Нареве, а потом, до Тильзита, он не выходил из состава боевой линии той же главной армии. Какая произошла из этого польза? Никакая или весьма скудная! Казацкое войско било, было бито, нападало, отступало и, наконец, отступило до Тильзита вместе с прочими войсками армии… Но, боже мой! Какое представлялось ему поле для развития его природной удали!
Если бы во время движения французской армии от Вилленберга чрез Алленштейн и Ландсберг к Прейсиш-Эйлау большая часть казачьих полков была оставлена на правом берегу Алле, между Зебургом и Гейльсбергом, для действия партиями на тыл неприятеля, как сие сделал генерал Львов с одним драгунским полком…
Если бы впоследствии, вместо того чтобы в окрестностях Пассенгейма заниматься около трех месяцев пустыми перестрелками с новонабранными польскими войсками, параллельно против них стоявшими около Инденбурга, казаки наши, разделясь на партии, предприняли бы поиски, с одной стороны, между Гогенштейном и Гилленбургом на сообщение главной французской армии с Торном, а с другой чрез Хорцелен и Присниц на сообщение корпуса Массены с Варшавою…
Если бы во время наступательного движения французской армии на Гейльсберг казачьи полки двинуты были от Гейльсберга чрез Гутштадт вдоль левого берега Пассарги на Морунген, Прейсиш-Голланд и Мюльгаузен и, наконец, если бы во время отступления нашей армии от Фридланда к Тильзиту означенные полки, отойдя к Гердауэну, вдруг ринулись бы оттуда чрез Фридланд к Кёнигсбергу…
Тогда только они принесли бы истинную пользу общему делу. Действуя в совершенном смысле партизанской войны, в земле, с нами союзной и против конницы усталой и неспособной, при самой свежести своей, к отражению партизанских натисков – неожиданных, пролетных, – они неминуемо посеяли бы разрушение и ужас в тылу французской армии. Без сомнения, не им удержать можно было великого полководца на победоносном ходу его; но, по крайней мере, отвлеча за собою бóльшую часть его конницы, они чрез то лишили бы его того орудия, посредством коего предприятия его доходили до меты быстрее, решительнее, узел битвы рассекаем был внезапнее, преследования производились неотступнее.

Наполеон у Малого Ярославца. По рис Л. Бакаловича

Вступление французов в Москву, 14 сентября 1812 г.
По сию черту возражения мои относились к кампании, до которой Наполеон коснулся только мимоходом; теперь приступаю к той войне, в коей набеги и поиски вступили в состав общего предначертания главного начальства и, нанеся чувствительнейшие удары неприятелю, обратили на себя особенное внимание Наполеона.
Станем отвечать по статьям.
«Во время движения на Москву, он (Наполеон) никогда не имел в тылу своем неприятеля».
Тут представляется некоторое затруднение. Как разуметь слова: «Dans sa marche sur Moscou?» – «Во время Московского похода», то есть: «во время Московской кампании» или «во время движения на Москву»? По последнему смыслу Наполеон прав, ибо до вступления его в столицу легкая конница наша содержала только передовую стражу, и партизанской войны еще не было. Первый наезд оказался при Цареве-Займище 2/14 сентября, в самый день занятия Москвы, а второй – 9/21 сентября, при селе Перхушкове. Я бы держался последнего смысла и, следственно, не приступил бы к возражению, если бы сам историк, продолжая говорить о том же предмете, не уничтожил сего смысла следующими словами: «Ни один подвоз не был взят в течение сей кампании. Во время Московской кампании ни одна эстафета не была перехвачена», и прочее, – доказательство, что он имел в виду всю кампанию, то есть действие от Немана до Москвы, пребывание в Москве и отступление из Москвы до Немана.
Для решения сей задачи надлежит объяснить и следующую. Он не имел в тылу своем неприятеля. Как разуметь слова сии – в тактическом или стратегическом смысле? Если в тактическом, то Наполеон опять прав, ибо армия его, расположенная по московским предместьям лицом в поле, имела в тылу своем только Белый город, Китай-город и Кремль13, занятые главною и корпусными квартирами, ей принадлежащими. Но сего нельзя предположить; Наполеон был не комендантом или не начальником полиции, чтобы ограничить круг действия команды своей пределами шлагбаумов. Начальствуя несметными силами, одаренный изящнейшими таинствами военного искусства, одаренный всеобъемлющим, дальновиднейшим взором и необыкновенным чувством соотношений, он, конечно, видел далее Камер-Коллежского вала14, и потому нельзя думать, чтобы он хотел уверить нас в том, что тыл всякой армии граничит только с лазаретными фурами, хлебопеками и дежурствами. Из сего видно, что он говорит не о тактическом, а о стратегическом тыле своем, то есть не о Белом городе и Кремле, а о пространстве, по которому армия его пришла и чрез которое получала она съестные и боевые подвозы, долженствовала иметь сношение с фланговыми своими корпусами, с союзными государствами и с Франциею и по которому надлежало ей отступать в случае неудачи.
Разумея так, сказание Наполеоново – ошибочно: не прошло пяти дней по занятии Москвы французской армией, как уже сообщение ее подверглось опасности искусным движением Кутузова с Рязанской дороги на Калужскую, – движением, возбудившим во всей армии нашей восторг и удивление, но о превосходстве коего и по сие время умалчивают иностранные писатели или от низкого чувства зависти, или просто от невежества. Итак, одна тарутинская позиция, столько же наступательная в отношении стратегическом, сколько оборонительная по местности и укреплениям своим, – одна уже позиция сия сама собою опровергает упрек Наполеонов. А когда прибавим к тому отряд Дорохова и партию Сеславина, производившие поиски между Смоленской и Боровской дорогами в направлении к Вязьме, отдельные команды: князя Вадбольского – между Вереей и Можайска, Бенкендорфа – между Можайска и Волоколамска, Чернозубова – между Можайска и Сычевки, Фиглева15 – в окрестностях Звенигорода, и мою партию – между Гжатью и Дорогобужем, – тогда смело можно сказать, что слова Наполеона брошены весьма опрометчиво для писателя, стяжавшего в потомстве звание историка.
«Во время двадцатидневного пребывания в Москве…»
Наполеоново пребывание в Москве продолжалось не двадцать, а тридцать четыре дня. Он вступил в Москву 2/14 сентября, а выступил из нее 7/19 октября. Замечание сие весьма важно, ибо сии четырнадцать дней суть главнейшие союзники превосходства тарутинского пункта, имевшего столь непосредственное влияние на судьбу неприятельской армии. И подлинно, выступи армия сия четырнадцать дней прежде, то ни один замысел фельдмаршала не достиг бы до полной зрелости! Армия наша не успела бы усилиться частию войск, формированных князем Лобановым, в самом лагере учения рекрут и поступивших в линейные полки ратников не пришли бы к окончанию, с Дону не успели бы прибыть двадцать четыре полка казаков, – что с находившимися при армии полками составило более двадцати тысяч истинно легкой конницы, причинившей столь много вреда неприятелю во время его отступления, – дух армии не возвысился бы от победы, одержанной над неприятельским авангардом 6/18 октября16, и, наконец, ход продовольствия не успел бы еще вступить в колею навыка так, чтобы при преследовании неприятеля подвозы могли кругообращаться постоянно из армии в хлебороднейшие губернии, а из них в армию везде, где она ни находилась. Все сие случилось между 23-м сентября (5-м октября) и 7-м (19-м) октября.
В противоположность сему последние четырнадцать дней довершили расстройство неприятельской армии. Недостаток в продовольствии оказался уже по истечении двадцатидневного срока, ибо все то, что еще оставалось под рукою, все окончательно израсходовалось, а по израсходовании всего бродяги умножились и разврат обуял все части армии. Если бы армия сия выступила четырнадцать дней прежде, то она не только избегла бы голода, но и прошла бы все расстояние от Москвы до Смоленска путем сухим и погодою ясною по той причине, что осень была необыкновенно теплая, а стужи и вьюги поднялись только 26-го октября (7-го ноября) около Дорогобужа, то есть в то время, в которое неприятель мог уже быть за Смоленском. Я не упрекаю, я не критикую, а рассказываю, оставляя самому читателю делать заключение о важности тех четырнадцати дней, о коих Наполеон умалчивает.
«Ни один почтовой укрепленный дом (такой находился на каждом посту) не был атакован».
Партизаны не должны были этого предпринимать, ибо таковые предприятия не в духе партизанского действия. Что может понудить партизана к приступу? Два предмета: или овладение каким-либо подвозом, курьером и чиновником, остановившимися в укрепленном почтовом доме для кратковременного отдыха, или утверждение себя на пути сообщения неприятеля.
Но до первого всякий партизан может достичь без тех усилий, которых требует приступ: ему стоит только расположиться в каком-либо скрытном месте, смежном с большою дорогою, между двумя почтовыми станциями (étapes), и добыча, на которую он метит, вскоре явится пред ним на чистом поле. А до последнего он никогда достичь не может, ибо при первом появлении пред ним самой малочисленной пехотной команды казаки его должны непременно оставить место, стоившее им столь дорого, или, защищая, погибнуть в нем для предмета, совершенно противного их назначению.
Но, полагая, что партия и удержит за собою означенный укрепленный пост и тут успех произведет более вреда, нежели пользы, он прикует партию к одному месту и чрез то принудит подвозы миновать сие место окружными дорогами, тогда как посредством беспрестанной подвижности и появления на нескольких пунктах в одни сутки той же партии мало что от нее ускользнуть может.
Если же для того штурмовать укрепления, чтобы по взятии немедленно оставлять их, то это дело безумия, а не отважности, и таковой партизан немного напартизанит, как ни была бы огромна его партия.
Но когда нужда востребовала, то не только укрепленный дом, но и валом и палисадами обнесенный городок Верея сорван был отрядом генерала Дорохова; и да не подумали, что городок сей защищаем был малым числом войск: в нем взято одними пленными триста семьдесят семь рядовых, пятнадцать штаб- и обер-офицеров и одно знамя17.
Примечания и перевод иноязычных слов и предложений, если это не оговорено в тексте или в сносках, принадлежат Д. Давыдову.