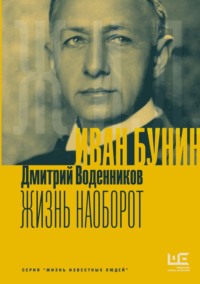Loe raamatut: «Иван Бунин. Жизнь наоборот»
* * *
© Воденников Д.Б.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
1
Ударил ком земли, и скоро Бунин оказался под землей, где так оказаться боялся.
Ком земли был мерзлый, подали его по традиции на лопате, и эта чужая смерзшаяся земля, в неожиданно жестокий парижский мороз, хоть чем-то напоминала родину.
Иногда люди кричат у могилы: «Ему (ей) холодно там!» – так начинаются театральные истерики у гроба. Но здесь никто театральных истерик не устраивал. Все одиннадцать человек, провожающие Бунина в окончательный путь, вели себя сдержанно. Одни – потому что это была для них обычная рутинная служба, другие – потому что были людьми русской интеллигентской культуры и изменять ей не умели. Кладбищенский священник, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, Татьяна Сергеевна Конюс, Борис Юльевич Конюс, князь Голицын с женой, Леонид Федорович Зуров и четверо певчих.
Все одиннадцать человек встали очень рано, еще затемно, часов в шесть. По французским законам тело должно быть перенесено из временного обиталища и захоронено до девяти утра. А утро было суровое, на улицах расцвела гололедица. Стало подниматься солнце, и парижский снег порозовел.
Когда мы читали бунинский рассказ «В Париже», нам в голову не приходило, что героиня, схоронившая своего возлюбленного, тоже ехала обратно ранним утром. Правда, там и дело было весной.
На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза… Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной – и о ее, конченой. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.
Вера Николаевна над гробом ничего не кричала, но все пережила мучительно. Это погребение далось ей трудней, чем торжественное отпевание Ивана Алексеевича на рю Дарю.
(…«Рю Дарю». Это парижская улица в восьмом округе. Какая неуместная, на русское ухо, рифма. Рю – дарю. Да и смысл: он не может не выскочить вдруг – даже если ты говоришь на французском с детства, как на родном.)
Кто-то вспоминал потом: служба была простая, строгая, чем-то напоминала фронтовое погребение. И голоса четверых певчих быстро таяли в морозном воздухе.
Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да святится имя Твое, да прии́дет
Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем
должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас
от лукаваго.
Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.
Пока хор пел эти строки на церковнославянском, одноногий князь Голицын, который на кладбище приехал со своей женой на стареньком автомобиле (он шоферствовал как раз в те времена: работал в Красном Кресте, обслуживал старческий дом; да, но ты не можешь отделаться от мысли: как же он шоферстовал, если был одноног? – однако ты гонишь эту мысль, больше всего тебя царапает тут, что князь вообще должен шоферстовать: «бывшие» люди, прошлое величие, тоска и одновременно спасительность эмиграции), опустился на единственное колено, опираясь при этом на сильно сношенные костыли, и, подняв к парижскому морозному небу выцветшие слезящиеся то ли от возраста, то ли от понятной печали глаза, стал подпевать нетвердым, как будто надколотым голосом: «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Гроб был опечатан. Как письмо. Сургучными печатями. Куда уйдет это письмо? Кто прочтет его? Кому мы вообще посылаем себя, как письма при жизни? Кому нас потом посылают, как письма или, точнее, как посылки – до востребования?
Гроб стали опускать в яму, но эта посылка не хотела уходить: долго цеплялась за углы узкой могилы. Но и тогда никто – слава богу – не закричал: «Ему же там холодно!» Люди умели не устраивать пустых истерик, да и жизнь им показала, что есть в этом мире что-то более важное, чем наши расстроенные театральные нервы.
Потом гроб с Буниным тяжело ухнул вниз.
Вот тут на лопате и подали землю.
Парижская земля смерзлась черными (нечерноземными) зернистыми ледяными комьями. Вера Николаевна стянула с холодной руки шелковую тонкую перчатку; оцарапав пальцы, отломила от смерзшегося комка земли несколько «катышков»; бросила их в яму.
Однажды Борис Зайцев вспоминал, как в 30-е годы в Грассе, на одной из вилл (мы еще вспомним о них мельком, когда жизнь, текущая наоборот, позволит нам это сделать), на берегу большой воды (мне так нравится это выражение: «на берегу большой воды», «на берегу малой воды», «на берегу быстротекущей, как жизнь, воды») Бунин вдруг засучил рукава и показал своему неслучайному собеседнику руку.
Грасс, свет, солнце, море… Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях белых на босу ногу… Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног – он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское. Засучивает совсем рукава рубашки.
– Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет… Ничего не поделаешь.
И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет, не в его характере. Хватает камешек, запускает в море – ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. «Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю». Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал.
Теперь же ни у души, ни у руки никто ни о чем не спрашивал. То, что когда-то было Буниным, «упаковали» в цинковый гроб. Это было его пожелание: он не раз говорил, что ему страшно думать, что к нему в гроб заползет змея.
Покуда март гудит в лесу по голым
Снастям ветвей, – бесцветна и плоска,
Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым,
Холодным сном – и жду: весна близка.
Уж в облаках, как синие оконца,
Сквозит лазурь… Подсохло у корней,
И мотылек в горячем свете солнца
Припал к листве… Я шевелюсь под ней,
Я развиваю кольца, опьяняюсь
Теплом лучей… Я медленно ползу —
И вновь цвету, горю, меняюсь,
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.
Где суше лес, где много пестрых листьев
И желтых мух, там пестрый жгут – змея.
Чем жарче день, чем мухи золотистей —
Тем ядовитей я.
И пусть в стихотворении «Змея» речь у Бунина идет о марте, но «посылке», отправленной в неприхотливую вечность, слишком долго идти до «адресата»: пройдет эта холодная осень, мерзлая зима, придет французский март, но некому было тебя еще при жизни утешить тем, что даже если ты чего-то сильно боишься, в конце концов оно не обязательно сбудется.
Тэффи когда-то написала (она, кстати, тут рядом, умерла примерно на год раньше): «Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала».
Может быть, зря?
(«На похоронах было одиннадцать человек». Все перечитываю эту фразу, а она, как назло, попадается в файле: я пишу текст, что-то копирую из папки с именем «Жизнь наоборот», что-то стираю, какие-то факты опускаю в черновике вниз (еще пригодятся), а эту фразу стереть забыл. И вот она иногда всплывает. «На похоронах было одиннадцать человек». Значит, вместе с Буниным двенадцать. Бунин ненавидел Блока за его поэму. Впрочем, не только «Двенадцать» ему не нравились. Нина Берберова вспоминала: «В гостях у Бунина вынули с полки томик блоковских стихов о Прекрасной Даме. Он был весь испещрен нецензурными ругательствами, которые раньше называли заборными». Да и Ходасевичу желчный Иван Алексеевич написал: «А что бы сказал Александр Сергеевич покойный об оном Блоке? Боюсь, что очень матерно, невзирая на то, что сей печальный глупец совсем не лишен дарования». Вот Блок Бунину и «отомстил». Двенадцать их было на том кладбище, двенадцать.)
Итак, никаких кремаций. Вера Николаевна выполнила бунинское завещание.
…чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного безобразия», никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб ‹…› и поставить в склеп. И, слава Богу, все было как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная, но о ней ниже. Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видело его еще трое, когда его положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма ‹…›. В этот день я спала один час: уезжая, Зёрнов мне что-то впрыснул в руку. Когда я осталась одна, у меня был припадок печени, что мешало мне заснуть. С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве, так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог. Позвонила Полонским и еще кому-то, Михайлову, Конюс взяла на себя Б.С.
Спокойно на погосте под луною…
Крестов объятья, камни и сирень…
Но вот наш склеп, – под мраморной стеною,
Как темный призрак, вытянулась тень.
И жутко мне. И мой двойник могильный
Как будто ждет чего-то при луне…
Но я иду – и тень, как раб бессильный,
Опять ползет, опять покорна мне!
Стихотворение так и называется – «Смерть». Но откуда такой страх?
С детства он этой темой заворожен. Боится. Не может смириться, бунтует. Мы помним этот гладкий камешек. Который летит и скользит по поверхности большой воды.
Говорил: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». (Гадина, гад, змея. Опять эта ползучая тема.)
Даже с тем, как обходятся с мертвым телом, смириться не мог:
Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку, и я высох бы. А в землю – это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает.
Когда умирал кто-то из близких или знакомых, на их похороны не ходил, ну или ходил крайне редко. Где-то я прочитал, что даже не простился с отцом и матерью. Странное поведение для писателя – ведь писатель пишет о жизни и смерти. К тому же смерти в текстах самого Бунина иногда даже чересчур много.
– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?
В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.
«Натали»
А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. ‹…› Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.
«Легкое дыхание»
У Владимира Набокова, который еще выйдет на нашу крутящуюся сцену позже, и, возможно, это будет его не единственный выход, в его лучшем романе «Дар» описана уличная сцена, с которой все и начинается:
Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией.
В этот облачный, но светлый день набоковский герой выходит из своей парадной – и тут же происходит чудо:
Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
Параллелепипед ослепительного неба – это так по-набоковски. Но Бунин часто видит совсем другой зеркальный шкаф – и этот шкаф отражает землю. И хотя облака тоже удаются нашему герою, и этот прозрачный воздух, и этот апрель, это позвякивание колокольчиков – но отвести взгляда от жирной или сухой земли он и здесь не может. Причем в самом буквальном значении слова «земля». Земля, которая всегда могила. Не грядка, не космический гигантский шар, а именно свежая или заброшенная могила, кладбищенская ограда.
Может быть, Бунин самый двоякосмотрящий зверь в русской литературе? Были же, есть двоякодыщащие рыбы. Вот Бунин и есть такой двоякосмотрящий тиктаалик русской прозы.
Он видит абсурд и не дающийся человеческому уму странный порядок жизни, который потом с наслаждением жизнь подчеркнет еще и социальным потрясением, после чего уже не все смогут оправиться. И пусть Бунин не сразу разглядел этот абсурд, не сразу нашел ключ (хотя какой может быть ключ у абсурда?), но когда он разгадал тот секрет без отгадки (просто есть тьма, она тут, бросай камешек чистой от жил и старческих пятен рукой, не бросай), то сразу увидел, что все зеркально. Это зеркало – и зеркало это, нет, не льстит, оно просто есть и тем пугает тебя больше всего. Потому что вот ты делаешь шаг – и выпадаешь из зеркала. А если тебя нет в зеркале – значит, тебя нигде нет. Ты живешь, как написал один из исследователей бунинских жизни и текста, только пока ты в пределах рамы. Но скоро тебе придется сделать шаг вне – и все закончится.
Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят на душу – и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось…
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.
В могильной темноте одна моя сигара
Краснеет огоньком, как дивный самоцвет:
Погаснет и она, развеется и след
Ее душистого и тонкого угара.
Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты.
Боитесь, Иван Алексеевич. Еще как боитесь.
В своем дневнике Бунин выделил однажды фразу Толстого – «Я как-то физически чувствую людей». И сразу же заметил: «Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимаю через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!»
Поэтому и больно – что вот придет, отнимет. «Ты кто?» – спросишь ты. Но мы уже знаем ответ. Тот же Толстой в своем арзамасском ужасе четко услышал имя. И никогда этот голос не сможет забыть.
Бунин – зверь. Зверю не объяснишь, что смерть – это естественно. Зверь чует свою ползущую через кусты смерть обостренно.
Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал почти с животной силой – отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи, – обладал почти звериной силой обоняния, – думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий.
Борис Зайцев
Двоякодышащее существо, двояковидящий полузверь-получеловек, раненый тиктаалик выползает на сушу, видит жизнь, чувствует смерть, его омывают сзади темные воды Мирового океана, а мордочка тиктаалика тянется к доисторическому небу. Интересно, какого оно было цвета? Неужели такое же, как мы его видим сейчас? Почему-то от этого становится особенно неуютно. Мы тоже так же посмотрим в последний раз на неизмененное и неизменное небо и не узнаем его. А потом умрем где-то под корягой – и однажды туда заползет непохожая на своих теперешних сестер древняя змея и уляжется спать на том, что осталось от нас. На наши полурыбьи, полурептильные косточки. «Ляг со мной», – перед смертью попросил Бунин Веру Николаевну. А тут не попросишь – сама приползет: смерть Морена Кащеевна, смерть Маржана Горыновна.
Бунин – со слов Ирины Одоевцевой:
Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя, и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру.
…Я пишу эту главу в апреле (уже не знаю, кто и когда ее будет читать). И вот вспомнил. Однажды, когда я был маленьким (кажется, это был второй класс), я пришел домой 2 апреля и сказал бабушке, открывшей дверь, что получил «два», кажется, по арифметике.
Что уж там переклинило в моей детской голове, теперь непонятно. Никакой двойки я не получал.
– Ну ничего, – сказала бабушка. – Завтра исправишь.
– С первым апреля! – радостно выкрикнул я.
– Сегодня второе, – ответила она. – Или ты думаешь, что можешь лгать теперь весь апрель?
Честно говоря, так я и думал. Можно лгать весь апрель. Такая вот невыносимая легкость бытия в апреле.
Ивану Бунину, наверное, казалось, что какой-то злой и глупый шутник так же его жестоко обманул. Перепутав все даты, все месяцы, все числа, он, дав человеку жизнь, не сказал сперва, не предупредил, что все кончится – рано или поздно. Ну, солгал, с кем не бывает.
«Тебе „два“, – сказал тот потом. – Тебе всегда будет „два“, даже если ты знаешь всё на „отлично“. Смерть придет и упразднит все твои лучшие оценки. Любовь упразднит, дар упразднит, саму жизнь. Ты думал, что ты бессмертен? Перечти тогда про арзамасский ужас Толстого».
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне…
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.
«Всё в тебе, конечно. Тютчев ты наш. Ты же оттуда взял эту мысль? Помнишь?»
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул…
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..
«Всё, конечно, в тебе. Но и смерть тоже. Поздравляю, Ванечка!»
…И вот «Ванечка», уже взрослый, смотрит на тень от дыма из паровоза (что еще может быть прозрачней, чем эта очевидная метафора?), которая бежит по полям (метафора бежит? Тень от дыма? Что там бежит?), смотрит на круглые белые клубы его, тающие в блестящем воздухе, и говорит: «Какая это большая радость – существовать. Только видеть, хотя бы видеть лишь один вот этот дым и вот этот свет. Если бы у меня не было рук и ног ‹…› и я бы только мог сидеть за калиткой на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то это не мешало бы мне быть счастливым. Одно нужно: только видеть и дышать».
У уже упомянутого Тютчева было («у-у-у-у» – как будто говорит в этой моей неловкой фразе качающий головой, недовольный моей фонетической глухотой звук):
Как дымный столп светлеет в вышине!
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма…»
«Ванечка» Бунин мог бы под этим пятистишием подписаться.
2
Жизнь наоборот, у-у-у-у, жизнь наоборот. О, как бы я хотел тоже начать жить в прошлое. Обратно отматывая дни. Не сделать тех ошибок, неловкостей, измен, которые сделал. Не ударить людей словами, сколько раз я ударил. Не сказать «да», когда говорил, а не надо было. Не сказать «нет». Как бы я хотел прожить жизнь в обратном порядке.
Нет, на самом деле не хотел бы.
И все же мне не дает покоя этот страх Бунина перед смертью. Отчего так? Зачем?
Ведь без смерти все становится бессмысленным.
Он писал: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске!»
Ну и отлично.
Так и надо.
Ты же писатель – соберись, смертный ангел.
Чего будут стоить все наши дни, если нам будет умирать не больно (зачеркнуто), если нам умирать не придется?
…Вера Николаевна и еще несколько человек входят в столовую и садятся вокруг стола. Потом она вспомнит эти минуты как жуткие.
Она сказала: «Дайте мне собраться с силами», – и все минуты три молчали.
Через три минуты она вспомнит слова Бунина (Яна, как она его называла): «Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить…»
Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: «Что же нам теперь делать?» Было три часа ночи. Зёрнов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открыть черный «нобелевский» сундук, где хранились его костюмы.
Интересно, каким одеколоном обтирала Бунина Вера Николаевна?
Наверное, «Кельнской водой».
Там много цитруса. Именно им «освежали» после бритья в парикмахерских. Когда пришла война (и первая, и вторая), часто на фронте его использовали как обеззараживающее средство.
Или там был цветочный и древесный запах?
Теперь Бунин пах либо цитрусом, либо деревом и цветком.
Вряд ли ему бы это понравилось. Он так сильно понимал запахи.
Был однажды с первой своей женой, поехали они с ней к ее друзьям, на дачу под Одессой, все цветет, пахнет. А он говорил всегда:
У меня в молодости было настолько острое зрение, что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный – я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние – я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.
И тут представилась возможность это проверить.
И вот выходит он в сад, вечером, и чувствует: «тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой».
«А у вас есть тут резеда», – говорит хозяйке.
Та его на смех подняла. Нет, говорит, никакой резеды. Пусть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, но вы ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.
Тогда Бунин предлагает пари. Пятьсот рублей. Жена возмущается: «Проиграешь!»
Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах – а их было много – искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости.
В общем, «Ваня» не ошибся.
Дождь прошел. Уж не трепещет
Тучка молнией-грозой.
Посмотри, как небо блещет
Сквозь деревья бирюзой!
От кустов ложатся тени,
А цветы полны водой;
Пахнет свежестью сирени,
Сладко пахнет резедой.
Точно замер пруд широкий;
Как в зеркальном серебре,
Отразились в нем глубоко
Избы, ивы на горе.
А вдали уже алеет
Свет заката, – и теплом
Ночь в окно порою веет,
Точно ласковым крылом.
Это вам не Анна Ахматова. Было у нее раннее стихотворение: она любила все эти детали, Гумилев научил, все-таки акмеизм.
Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.
Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.
Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Всё сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.
Однажды, уже в возрасте, где-то в Комарове сказала Лидии Чуковской: «Ну покажите хоть, как она выглядит, лебеда-то эта?» Иван Алексеевич знал – и как выглядит лебеда, и как пахнет резеда. Просто так не рифмовал.
…Мы только тени, любовь моя, только тени. Тени лебеды, которой мы не знаем, тени резеды, просто тени.
Как в античном Аиде, скользим, не задевая. Тени не больно. Больно только полоске света, прищемленной дверьми. Да и то если верить Андрею Вознесенскому.
У Федора Сологуба (которого, к слову сказать, Бунин не любил – «вымученная, искусственная выдумка Сологуба», – хотя, как известно, он мало кого любил, но об этом позже и еще не раз) был рассказ – «Свет и тени».
Там двенадцатилетний гимназист Володя Ловлев в ожидании обеда стоит в гостиной и вдруг у рояля видит серую книжечку, на одной из страниц которой – картинки. Голова барышни, бык, белка, ослик. Всех их можно сложить пальцами, если правильно поставить лампу, отразить тени пальцев на обойной стене. Но сейчас день – это не время для теней, их время – вечер, ночь.
Мальчик берет эту книжку с собою – и скоро он с головой уйдет в этот странный театр. И мать свою за собой уведет.
Рассказ Сологуба закончится тревожно, как-то нехорошо.
Пройдет недолгое время, и вот снова очередной вечер с крýгом горящей лампы, и полоска света из другой комнаты прищемлена дверью: Володя с мамой сидят перед лампой и делают странные движенья руками. На стене – привычные, дорогие сердцу образы: головка барышни, белка, ослик и бык. Какие-то люди. «Володя и мама понимают их. Они улыбаются грустно ‹…›. Лица их мирны, и грезы их ясны, – их радость безнадежно печальна, и дико радостна их печаль. В глазах их светится безумие, блаженное безумие. Над ними опускается ночь».
Я уже не помню, кто рассказал, но в черновиках у меня есть история.
Кто-то из моих знакомых стоит у окна и смотрит на ночной заснеженный двор. Там медленно движется силуэт. Он кажется вырезанным из черного картона или тенью. Куртка, острый капюшон. Силуэт движется медленно. Даже сперва кажется, что этот силуэт выгуливает собаку. Но нет никакой собаки. И все равно чудится, что этот силуэт не один.
И тут наблюдающий понимает, что двигающийся в квадрате снежного ночного двора действительно не один. Вдруг, как во сне, он начинает трепетать и двоиться. Потом и вовсе распадается на две темные половины.
«И я понимаю, – шепчет мой безымянный чужой черновик, – что рядом шла вторая тень, чуть пониже, но одетая примерно так же. Куртка, капюшон, джинсы. Это девушка».
И все равно из окна кажется, что там просто разделилось некое ночное призрачное существо. Два силуэта стоят сперва развернутые в одну сторону, профиль к профилю. Потом поворачиваются друг к другу и становятся похожими на два дерева под порывами ветра. Кренятся то в одну, то в другую сторону, и вдруг – навстречу. Так бывает, когда неожиданный виток ветра кренит кроны в своем потоке. Это так странно и так похоже на мультфильм, на спектакль, что сначала даже не понимаешь, что это поцелуй. Не объятие, просто сближение их капюшонов. Приезжает снежная машина, собирающая сугробы. И страшно, что она и эти тени унесет тоже, и останется только асфальт. Но она уезжает, а сугроб и два силуэта остаются.
Девушка отстраняется, стряхивая капюшон, и стоит, как стоят, когда скрывают слезы. Потом опять разворачивается, и снова они становятся единой колонной, как темный колышущийся кустарник. А потом приходит такси. И девушка садится в машину. А оставшаяся половина поднимает руку, прощаясь.
«Было понятно, что у этой пары нет дома, но почему-то осталось чувство чужого и яркого счастья».
Мы тени, любовь моя, только тени. И нам не больно.
Или не тени. А след от ботинка, заполненный водой. Да-да, мы помним: камин затопить и хорошо бы собаку купить. Почему-то в юности эти строчки казались особенно прекрасными.
Одиночество
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
Впрочем, пусть это лирическое отступление тоже истает тенью – вернемся в комнату, где умирает Бунин, мы же договорились, что ведем обратный отсчет, и я буду об этом часто напоминать, а то текст двоится, троится, пытается улизнуть на боковые тропинки – текст любит такие фокусы. А жизнь любит рифмы.
В общем, одно легкое Бунина уже не работало, а во втором плохо рассасывался «фокус». (А вот тебе и рифма. Фокус-покус. На самом деле хокус-покус: «Хокус-покус для юношества: искусство ловкости рук». «Hocus pocus junior. The anatomy of leger-demain».)
И что-то было не то с анализом крови. Бунин сказал: «Душа с телом расстается».
Вера Николаевна все приставала к нему с расспросами, а он стонал, но не объяснял.
«Я говорила: „Ведь ты умеешь это делать, отчего молчишь?“ Не хотел меня пугать».
Да что там объяснять? Душа начинает расставаться с телом – а тело не хочет ее отпускать.
Доктор, вызванный по телефону 8 ноября 1953 года, вечером определит, что конец близок: пациент задыхается, сердце ослабело. Доктор сделает все необходимые впрыскивания, попытается успокоить больного (как будто тут можно чем-то успокоить, это как успокаивать человека, стоящего на краю крыши высоченного многоэтажного дома без страховки: «Сейчас ты полетишь»), пообещает Вере Николаевне приехать позже, если понадобится, – и это, разумеется, понадобилось: ночью его вызывают снова. Но когда доктор приедет, Бунин будет уже мертв.
Тут очень ранит деталь: на шею покойного Вера Николаевна повязывает шарфик.
«Я знаю, – скажет она, – ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила…» – и она называет женское имя.