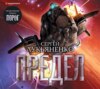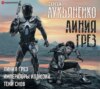Loe raamatut: «Мои молодые годы»
Наше время так отличалось от нынешнего, что словами описать это трудно. Но я попробовала.
Моим дочкам, племянникам, внукам, правнукам – всем-всем близким, нынешним и будущим… Знайте и помните свои корни.
Ваша мама, бабушка, прабабушка… Катя

Кто-нибудь потом вглядится
В наши судьбы, в наши лица…
Ю. Визбор
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Катя Корякина, 5 марта 1932 (Екатерина Ивановна Елисеева)
Миша – брат, 24 февраля 1929 – 20 сентября 2014.
Полина Корякина (Якушкина) – сестра, 17 октября 1934 – 20 декабря 1966.
Маня Корякина (Ефремова, Кокорина) – сестра, 28 октября 1939 – 4 июня 2007.
Иван Иванович Корякин – отец, 30 июня 1905 – 18 февраля 1998.
Татьяна Фёдоровна Корякина (Тарарышкина) – мать, 24 февраля 1906 – 23 декабря 1955.
т. Аксинья – тётя, старшая сестра мамы.
т. Даша – моя крёстная, мамина сестра.
Серёжа – её сын, наш двоюродный брат, 1918 – 1978(?)
д. Вася – дядя, мамин брат.
д. Егор – дядя, мамин брат.
т. Наташа (Наталья Фёдоровна Тарарышкина) – тётя (младшая сестра матери), впоследствии мачеха, 1916 – 2009.
Бабушка Даша – бабушка по матери – умерла в 1936 (?)
Бабушки Варвара, Анисья, Дарья – мамины тёти, младшие сёстры бабушки Даши.
Бабушка Лиза (Елизавета Федосеевна Корякина) – бабушка по отцу – умерла в марте 1966 г.
Дедушка Иван (Иван Никитович Корякин) – дедушка по отцу – умер в 1939.
т. Анна – тётя (сестра отца), второй ребёнок в семье, самая старшая из дочерей б. Лизы, г.р. 1908-1909(?) – середина 1980-х .
т. Граня – тётя (сестра отца), 28 июня 1912 – 18 апреля 1994.
д. Коля (Николай Иванович Корякин) – дядя, брат отца, 1918 – апрель 1945.
Клавдия Корякина (Малышева) – тётя (сестра отца), 1921 – (август?) 1960.
Соня Корякина (Миронова) – младшая сестра отца, 30 июля 1925 – 28 февраля 2015.
Коля (Николай Иванович Елисеев) – муж, 16 марта 1927 – 1 ноября 2018.
Бабушка Мотя (Матрёна Егоровна Елисеева) – его мать, свекровь, 15 ноября 1896 г. – 16 августа 1972 г.
МОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА
Родители моего папы родились в г. Егорьевске Московской губернии и жили там до самой революции. Бабушка Елизавета Федосеевна была средней из трёх сестёр. Четвёртым в семье родился мальчик Вася. Мать (моя прабабушка) решила отдать Лизу в приют, который содержала в Егорьевске барыня. Это было что-то вроде интерната или круглосуточного детского сада. (Видимо, прокормить троих детей было непросто, младшие оставались с матерью, старшая была помощницей, а среднюю, Лизу, отдали).
Когда Лиза выросла, барыня подыскала ей жениха, подготовила приданное и выдала замуж. Жених – мой дедушка Иван Никитович Корякин – работал извозчиком. Вспоминал, что возил он и революционеров на тайные сходки, а чтобы копыта лошадей в ночное время не цокали, их обёртывали тряпками. Бабушка Лиза трудилась на ткацкой фабрике, уж кто за детьми смотрел, не знаю. Она была очень ловкой, обслуживала сразу три станка, что в то время было большой редкостью.
В семье родилось семеро детей, но одна из них, Мария, умерла в младенчестве. Самым старшим был мой папа, он родился в 1905 году, а младшая, Соня, была моложе его на 20 лет, почти нам ровесница.
Бабушка мужа своего не любила и постоянно говорила об этом. «Нарожала я вас от нелюбимого, вот вы и несчастные такие», – частенько приговаривала она.
До революции жила молодая семья зажиточно. Старшего сына Ваню (моего папу) мать посылала в лавку, где продукты были подороже и получше, что подешевле они не ели. Денег хватало, в банке у них скопился небольшой капитал – золотые монеты. Конечно, всё это пропало в революцию.
От разрухи и революции семья и бежала в глушь, в глубинку Московской губернии (сейчас это Кораблинский район), в с. Октябрь. До революции село называлось Лужки. Знаю, что папин брат Коля 1918 г. р. родился уже там. Тогда вся Рязанская земля относилась к Московской губернии, а Рязанская область была образована лишь в 1937 году. Так что родилась я и до 5-ти лет жила в Московской области.
Бабушкины сёстры Анастасия и Любовь и брат Василий тоже поселились там. Дед Василий жил в Пустотине, Настасьюшка в Октябре, Любушка на Зиминском (а мою бабушку они называли Лизаветушкой). У них были там капитальные, каменные дома.
Пустотино и Октябрь (Лужки) были рядом, между ними стояли храм и начальная школа. Посёлок Зиминский был в 7-ми км, почти в лесу. Недалеко от Зиминского (2-3 км) был п. Тужиловка. Во всех этих местах нам довелось жить.
НА ТУЖИЛОВКЕ
Мои мама и папа поженились в 1926 году.
Семья моей мамы жила в Пустотине. Бабушка Лиза пришла туда из п. Октябрь свататься к бабушке Даше. Бабушка Лиза потом рассказывала: вышла Татьяна (моя мама) белолицая, румяная, чернобровая, – очень невеста понравилась. Сыграли свадьбу, повенчались в Церкви Воскресения Словущего с. Пустотино.
Папа на тот момент был комсомольцем, венчание комсомольцам не полагалось, – так про него частушку сочинили:
Служил Ваня в ячейке
Три года с половиною.
Променял Ваня ячейку
На Танюшу милую.
Молодые поселились в семье мужа, позже все вместе переселились на Тужиловку (официальное название – Максиков посёлок Кораблинского р-на Рязанской области). С тех пор, как я себя помню, мы жили на Тужиловке все вместе: бабушка Лиза, дедушка Иван, тётя Анна, тётя Граня, Клавдия и Соня (а сын Николай уже учился в с. Песочне Путятинского р-на). Маме там было плохо, всю работу сваливали на неё. Я помню, мама плакала, а я её обнимала и говорила: «Мама, не плачь», и сама начинала плакать, а плакала мама тихо, без звука, только слёзы бежали, и мне было очень жалко маму.

Потом мы переехали жить в чей-то пустующий дом на окраине Тужиловки; рядом лес с одной стороны, а с другой стороны – овраг, и за оврагом тоже лес. В этом лесу была большая пасека из колхоза «Октябрь». Когда качали мёд, все дети с посёлка туда бегали угощаться мёдом. Нас всегда угощали.
Когда мы стали жить отдельно от бабушки, у нас было своё хозяйство: корова, овцы, поросёнок, гуси, индюшки, куры, – и жили мы неплохо, в достатке. Перед домом была лужайка одуванчиков (целый ковёр!), пчёлы собирали там пыльцу. Я любила наблюдать за этим, как они долго лапками утрамбовывали пыльцу и формировали из неё правильной формы «кирпичики».
В овраге на Тужиловке было много красной глины, из которой делали кирпич и там же, в овраге, выжигали его в горне. Там была огромная печь, куда складывали подсохший кирпич и зажигали горн. В печь закладывали целые брёвна, они горели долго, пока кирпич не становился красным. Потом его остужали – и он шёл на постройку домов. Я часто наблюдала за этим процессом, это тоже было очень интересно! Так что скучать нам в детстве не приходилось: жизнь была очень интересная и насыщенная, всегда было чем заняться и что посмотреть.
Мы с ребятами «воровали» глину. Рядом с нашим домом за огородом был пруд, а дальше – лес. В пруду мы умывались, купались, а с другого конца пруда у самого берега было много голубой глины. Рядом была колхозная рига, где хранили необмолоченный хлеб, и сторож – дед Митрофан – охранял её, не подпуская никого к пруду. Но нам нужна была эта глина для лепки, она была маслянистая и очень хороша была для лепки фигурок.
Чтобы пробраться мимо деда Митрофана, кто-нибудь из ребят начинал отвлекать его разговорами. Он был почти совсем глухой, и пока пытался понять, о чём речь, мы подбегали к берегу, нахватывали глины, сколько могли, и убегали. Он иногда замечал нас и тогда ругался и грозился палкой.
ШКОЛА
Когда Мише исполнилось 7 лет, он поступил в школу. Школа была начальная, от нашего дома примерно 1,5 км, располагалась она в бывшей барской усадьбе между 3-мя нашими посёлками – Зиминский, Кипка и Тужиловка, – а рядом с этой усадьбой было всего 2 жилых дома (в одном из них нам пришлось потом жить во время войны).
Мне было 4,5 года, но я так уговаривала записать меня в школу, плакала, – что меня взяли в порядке исключения. Стала я ходить в школу вместе с Мишей и другими ребятами, со мной была ещё девочка Соня – племянница учительницы, – 1931 года рождения, тоже слишком маленькая для 1-го класса.
Учительница Екатерина Ивановна Агафонова нам говорит: пишите наклонные палочки. Я и давай писать палочку сверху донизу, через всю страницу. «Проучилась» я так несколько недель: то с ногами на сидение парты заберусь и на коленках к соседу сзади обернусь, то ещё чего. Учительница посмотрела-посмотрела, да, в конце концов, и говорит: маловата она, пусть подрастёт ещё (это и к Соне относилось тоже).
Мама меня перестала в школу пускать, а я в рёв: так ревела, что она на меня рукой махнула: иди. Прибежала я в школу уже ко 2-му уроку, учительница спрашивает: что ж ты пришла так поздно? «Меня мама не пускала-а-а», – реву я.
Но делать нечего, всё же пришлось нам с Соней от школы отказаться. Тогда мы с ней стали к школе бегать и из оврага наблюдали: если идёт урок, во дворе ребят нет, то можно поближе подойти, да у окошка послушать. А если перемена, и ребята во дворе, то мы в овраге таились.
Екатерина Ивановна часто зазывала нас с Соней домой (она жила при школе) и угощала нас ржаным хлебом, который она смачивала водичкой и посыпала сахарным песком. Мы стеснялись, отказывались. Тогда она говорила: «Вот я к вам тоже домой приду и ничего у вас есть не буду!» Только тогда мы соглашались брать это угощение – оно было очень вкусным!
На Новый год в школе устраивали ёлку: приносили пушистую сосёнку, наряжали её, водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения и сказки. Подарки были замечательные: конфетки «горошки», «подушечки» и несколько печений в бумажном кулёчке. Подарки давали всем, и дошкольникам тоже, а если у кого малыши дома – и им посылали.
Я, хоть и мала ещё была, но сказки знала (нам папа читал много). Помню, рассказала сказку про глиняного Иванушку, и мне за это дали дополнительный кулёчек!
А позже, во время войны, конфет не было, и в качестве подарков нам раздавали пирожки со свёклой и рябиной, которые пекли родители к празднику, – всё равно радость была!
Когда в сентябре 1938 года вся страна была потрясена судьбой лётчиц Гризодубовой, Осипенко и Расковой (им пришлось после вынужденной посадки самолёта провести в тайге 10 дней), мы, детвора, передавали друг другу казавшийся невероятным факт: у лётчиц был с собой такой удивительный продукт – называется шоколад – один кусочек съел и уже наелся!
Сам шоколад я увидела и попробовала лишь спустя несколько лет, когда папа принёс его с войны.
НА КАВКАЗ
Как случилось, что наши мама с папой решили переехать на Кавказ?
В 1937 или 1938 году приехала к нам в отпуск мамина родная сестра тётя Даша (они жили с мужем дядей Иваном и сыном Серёжей в Сиазани, в Азербайджане). Точно не помню, в этом же, или в следующем году отправились мы к другим маминым родным в Ставропольский край. Там жила мамина двоюродная сестра тётя Нюра, другие её двоюродные братья и сёстры и три маминых тётушки: Варвара, Анисья и Дарья. Ещё до революции тётушки переселились в Ставропольский край, очевидно со своими родителями – моими прабабушкой и прадедушкой. Не поехала только самая старшая их сестра – моя бабушка Даша, т.к. она к тому времени была уже взрослая, замужняя женщина. (Удивительно, что в этой семье было сразу две дочки с именем Дарья: моя бабушка и её младшая сестра).
Вот вскоре после того, как уехала мамина сестра тётя Даша (ещё одна!), мы стали всем семейством собираться в дорогу. Решили, что на Кавказе, в Ставропольском Крае, жизнь сытая и тёплая. Возможно, мама устала жить рядом со свекровью… В общем, распродали всё своё хозяйство: дом, живность и отправились.
Вышли мы на станции Маслов Кут (недалеко от Будённовска). Там жила мамина двоюродная сестра тётя Дуся. Они жили вдвоём с мужем, детей у них не было. Встретили они нас очень приветливо, собрали хороший стол, помню вареники с вишнями. Переночевали мы у них и поехали дальше, к тётушкам (т.е. моим двоюродным бабушкам).
Те тоже встретили нас очень радушно и уступили нам полдома, в котором жили сами. У них было много кур, которые содержались в курятнике; за ними ходила бабушка Варя – самая старшая из них, – а младшая работала на птичнике, который располагался довольно далеко от дома. Бабушка Даша там дежурила, кормила кур и молодых цыплят.
Бабушка Анисья вместе с мамой пекли хлеб и пироги с разной начинкой, а ещё бабушка шутила: делала пироги «с таком» (это были в пирогах конфеты – разноцветные драже); нам было очень интересно, что же это за пироги «с таком»?
Однажды мои троюродные сёстры Маша и Оля (дочери т. Нюры) дали мне в руки разрезанный острый перец и говорят: попробуй глаза потереть! Я и потёрла глаза, да с диким воплем побежала в дом. Боль была адская. Мама еле-еле промыла мне глаза, а тётя Нюра девочек даже поколотила и кричала на них: «Что б вы повыздохли!».
Папа работал бухгалтером в колхозе, а мама управлялась с нами и по хозяйству.
Через некоторое время сюда же решили переехать и мамины свёкор со свекровью (дедушка Иван и бабушка Лиза) с младшей дочкой Соней (ей тогда было примерно 12 лет). Тесно было, но все как-то размещались. Когда они приехали и так потеснили нас, мама сокрушалась: «Я от вас на Кавказ сбежала, а вы меня и тут нашли!»
Дедушка летом работал в степи на уборке пшеницы, мы учились в школе, Миша – во 2-м или 3 классе. Я поступила в первый класс, и была ещё маленькая Полина.
Летом нас, детей, повезли в степь на машине собирать хлопок (тогда сеяли хлопок на Кавказе, и было модно посылать на уборку хлопка детей). Началась наша трудовая жизнь. Собирали вручную, чистый, без коробочек, и завешивали, кто больше соберёт. А ещё хлопок убирали комбайном вместе с коробочками, а потом развозили по домам, и там старушки и дети выбирали его от мусора – коробочек и листьев.