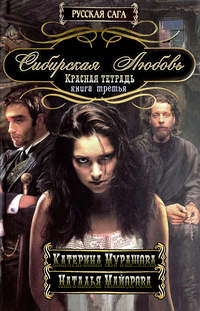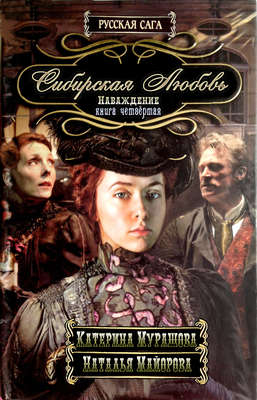Loe raamatut: «Красная тетрадь»
Пролог
Тобольск, августа 25 числа, 1891 года от Р. Х.
Недавно прошел дождь. Уже холодный, не радующий, почти осенний. Широкие улицы, на них – непролазная, густая черная грязь едва ли не по колено. В центре – деревянные тротуары с обширными промоинами. Домики темные, срубленные из толстых бревен, почти сельской архитектуры. Несколько церквей, сиротливо выглядывающих в неласковое небо, покрытое еще клочьями облаков. Здание полицейского управления каменное, похоже на сложенную по случаю кучу кирпича, из озорства кое-где оштукатуренную. Крыльцо и дверь, впрочем, опрятные, с прилагающимся к ним дежурным казаком с шашкой, в шапке из черной мерлушки с красным шлыком.
Внутри полицейского управления – уже третий час идет совет. Четыре раза подавали чай, один – кофий. Тобольский полицмейстер, титулярный советник Андрей Афанасьевич Каверзин от чая весь взмок, и с удовольствием выпил бы теперь водки или хоть французского вина. Да нельзя! Представитель губернского правления – престарелый действительный статский советник Николай Степанович Знаменский, отряженный на сборище по распоряжению председателя, барона Фредерикса, тихо дремал в уголке. По его седым усам уже давно и беспрепятственно ползала жирная зеленая муха и собирала какие-то крошки. Начальник жандармского управления Николай Соломонович Грозавич и его адъютант, поручик Солтан, переглядывались с видом институток старших классов, имеющих общую сердечную тайну. Казачий есаул Николаев украдкой гонял по столу таракана, огораживая ему путь тетрадным листком, на котором изначально планировал записать указания начальства.
Прибывший из Петербурга чин давно уже зачитал собравшимся письмо генерал-майора Александрова, начальника Сибирского жандармского округа, а нынче, также смурно и невыразительно, читал другие, идущие, по его мнению, к делу, документы.
«…Всякая уступка буйной толпе есть ничто иное, как подливание масла в огонь. Подобные уступки настолько уже поколебали и пошатнули в глазах рабочих престиж местной власти, что для поддержания ее от окончательного падения, безотлагательно необходимо иметь на приисках большее число стражи против существующей, и притом хорошо вооруженной, дабы она представляла собою действительную военную силу, а не нечто в роде рассыльных, какими в большинстве являются в глазах рабочих наличные казаки. В настоящее время угрозы, а иногда и сопротивление открытою силою со стороны рабочих, при требовании от них выдачи зачинщиков и преступников, сделались обыкновенными явлениями…»
– Вот так, господа, выглядит сегодняшняя ситуация со стороны частного золотопромышленника…
– И что же все-таки предлагается в связи с этим, я не понял? – спросил Иван Глебович Виноградский, ишимский уездный исправник. – Какую связь видят в губернии (или даже в столице?) между деятельностью разбойных банд, волнениями на приисках и активностью политических ссыльных? К чему нас собрали здесь всех вместе?
– А я совершенно согласен! – откровенно нарушая субординацию, вскочил импульсивный поручик Солтан. – При нынешнем положении дел из ссылки и даже с каторги не бежит только ленивый, тот, кому не надо. Это все знают и закрывают на то глаза. Ссыльные политические бунтари у нас под носом создали свой особый, обратный этап, по которому почти беспрепятственно переправляют своих товарищей в Россию, а после – за границу. Разве это дело? А охранное отделение все чего-то выжидает…
– Время ожидания окончилось, поручик, – весомо уронил приезжий чин. – Сядьте!… А вы все, господа, слушайте меня внимательно. Распоряжением из самых верхов (сухой палец указал в порядочно закопченный потолок) в губернии, а еще точнее в Ишимском уезде, планируется провести уникальную операцию, в которой будут совместно задействованы жандармские, полицейские и войсковые, то есть казачьи подразделения.
– Что следует от казаков? – оживился Николаев, отвлекшись на миг от своего занятия. Таракан моментально воспользовался оплошкой есаула и сбежал под стол.
– Казаки будут задействованы на самом последнем этапе. В деле окончательной ликвидации разбойничьей банды.
– Дело! Давно пора, – одобрил Николаев, оглядываясь в поисках сбежавшего арестанта.
– Непосредственная подготовка операции, как я понимаю, ложится на уездную полицию? – спросил Иван Глебович.
Приезжий чин кивнул.
– Чтобы все прошло гладко, нам понадобятся внедренные агенты, – заметил Каверзин. – Как у вас с этим? – он оборотился к Грозавичу. – Среди политических отыскать паршивую овцу нетрудно, но вот чтобы ему еще можно было доверять… то есть хотя бы быть уверенным, что он в решительный момент не перекинется обратно…
– По сусекам поскребем и отыщем потребного человечка, – ласково улыбнулся Грозавич. От его улыбки большинству присутствующих отчего-то стало не по себе.
– А теперь господа, давайте обсудим подробности и составим конкретный план действий. Так сказать, тактика грядущего боя… – сказал приезжий чин, придвигаясь к столу. Стул противно заскрипел. От громкого неожиданного скрипа проснулся старик Знаменский.
– Кавалерия, вперед! Шашки наголо, коли направо! – негромко, но внятно скомандовал он, услыхав военные термины и, по-видимому, вспоминая Крымскую компанию. Из уважения к боевым заслугам ветерана никто из присутствующих не засмеялся.
Глава 1
В которой разбойники творят злые дела, раненный инженер Измайлов поет вольные песни, а таежная насельница Надя спасает ему жизнь
В широко раскрытых глазах убитого казака отражалось небо. Должно быть, пуля попала ему в спину, и никаких внешних повреждений не было видно. Как будто бы просто лежит человек на опавших листьях и хвое, раскинув руки, и любуется мирозданием. Только какие-то мелкие соринки на роговице показывали, что ничем он уже не любуется, и любоваться никогда не сможет. Разве что райскими садами. Да и то – вряд ли.
Кого-то из беглых шумно рвало за празднично ярким по осеннему времени кустом бересклета. Может быть, признал в одном из убитых сослуживца или даже душевного приятеля. А может, просто физический склад организма таков.
Высокий, складно и чисто одетый человек выпрямился и постучал рукояткой нагайки по голенищу, сбивая несуществующую грязь.
– Деньги, папку с бумагами и какие найдете ценности – на Южную заимку. Оружие, что в карманах завалялось и одежду, коли пожелаете, – между собой, – негромко распорядился он, не оборачиваясь и зная, что кто-то позади непременно услышит и проследит за должным выполнением приказа атамана.
Откуда-то из подлеска неожиданно вылетел выводок лазоревок. Синички, нимало не чураясь человека и бодро посвистывая, обежали ствол огромной лиственницы, потом одна из них, повиснув вниз головой, поклевала шишку едва ли не на расстоянии вытянутой руки от его лица. Покосилась лукавым глазком-ягодкой и весело цвиркнула.
– Не боишься, значит? – задумчиво спросил лазоревку человек.
– Ни-чуть! – ответила синичка и вслед за братьями и сестрами перелетела на соседнее дерево, где кто-то из них отыскал вкусных, прячущихся в трещинах коры червячков.
– Сергей Алексеевич! – послышалось из леса и, перебирая короткими ногами, подбежал человек с незначительным лицом и странными, смятыми и изуродованными с верхушек ушами. При взгляде на него создавалось полное впечатление, что на ушах человека, используя их в качестве подставок, долго стояла тяжелая, наподобие каминной, полка. – Там – следы, кровь. Один, похоже, все-таки ушел.
– Догнать и прикончить! – безжалостно приказал тот, кого назвали Сергеем Алексеевичем. – Черт его знает, что он успел услыхать и понять. Нельзя нам. Раз кровь, значит – далеко не уйдет. Пусти по следу обоих самоедов, они лучше всяких собак…
– Уже пошли!
– Ладно… А кто ж это ушел-то? Как ты полагаешь?
– Никого не должно. Все здесь. Однако, из косвенных данных полагаю, что инженер. Он… – человек с ушами не договорил и попросту захлебнулся своей незаконченной репликой.
Потому что Сергей Алексеевич вдруг странно искривился лицом и начал громко и визгливо хохотать. Тряся головой, икая, ударяя себя ладонями по коленям и едва ли не приплясывая. Причина его внезапного и жутковатого веселья никому не была известна.
От неожиданности вся деятельность на небольшой полянке замерла. Приближенные атамана некоторое время наблюдали за главарем и, не решаясь приблизиться, пытались сообразить, что произошло. Только один мужик, неестественно крупный и заросший до глаз бородой, сразу догадался, что это – истерика. Видимо припадая на правую ногу, он подошел вплотную к Сергею Алексеевичу (сразу оказавшись выше того едва ли не на голову), поплевал на ладонь и в четверть силы закатал ему оплеуху. Ужасный смех сразу прекратился. В серо-голубых глазах атамана блеснул бесноватый, обжигающий пламень. Члены шайки попятились в разные стороны, но… ничего не произошло.
Заросший мужик пробормотал что-то себе под нос. Окружающие уловили лишь два начальных слова: «Будет, Митя…». Сергей Алексеевич больше не смеялся, но на его устах медленно проявлялась странная улыбка – лиловый цветок, распускающийся на чертополохе.
В переплетении колючих плетей ежевики крохотный бочажок с водой казался чудным ведьминским зеркальцем, оброненным на землю с пролетающей мимо ступы. Немилосердно царапая лоб и щеки, человек просунул голову к бочажку и разом погрузил горящее, воспаленное лицо в восхитительно холодную воду. Первый миг казалось, что сейчас разорвется работающее на пределе сердце. Потом наступило расслабляющее волю блаженство. И то, и другое было одинаково опасным, но человек медлил, не в силах приступить к потребным делам. По угольно черной поверхности воды расплывались ржавые потеки крови.
Чуток отдохнув, он, кряхтя и нелепо дергаясь, умыл лицо и шею, вытер руки кукушкиным льном и стал раздеваться. Стянув рубаху, изогнулся и осмотрел себя. Рана в боку выглядела очень нехорошо, хотя кровотечение уже почти остановилось. Да что там обманывать себя: препоганейше она выглядела, можно даже сказать, совершенно безнадежно, учитывая тайгу, начинающийся дождь и прочее. Можно было бы и не колупаться дальше, не мучить себя, просто прилечь тут у бочажка, поудобнее пристроить раненный бок и отдохнуть… В последний раз.
Видимо, он провалился в забытье, потому что не помнил, откуда она взялась. Когда он открыл глаза, она уже стояла на другой стороне бочажка и рассматривала его. Лисичка, небольшая, ладно скроенная, с густым темно-оранжевым мехом цвета осенней листвы. Если бы не внимательный весомый взгляд черных глаз, он мог бы ее и не заметить. Когда человек шевельнулся и застонал, она сделала шаг назад, в глазах возникла настороженность. Еще несколько минут неподвижности, оба никуда не торопились. Зверушка слегка поворачивала остроконечные, бархатные даже на вид ушки и, принюхиваясь, забавно шевелила темным кожаным носиком. Потом лисичка сделала свои выводы относительно него, он прочел их на ее мордочке-лице и заплакал от слабости и жалости к себе. Падаль! Не теперь, так скоро. Никакого интереса. Настороженность сменилась великолепным равнодушием. Перед уходом зверек припал на передние лапы, раскрыл розовую пасть с мелкими зубками-кинжальчиками и зевнул прямо ему в лицо. Мокрые кусты сомкнулись, и только ослепительно белый кончик хвоста мелькнул в пестроте осенней таежной подстилки.
Какое-то время человек лежал и замерзал посреди шуршания стылого дождя.
Потом, ругаясь сквозь стиснутые зубы, заворочался и промыл рану обжигающе холодной водой. Боль из тупой стала режущей и острой, но в голове сразу как-то прояснело. Он натянул заскорузлую от крови рубаху, с трудом просунул руки в рукава шинели. Мысленно в чем-то не согласился с лисичкой, поблагодарил бочажок и попытался встать. Упал три или четыре раза, каждый раз теряя сознание от боли и снова приходя в себя. Потом встал на четвереньки и пошел прочь, синхронно переставляя ладонь и колено. «Кажется, это называется иноходью,» – вспомнил он и прихотливым ходом мысли увидел в этом воспоминании какую-то надежду. Никаких представлений о направлении у него не было. В затуманенном мозгу плавало лишь абстрактное знание о том, что, пока он движется, он может куда-то прийти.
К ночи поднялся ветер и разогнал тучи. Сразу же вызвездило и вслед за тем резко похолодало. Желтая луна освещала тайгу, черные листья падали с тревожным шелестом, как хлопья мокрой сажи. Он продолжал идти на четвереньках и считал про себя: «раз, два, раз, два». Откуда он идет и зачем, он позабыл совершенно. К утру на почву пал заморозок. Опавшие листья стали хрустеть под ладонями и коленями, которые уже ничего не чувствовали. Он был зрелым человеком с сильной волей и шел, а потом полз, не останавливаясь, всю ночь. Это спасло ему жизнь.
– Кто вы? Кто вы, ответьте?!
Он с трудом разлепил не то склеившиеся от гноя, не то просто смерзшиеся ресницы и увидел ее. Она стояла в трех шагах от него, смотрела с любопытством и опасливой настороженностью. Не приближалась.
В первый момент ему показалось, что это лисичка перекинулась по обычаю таежных оборотней и стала невысокой худенькой женщиной в штанах и кожаной куртке. «Нет, не может быть, тогда она была бы рыжей,» – рассудительно сказал он сам себе. У женщины были темные, коротко подстриженные волосы.
Сразу вслед за этим вспыхнула надежда, выбросила в кровь какие-то последние, резервные силы и вернула ему способность рассуждать практически здраво.
Она меня боится! – легко догадался он. Немудрено, ведь моя рана ей не видна, и она не знает, насколько я слаб и ни на что не способен. Она здесь, по-видимому, одна, ничего не знает о нападении разбойников и видит перед собой бородатого растерзанного мужика, неизвестно откуда взявшегося. Но кто она? Одета как самоедка, мешок, темные волосы, но черты лица совершенно европейские. Что она делает в тайге одна?
– Я ранен, – он хотел произнести это спокойно и четко, но тот хрип, который, извиваясь, выполз из его растрескавшихся губ, показался маловразумительным даже ему самому. – Там… многих убили… меня хотели добить. Я сбил их со следа, спрятался. Потом шел… полз…
– Вы – разбойник? Каторжник? – резко спросила женщина. Ее голос был похож на голос какой-то птицы. – Вас хотели убить – кто? Поселенцы? Рабочие? Казаки?
Понимая, что ближайшие минуты решают все в остатке его жизни, он собрался, как мог. Он понимал ее вопросы и должен был немедля ответить на них так, чтобы эта непонятная таежная женщина поверила ему сейчас, сразу. Никакой проволочки его тело, из которого по каплям утекала жизнь, просто не вынесет.
Он вспомнил то, что читал о Сибири в статистических сводках, рассказы, которые слышал уже по дороге сюда, строгие изучающие взгляды жителей притрактовых сел, оружие, которое, не прячась, хранилось в избах едва ли не напоказ. Крестьяне и сибирские поселенцы вели необъявленную, но постоянную, жестокую и кровавую войну за свое собственное выживание. За материальный достаток и здравый рассудок. В литературе, которую он читал, народную культуру и философскую мысль Сибири обвиняли в бедности и примитивизме. Смешно, ей-богу! 200 лет сибирской ссылки сделали свое дело. Кроме политических и административно-ссыльных, с которыми в Сибирь как раз и попадали культурные и образовательные идеи, по сибирским дорогам скиталось огромное количество (по некоторым данным, до 50 тысяч единовременно) лихих, озлобленных, потерявших себя людей. Разбойники всех мастей, беглые каторжники, случайные потомки сломленных когда-то судеб, не получившие в семье ни нравственного, ни какого либо другого воспитания. Все они не умели и не хотели трудиться, но желали есть, пить, одеваться, иметь какое-либо пристанище. Грабежи, убийство, насилие были буднями их жизни. Понятно, что сибирские поселенцы не испытывали к подобным людям ни малейшей жалости или приязни и при возможности расправлялись с ними со звериной жестокостью, ничуть не уступающей их собственной. Не видя иной возможности выжить, беглые каторжники и лихие люди сбивались в практически неуловимые банды и шайки, которые имели убежища в тайге и годами наводили ужас на территории, сравнимые по площади с иной европейской страной. Этот замкнутый трагический круг не могли разорвать ни постоянно ужесточающиеся законы, ни расквартированные в городах и селах казацкие войска. Тайга – закон, медведь – прокурор… И каждый год, неустанно, в Сибирь прибывали новые партии каторжников и ссыльных. Европейская Россия прилежно избавлялась от неугодных, и ей, казалось, не было и по сей день нет никакого дела до того, как именно окраина империи пережует и ассимилирует этот поток инакомыслящих, злодеев и просто человеческих отбросов, сливаемых в бездонный дымящийся котел бескрайних лесов и болот, едва прикрытый крышкой вечного и равнодушного неба…
«Тайга – не вечерний бульвар. Здесь нет случайных людей. Она не знает меня и полагает одним из недобитых злодеев… – подумал он. – Я должен переубедить ее… Но как это сделать? Ведь весь мой багаж и документы остались там… или украдены…»
В глазах таежной насельницы – то же слегка настороженное пренебрежение и равнодушие к его судьбе, которые он уже где-то видел. Недавно… Лисичка! Нет! Плакать нельзя! Это отнимет последние силы и окончательно лишит возможности объяснить ей…
– Я – не каторжник и не разбойник. Я – инженер из Петербурга. Моя фамилия Измайлов. Андрей Андреевич Измайлов. Те, кто на нас напал… Я не знаю, кто они, но их главаря называли Сергей Алексеевич. Верьте мне! Иначе я умру прямо сейчас, и вам потом неловко будет…
– Андрей Андреевич Измайлов?! – изумленно воскликнула женщина и невольно сделала шаг вперед, к нему. Мужчина выдохнул и мысленно поманил ее пальцем: «Ближе, ближе, не бойся!» – Я слышала, знаю, что Машенька… Мария Ивановна Опалинская к вам писала. И вы ей… Но из вашего же письма… Вы должны были позже прибыть, по зимнему тракту… А теперь… У вас есть документы?
Он отрицательно помотал головой.
– Вы меня обмануть хотите! – решительно заявила женщина, снова отходя к сосне, которая и прежде давала опору ее напряженной спине. – Вы слыхали откуда-то про Измайлова, и теперь мне себя за него выдаете, чтоб я помогла вам…
Ну разумеется! Несмотря на самоедскую одежду и одинокие прогулки по тайге, у нее лицо образованного человека. Она даже знает Марию Ивановну Опалинскую и осведомлена о содержании ее переписки. Какая неудача! Возможно, настоящая самоедка поверила бы ему скорее…
– Я – Измайлов, – тихо сказал он, понурив голову и уже почти не надеясь. Все равно. Даже если он сейчас расскажет ей самую что ни на есть правду, причину своего раннего прибытия сюда он не сумеет объяснить. А если вдруг и сумеет, это лишь еще больше оттолкнет ее.
– Но почему же вы здесь? Сейчас? Без письма? – настойчиво спросила женщина, вновь приближаясь и пытаясь заглянуть в его опущенное лицо. Кажется, теперь, когда надежда больше не поддерживала его физические силы, она, наконец, осознала действительную тяжесть состояния раненного.
– Я должен был уехать внезапно, – тихо, без выражения сказал он. Силы стремительно уходили. – Письма идут слишком долго. Можно сказать, я бежал. Прошлое не отпускает. Я действительно инженер, и хотел уехать в Сибирь, что бы оставить это. Но… мне пришлось… Если бы я не уехал, оказался бы в Петропавловской крепости. Или здесь же, но уже… в другом качестве… Может быть, это было бы к лучшему, знак… Мог бы продолжать жить, бороться…
– Вы – революционер?!! – бесстрастное до сей поры лицо женщины опрокинулось. – ВЫ бежали сюда от фараонов?
– Я бежал сюда от своих товарищей, – вздохнул он. – Мне много лет. Революция и все такое прочее – для молодых. Я хотел просто пожить, работать по специальности. Но не успел…
Женщина повела подбородком, словно отметая его последние слова.
«Ей нравятся революционеры? – слабо изумился он. – Вот напасть!»
Неожиданно женщина негромко и довольно фальшиво запела:
– «Стонет и тяжко вздыхает,
Бедный забитый народ,
Руки он к нам протирает,
Нас он на помощь зовет…»
«Что это она, с ума сошла, что ли? Или у меня уже бред? Нет, ну что за судьба?! Бежать от всего этого, забраться в самую глубину тайги, почти умереть, случайно повстречать переодетую самоедкой женщину, и вдруг она ни с того ни с сего начинает петь вольные песни, которые и мы певали, когда-то, в молодости… Да она же меня проверяет! – вдруг, вспышкою в мозгу сообразил он. – Проверяет, правду ли я ей про себя сказал. Значит, я должен…»
Петь он в своем нынешнем состоянии не мог категорически. Поэтому заговорил речитативом, с трудом проталкивая слова сквозь запекшиеся губы:
– «Час обновленья настанет,
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если погибнуть придется,
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело, друзья, отзовется,
На поколеньях живых…»
Поведение женщины изменилось так быстро и разительно, что он со своей замедленной болезнью реакцией не успел отследить происходящее и даже слегка испугался. Вдруг она все-таки сумасшедшая?
– Все, молчите, вам нельзя разговаривать! Повернитесь! Дайте, я расстегну! Молчите! Выпейте вот это!
Потом он решил подчиняться всему, все равно другого выхода у него не было. Подчиниться, не ломать больше волей бессильное, трясущееся в омерзительном ознобе тело – что может быть лучше? Спокойнее? Приятнее…
– Нет! Не уходите туда! Держитесь здесь! Выпейте еще! Если вы потеряете сознание, я не смогу вам помочь! Вы слишком тяжелый! Как вас там, – Измайлов? Андрей Андреевич! Проснитесь же, не засыпайте! Если я сейчас изо всех сил побегу на прииск за подмогой, то не раньше утра… Вы мокрый насквозь, в крови, у вас уже лихорадка началась. Некого будет спасать… Значит, так, я решила. Здесь есть зимовье, в котором я ночую, когда в лесу. Там очаг, родник, травы. До него – чуть больше полверсты. Мы с вами должны дойти. Слышите?! Сейчас пойдем. Прямо сейчас! Попробуйте приподняться, я вас поддержу… Еще, еще, вот так, помаленьку, полегоньку… Не бойтесь на меня опереться, я только на вид маленькая, а вообще-то крепкая очень… Зимой-то я бы вас на елке-волокуше свезла, а теперь… Впрочем, зимой-то вы уж замерзли бы давно…
Пути до зимовья он не помнил совершенно, и так и не вспомнил никогда. Милосердие нашей памяти. Его спутница тоже ничего не стала рассказывать, хотя сама после вспоминала и даже переживала еще не раз в кошмарных снах. Для него, после уговоров, сразу – закопченный потолок, мокрая тряпица на лбу, тяжелые меховые одеяла и мелкий раздражающий перестук, как стучат вагоны на стыке рельсов. «Отчего ж я на поезде, по железной дороге не поехал?» – успел удивиться он и тут же сообразил, что никакой железной дороги в тайге нет, а близкий перестук выдают его собственные зубы.
Заметив, что он очнулся, к нему подошла давешняя женщина, присела на лежанку, поменяла нагревшуюся тряпицу на свежую, глянула серьезно, без улыбки.
– Вы меня понимаете сейчас? Помните, что с вами случилось?
– Безусловно, понимаю. И помню. Все, кроме последней дороги. Как вас зовут?
– Меня зовут Надежда Левонтьевна. Можно просто Надя. Вы – Андрей Андреевич Измайлов. Я пока стану называть вас Андреем, для простоты. У нас здесь по-простому… Слушайте теперь внимательно, потому что это до вас касается. Я промыла вам рану, Андрей, пока вы без памяти были, приложила мазь… Но пуля осталась внутри, и воспаление идет…
Он вдруг сообразил, что лежит под одеялами совершенно голый, только на боку и бедрах – повязка. Ему стало неловко, что она, совершенно незнакомая ему женщина, видела его беспамятное тело, раздевала его, ворочала. Что еще она видела, что делала с ним? Он никогда в жизни не болел ничем, кроме ангины и поноса, и не принимал интимного ухода. Теперь же представившиеся картины буквально растоптали его самолюбие. Господи! Какая гадость! Не лучше ли было бы сдохнуть там, в тайге? Он болезненно поморщился, закусил губу.
– Конечно, болит, – кивнула Надежда Левонтьевна, неправильно истолковав его гримасу. – Вот я и говорю, надо решать, и скорее. Либо мне сейчас вас здесь оставить и за подмогой бежать, либо своими силами. Давайте теперь считать. Туда я добегу напрямики быстро. Положим, в тот же час выедем. Но… фельдшер на прииске всегда пьяный, ему доверия нет. Доктор Пичугин в Егорьевске. Самоедских трав он не признает. Стало быть, еще дорога туда, да обратно… Не выйдет ничего… Не дождетесь вы нас, любезный Андрей Андреевич, или я ничего в лихорадках не понимаю…
– Что ж вы предлагаете? Привезти вместо доктора сразу попа? – он нашел в себе силы усмехнуться.
Достойный уход много значил в системе их коллективных юношеских ценностей. Когда был совсем молодой, он даже придумал и записал на бумажке свою последнюю речь, которую скажет перед казнью. Долго таскал с собой, когда перечитывал, каждый раз на глаза наворачивались слезы. Потом бумажка куда-то затерялась…
– Я предлагаю достать пулю и вычистить рану здесь, в зимовье, – сказала Надежда Левонтьевна и слегка побледнела. – Возможно, в этом случае удастся остановить воспаление. Сами понимаете, я ничего не могу обещать наверняка, но шанс есть…
– Кто ж это сделает? Вы? Вы – врач? Может быть, ветеринар? Лечите самоедских оленей?
Он продолжал острить, чтобы удержать стон и заглушить режущий ужас, выгрызающий воспаленные внутренности. Пуля осталась в ране. Началось нагноение. Помощь из Егорьевска не успеет. Он умрет в муках здесь, на глазах у этой темноволосой, отважной женщины. Прежде, чем он умрет, он окончательно потеряет человеческий облик, будет выть от боли и гадить под себя. Впрочем, то, что она предлагает, может стать немедленным выходом, так как наверняка прикончит его быстрее, чем…
– Я согласен! – быстро сказал он. – Не объясняйте ничего. Делайте то, что сочтете нужным!
Она услышала в его словах просьбу, но решительно не могла ей следовать. Она готова была объяснять и хотела этого.
– Я закончила акушерские курсы. Работала в больнице, в Екатеринбурге. Я не боюсь крови и всего такого. Я с детства помогала матери в амбулатории. Моя мать держала амбулаторию для бедных. Я изучаю медицину киргизов, остяков и других таежных народов. Мне кажется, европейская медицина недооценивает возможности фитотерапии. Я хотела бы посетить Монголию и Китай. Там древние медицинские традиции…
Может быть, она говорила не столько для него, сколько для себя. Он понял это, так же как и то, что ей никогда не доводилось доставать пулю из плоти живого человека. В сущности, все это уже было ему безразлично, но он слушал и не перебивал ее, давая ей выговориться и получить облегчение. Ей тоже страшно, а ведь она женщина, берет на себя ответственность и еще так молода…
– Надя, у вас есть какая-нибудь трава, вызывающая одурманивание? – спросил он, когда она замолчала. – Я слышал, бывают такие…
– Да, я уже заварила. На всякий случай. Чтобы не терять времени. Болиголов и еще два корешка. Действует слабее, чем опий, но все же…
– Хорошо. Что я должен делать?
– Ничего. Когда я все приготовлю, надо будет залезть на стол и… Постарайтесь поменьше дергаться и не отталкивать меня. Я привяжу вас к столу ремнями, но все равно… Мне вас не удержать… Можете ругать меня, как угодно. Любыми словами. Это мне совершенно не помешает.
– Понятно, – процедил он сквозь зубы. Об этой стороне дела он просто не подумал. – Я постараюсь. Но болиголова в таком случае не надо. Если я буду не в себе, то…
– Но болевой шок… – начала она.
«Это именно то, что надо!» – подумал он, улыбнулся и сказал вслух:
– Я попытаюсь справиться. Революционер должен уметь терпеть боль.
К его удивлению, она согласно и совершенно серьезно кивнула, принимая аргумент.
«Дура? – подумал он. – Да нет, вроде, не похоже. Тогда – что? Жаль, так и не узнаю…»
– Хорошо, – сказала она. – А теперь выпейте вот это и лежите по возможности тихо. Не отвлекайте меня, чтобы я чего-нибудь не забыла. Мне надо все предусмотреть, потому что потом, по ходу дела некому будет… Да, перед началом всего вам надо будет пописать. Хорошо было бы сделать клизму, но я не представляю, как… Ладно. Подумаю. Сейчас я дам вам посудину, она, кажется, подойдет, чтобы по-маленькому. Если не сумеете сами, скажите, не стесняйтесь, я помогу…
Измайлов кивнул, зажмурился и три раза повторил про себя: «Скоро все кончится! Вообще все!»
По убеждениям он был атеистом и не верил в потустороннюю жизнь, хотя и носил по привычке крестик, оставшийся от умершей матери, но если он и ошибается, то все равно… Все, что он когда-либо слышал или читал, говорило за то, что даже в аду не предусмотрено клизм и прочей им подобной пакости…
Когда пришла пора ложиться на стол, он был унижен изобретательной Надей всеми возможными способами, его мужское и человеческое достоинство окончательно погибло, а на его место внезапно пришло какое-то полностью отрешенное спокойствие, каковое, наверное, и свойственно умирающим. Все вдруг показалось неважным и почти смешным. Прежде, чем подставить руки под жесткие сыромятные ремни, он даже сумел поднести к губам ее маленькую, но сильную и шершавую как у крестьянки кисть. Она ощутимо сопротивлялась, а он был слаб, поэтому поцелуй пришелся куда-то выше запястья.
– Спасибо вам, Надя, за попытку. И давайте на всякий случай попрощаемся.
– Не мелите ерунды! – отрезала она и грубо выдернула свою руку из его пальцев.
Он успел заметить узенькое обручальное кольцо на безымянном пальце и уже в который раз удивился ей. Она замужем? И что же это за муж, который позволяет жене разгуливать в одиночку по тайге? Самоед-охотник? Но как же так вышло, ведь она училась и работала в Екатеринбурге?… И этого я уже не узнаю, – с непонятным ему самому смирением подумал он.
– И вы, и я должны думать, что все будет хорошо. Это – часть лечения, – чуть мягче заметила Надежда Левонтьевна. – Повернитесь чуть-чуть набок, так мне будет легче достать. И сдвиньте лодыжки. Вот так, отлично… И не бойтесь, пожалуйста…
«Я сама боюсь!» – мысленно продолжил он и едва удержался от смеха. Она взглянула на него с удивлением, расширившимися темными глазами, и сунула ему в губы небольшую, гладко обточенную чурочку. Он покорно вцепился в деревяшку зубами, решившись ни в чем более не противиться ей.
В процессе операции он не терял сознания ни на минуту, хотя не раз, позабыв о приобретенном в мятежной юности атеизме, готов был по-детски молиться Богу о мгновении милосердного забытья.
Когда все кончилось, Надя выполоскала тряпку в холодной воде, обтерла ему лицо, шею и грудь, а потом вдруг разом куда-то исчезла. Он глядел в черный, бревенчатый потолок, чувствовал невероятное облегчение от прекращения жуткой, терзающей боли и ждал какой-нибудь звук, который позволит определить происходящее: стук закрывающейся двери (пошла подышать свежим воздухом); плеск воды (моет испачканные в его крови руки); скрип лежанки и шуршание шкур на ней (прилегла отдохнуть). Ничего не происходило. Он осторожно повернул голову набок и сразу же увидел ее: она сидела на полу прямо у стола, раскинув в стороны ноги и опираясь на руки. Ее короткие густые волосы занавешивали лицо. На мгновение ему показалось, что она уснула в этой диковинной позе, в которой любят проводить время только что научившиеся сидеть младенцы.