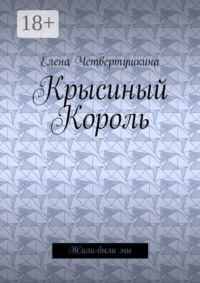Loe raamatut: «Крысиный Король. Жили-были мы»
– Сеня, почему у тебя под глазом синяк?
– А пусть не лезут!
Анекдот
© Елена Борисовна Четвертушкина, 2017
ISBN 978-5-4483-9567-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли…
Что такое молодость?
Серьезный вопрос, сродни прочим риторическим: почем фунт лиха?.. Где раки зимуют?.. Для чего козе баян?
Ни на один из этих вопросов до сих пор наука так и не ответила, а жаль.
В школах с некоторых пор преподают новую науку ОБЖ, то есть – «основы безопасности жизнедеятельности». И вот ведь притча, все точно знают, как именно защищаться, но никак не договорятся – от чего. Все согласны, что ныне сам факт существования человечества оказался под угрозой. Но в чем эта угроза состоит: что лопаем геномодифицированную отраву?.. Что рожать не хотим от лености и вседозволенности?.. Что дышим шут знает чем, и вода в водопроводе – химия голимая, что каждая курица на рынке – либо тухлая, либо с антибиотиком?..
Так тухлая, или с антибиотиком?
И что, в конце концов, нам грозит – глобальное потепление, или глобальное похолодание?
Нет ответа.
Но наука не сдается, и делает смелый вывод: все беды от курения. Курить вредно! Ну, вредно, конечно, только в наши дни курение стало этаким синонимом прославленных западными СМИ российских хакеров, на которых нынче модно валить вообще все на свете, от гибели Атлантиды и разрушения Бастилии до остановки Гольфстрима и смены магнитных полюсов Земли. Всё хорошо у нас с наукой, она трудится с полной самоотдачей, только зачастую находит ответы раньше, чем вопросы, на которые те отвечают. Особенно хорошо у нас обстоят дела с названиями. Например, по всем законам аэродинамики майский жук летать не должен, потому что никак к этому не приспособлен природой. А он летает! Физики так огорчились, что назвали этот казус «теоретической невозможностью»…
М-да.
Так что же такое юность? И где они, наши истоки, какие они? В былинах и мифах каждая без исключения речка начинается с загадочного озера или святого ключа. На деле же, за редчайшим исключением, начало даже великих рек куда как скромнее: неприметное болотце, выпавший из буреломной чащи грязноватый ручеёк, какая-нибудь глинистая заводь в буераках, топь непролазная, пиявочки-козявочки, вострый рогоз да чистотел с полыселым камышом. И фатальное безлюдье… И твой личный ручеек, до невежества чистый, но бурно стремящийся впасть в величественный и могутный поток настоящей жизни, в неуёмном стремлении своем проходит – увы! – дежурные и неминуемые пороги: хаотическое пробивание скорлупы собственного одиночества, когда, по праву новорожденного, ждешь обязательного всеобщего ликования по поводу самого факта твоего появления на свет.
Это хорошо, если дождешься. А если нет?.. А если предстоит тебе всего лишь паника грудничка, осознавшего себя в лотке для «невостребованных младенцев»; ещё чуть спустя – полное отчаяние, а сразу за ним – неистовая надежда брошенного ребенка, вынутого из кюветы пусть чужими, но сноровистыми и незлыми профессиональными руками…
М-да.
…В какой-то момент юной жизни я, примерно так размышляя, догадалась, что азартно загоняю себя в пучину комплексов (всё же высшее психологическое образование имело место быть); и, кажется, как раз за очередным утренним Правилом опомнилась. Взяла сама себя – больше-то некому! – решительно за шиворот, крепко встряхнула, и спросила грозным голосом: а не стыдно ли тебе, рыба моя, это что за ропотня?!
Тебя же от совсем страшных бед Бог хранил? – хранил. Соломки подстилал? – подстилал. Умные мысли в дурную головёнку впихивал? – случалось, чего уж там: не станешь же ты, как честный человек, утверждать, что сама такая умная… Ну и усохни, радость моя, потому что все остальное – от лукавого, хоть убейся. Только представить, какое количество кирпичей промахнулось по твоему глупому темечку, сколько гордых и свободных черных кошек обошли тебя, брезгливо шипя и плюясь, по сложной параболе!..
А отсюда, увы, жестокий и справедливый логический вывод: всё, что кажется непереносимым – всего лишь твои собственные несбывшиеся амбиции и претензии, это тоска по ним представляется непереносимой, а вовсе не дарованная Богом жизнь.
Да, честно признаюсь, было время, когда жизнь казалась мне непереносимой.
Именно поэтому я и пишу сейчас, но только не литературное произведение, нет. Скорее, вообще не пишу, а нащупываю в темноте и тумане памяти тропку, ведущую – меня, уже практически старуху, – назад в прошлое. Даже воспоминаниями мою писанину не назвать, потому что воспоминания субъективны: то вдруг восстает из толщи времени то, чего никогда и не было, но очень хотелось, чтобы было; то вдруг реальные события начинают терять внятные очертания, потому что вспоминать их мучительно. Как в любимом фильме:
– …Но это факт?
– Нет, это не факт. Это больше, чем факт: так оно и было на самом деле…
А ведь старость – это вообще целая эпоха, когда умеешь и знаешь уже так много, а можешь уже так мало.
Этот жанр называется «мемуары». Но что же всё-таки кроется за умным словом – полет, лоток для невостребованных младенцев, кирпичи и черные кошки, усталые паладины и неприметные болотца?..
Нет ответа.
В любом случае, берусь я за перо без особого энтузиазма, потому что давно поняла: воспоминания есть коварнейшая вещь, грозящая мне, автору – бессонницей и сумеречным состоянием души, а близким – вонью моего успокоительного чая и острыми приступами мизантропии, которые способны в момент остервенить даже самых преданных родных. Которые, кстати, сами и виноваты: именно они подвигли меня на описание нижеследующих событий.
Впрочем, Бог с ним, с чаем.
Слишком уж часто беспечный и самонадеянный автор мемуаров, успев счастливо миновать парочку-другую склеротических пропастей и более-менее удачно пробираясь по топким пустошам грамматики и пунктуации, вдруг со страхом обнаруживает, что вовсе не управляет, как чаял, потоком своей памяти, а летит кувырком по её стремнинам и перекатам, тонет в водоворотах, снова выныривает, оглушенный, – чтобы опять, много лет спустя, корчиться от ударов о давно исчезнувшие камни. Память – близкая родственница полыни, она горькая вещь. Опрометчиво доверяясь ей, мы уверены, что прежние ошибки оценены, взвешены и учтены, и полагаем себя уже чуть не мудрее легендарного перстня великого царя Соломона… Но, как свет давно погасшей звезды, воспоминания обладают всею силой реальности, и ждут не дождутся опять захватить власть над душой.
А ведь так много зим минуло, подумать только, и столько удач выпадало, и любви, и побед, – но, Боже ж мой, как будто вчера, будто вчера…
Глава 1
Когда я родился, дома никого не было, а на столе лежала записка: «Молоко в холодильнике».
Анекдот.
Город, в котором я родилась, – Акзакс, всегда будет для меня Родиной в единственном смысле этого слова, сколь бы пафосно оно ни звучало. В конце концов, в моем возрасте могу себе позволить неформатную сентиментальность, и употреблять святое слово «Родина» (извращенное и оболганное современными, в какую-то непроглядную заумь продвинутыми бандерлогами) по собственному разумению. Для не-утерявших души и сердца уточняю: Родина – это то, что не разменивается на экономику и политику, не тиражируется на переезд в любую другую страну, город, поселение, и не размывается восхищением ими.
Акзакс с самого начала, всегда и навсегда, – моя вечная любовь, вечная боль, пожизненная моя ностальгия. Какою бы ни оказывалась жизнь, плохой или хорошей, скучной или интересной, – вспоминаю этот город, не могу не вспоминать, не видеть во сне и академическую философичность старых особняков, и заносчивость доходных домов, которые, задорно подбоченясь балконами, лихо сдвинули на затылок треуголки крыш, и поглядывают насмешливо на людей, на утекающее в сквозняки подъездов чужое время. Чужое – потому что подъезды самоуверенны и горды: думают, что всё уже видели, всё пережили, всё знают наперёд…
И бульвары: капризные и очаровательные, в обрамлении столетних, перекрученных временем стволов тополей и каштанов, непостоянные, неотразимые, с неожиданными коленами аллей в густых зарослях сирени, каждодневно переполненные яркой жизнью своих завсегдатаев, только ими живые и бессмертные, – они гомонили, переговаривались, переругивались, и существовали искромётно и творчески.
– …Дама, откуда у вашей собаки столько медалей?! Она что, съела генерала?
– Идите себе, мужчина, что за мода приставать к приличным сукам… Жужу, детка, плюнь на глупого дядьку. И не мотыляйся между ног, гуляй прежде…
– …Скажите, если я пойду в эту сторону, там будет вокзал?
– Кто вы такой?! Где вас научили такому беспардонному снобизму? Вокзал там был, есть и будет, даже если вы никуда не пойдете…
– …Боже ж мой, няня, что ж ваш ребенок все время так оглушительно орет? Чего он хочет?
– Вы ничего не понимаете в детях, молодой человек. Ребенок хочет орать!
– …Что тут толпа, кто мне скажет? В этом городе что-то случилось?
– Нет. Но надо же убедиться лично!
…Тогда, в ту доисторическую эпоху, ответить на вопрос о молодости было очень легко. Это просто была весна, акзакский внезапный март, революционер пламенный, от чьей юной пылкости плавились сугробы. Даешь лето! Даешь зелень! Долой снег!.. И лавины с крыш, и готический благовест падающих сосулек, и дворники, сосредоточенные и суровые, как саперы… Вот с апрелем уже сложнее, потому что первый дурман чуточку повыветрился; солнышку приходится вставать раньше, для него начинаются трудовые будни, не блещущие чистотой. Из-под тающего снега выползает, надвигается, гася эйфорию, неприглядная, голая, неприбранная земля. И со всем этим придется делать весну… Тебе придется сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать…
Но мы-то делали из зимы весну. И какую!..
…Конечно, теперь я знаю, так бывает: если человек рано лишается родителей, по любой причине (умерли, или уехали, или просто заняты выше крыши – не до детей, есть дела поважнее, всякое случается), то маленькому человечку это всё равно до лампочки, он же просто не знает, чего лишается. Нет, мы патологических случаев мы не берем… Но в случаях так называемых «рядовых» вместе с молочными зубками у позаброшенного ребенка расшатывается некое, свыше данное, счастливое восприятие мира, ранее защищенное какой-то неизвестной, Небесами благословенной непотопляемостью. И приходит момент, когда преждевременный опыт подсказывает, как ужасно не хватает собственных капризов, которые кто-то обязательно станет терпеть, а ты за это простишь им всё, что угодно. Когда тебе прощают, – когда ты прощаешь – всё, что угодно просто так, ни за что, по неписаному закону беззащитности, нежности и преданности, которых не надо никому объяснять… Да и что тут объяснишь: мамины ласковые руки и бабушкины плюшки на ужин, и папино – рискованное, до счастливого визга, твоего и мамы! – подкидывание под потолок, и дедушкино привычное ворчание перед сном: отчего это никто никак тут не угомонится, и понимает ли кто-то здесь, в этом зоосаде, что папе с мамой завтра на работу?..
И вдруг встречаешься со всем этим лицом к лицу в гостях у случайной подружки… нет, скорее в любимой книжке – откуда же ещё было черпать жизненный опыт! – и внезапно, в горестном прозрении, узнаешь и понимаешь: ничего этого у тебя на самом деле нет, и не было никогда, только мечты да надежды. Проникнутые культом семьи «Серебряные коньки», «Убить пересмешника», «Капитан Крокус»… Подумать только, да ведь и вредного мальчишку Тома Сойера так искренне любила тетя Полли! Даже у Пеппи-Длинный Чулок обнаружился любящий, хоть и романтический, папа.
И тогда…
Тогда частенько случается следующее: в наивности своей ты овеществишь и сведешь к предметам всё, о чём тоскуешь, и станешь требовать от вещей какой-то невнятной компенсации за недополученную от людей любовь. Но вещи не умеют любить, сколько бы их не было; убедившись в этом, опять отчаявшись, ты в безумной тоске и растерянности пойдешь вразнос, и враз объявишь войну этому миру, в пику и назло всему хорошему и нормальному, которого тебе лично не досталось почему-то.
Или иначе: не попав в мир людей, позабытая в мире предметов, в неистовом стремлении хоть где-то обнаружить положенную тебе по праву беззащитности любовь и нежность, начнешь любить то, что окажется под шарящей в поисках взаимности рукой – плюшевого мишку, няню, чужой дом или чужую семью – первое, что окажется работающей «валерьянкой» от детского, не очень понятного взрослым, но действительно вселенского и катастрофического одиночества.
Так было и со мной. И так уж получилось, что моим лекарством от одиночества стал большой, старый и мудрый, редкой красоты город, – персонально для меня (как я часто думала) созданная Господом утешительная и поучительная сказка.
Наверное, потому и оказалось так несложно научиться сидеть на коленях не у бабушки, а у старых подъездов, и разговаривать не с сестрами и братиками, а с дождинками; и отличать ласковые интонации капели с крыши маленькой церкви за углом от строгого, требовательного речитатива капели со стрельчатого навеса над крыльцом Кафедрального Собора. И, уж совсем по-родственному, просто пропускать мимо ушей ворчанье (как дедушкино) зануды-трамвая – ну вот так некстати мне сейчас его громогласные сентенции, упрёки и увещевания, а он все ворчит и ворчит… Я научилась рыдать на жесткой, но всепонимающей груди парковой скамейки. Привыкла здороваться с лестницами и подъездами, как с дальней, но любящей роднёй. А вот с перекрестками у меня сложились довольно трудные отношения, как с крёстными, которых тебе кто-то когда-то навязал, теперь уже и спросить-то некого, а не денешься никуда, как бы ни хотелось. А они, вот ведь незадача, всё зудят да зудят, всё учат да учат: ты куда, нет, не туда… И так хотелось гаркнуть – все от меня немедленно отстали, я сказала!.. Куда хочу, туда и иду, вот что ты со мной сделаешь, съел!? И упрямо думалось, что ничего они не понимают на самом деле, просто по сути своей мелочны и недальновидны…
Тупики, загороженные дворы, «кирпич» под воротиной двора, на который мне не было надобности обращать внимания – всё это жило вместе со мной осмысленной, взаимной и насыщенной приключениями внутренней жизнью. Мне всегда в то время было не с кем поболтать, и я совершенно спокойно делилась своими соображениями по поводу тысяч важных вещей и с атлантами и кариатидами городских подъездов, и с античными фигурами на фонтанах; играя сама с собой в «северный проход», сворачивала за угол в неприметный переулок, и вдруг нос к носу сталкивалась со статуей утомленной дамы с дитятей, прикорнувшей в теньке столетнего тополя. И машинально, от неожиданности, говорила: «Ой… Привет!»
А в следующий раз – уже без «Ой». И вскоре начинала замечать, – видеть, отмечать и сочувствовать, – как напряжена спина склонившейся к ребенку женщины, как натружена рука, тревожно подхватившая упитанного младенца… Мне казалось тогда (а может, и не казалось), что всё¸ имеющее живой облик, живо откликается мне – ну, раз уж больше некому было откликаться. Акзакс всегда был щедр на мудрые уроки, он говорил: дома даже коровья лепешка пахнет маминым молоком. Я и училась: трудолюбию – у трамваев, терпению – у потрескавшихся, седого камня ступенек Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, оптимизму – у Беспечного Птицелова с фрески на доме бывшей Гильдии Гобеленщиков.
Нет, я никак не числила себя сиротой. Да в ум не залетело бы… Совесть потерять совсем бы пришлось, – так думать перед лицом прекрасного древнего города, любимого и любящего меня, какая есть, какой бы ни была, – оплота, опоры, наставника и хранителя!
…Он густо переплетен каналами, по, ому что в средние века, в эпоху развития ремесел, река была самым дешевым видом дороги. И если плыть по нашим каналам по старому городу, то над головой то и дело нависают верхние выносные этажи ближних зданий и балки, теперь уже в большинстве своем бессмысленные, но служившие когда-то для подъема грузов, – чтобы миновать узкие, на поджарого человека рассчитанные, лестницы и проходы верхних этажей. По Акзаксу ходит байка: на каналах очень легко вычислить дом пьющего хозяина, там на выносных балках до сих пор болтаются хорошо смазанные блоки с крюками – доставлять главу дома, напившегося до положения риз, в родные пенаты…
А вообще история моя проста.
Я родилась в Акзаксе, в достаточно обеспеченной семье, и жила там до семи лет вместе со старшим братом Артуром. Мама умерла рано. Отец нами очень гордился, и даже любил по-своему, но времени на нас не находил совершенно, так как занимал очень высокую должность при дворе, и потому в какой-то момент Артур отправился в военную школу, а я – в интернат при монастыре Преображения Господня.
Вернувшись отта узимойда через 10 лет, я обнаружила, что Артура нет, и не предвидится – он продолжал учёбу. Загородное имение на Щучьем Усе в дачном, дорогом, как сейчас говорят, элитном пригороде Акзакса, где мы тогда жили, состояло из тихого барского дома с громадным, уходящим в бесконечность яблоневым садом, – мы с братом провели там счастливые и оголтелые детские годы, играя в мушкетёров и индейцев. Оно и тогда-то было весьма пожилым, а теперь и вовсе шагнуло в заслуженную старость. Летний флигель потихоньку обрастал снаружи девичьим виноградом, а изнутри – плесенью и сталактитами бледных грибов. В собственно доме потолки первого этажа потихоньку сгибались коромыслом, окна в спальнях страшно сифонили летом, а зимой покрывались разлапистой изморозью; полы предсмертно скрипели почти повсюду, печи дымили, кухарка-поденщица, лет 80-и от роду, постоянно грозила уволиться, и готовила с редким упорством всегда недоваренное, пережаренное, недопечённое, пересоленное… Папа по-прежнему не находил времени заниматься нами, и потому назначил мне опекуна – своего друга, члена Парламента маркиза де Ла Оля, в чьем огромном доме на Левом, ещё более престижном берегу Акса, на улице Подзащитных Грешников, мне и предстояло далее проживать. Собственно, я вернулась из монастырской школы для поступления в Университет. Мне тогда казалось, что изучение науки психологии даст мне верный рецепт избавления от всех горестей земных. Кстати о трагических закидонах молодости: так часто юное существо опрометчиво выбирает профессию вовсе не из стремления употребить собственные, Богом данные, трудно реализуемые таланты, и тем облегчить чужие тяготы, а имея в виду попросту наплевать миру на башмаки, надавать ему по морде своими немереными победами, чтобы расплатиться за все мучительные с ним, миром, дрязги и свары, за все детские проигранные битвы…
Хотя, кто знает, – не глупец же сказал: врачу, поди, сведи бородавки у себя с носу, а там, может, и увидишь, как вынуть всякое разное вредное из внутренностей ближнего своего.
…Попав обратно в Город, я занималась, конечно же, ужасно интересной учёбой, вот только имела неосторожность влюбиться в своего опекуна. Как и положено по законам жанра – по уши. Никаких особенных эскапад я себе не позволяла по причине болезненной застенчивости и непрошибаемой невинности, только писала ему тайком каждый день письма, в которых было очень много литературы и очень немного собственно страстей, о которых я тогда имела, слава Богу, чисто книжное представление. Маркиз (до сих пор горжусь тем, что моя скрытность почти граничила с деликатностью) о письмах ничего не знал, равно как и о моих страданиях, и довольно охотно проводил со мной нечастое свое свободное время. То, чем эта мыльная опера закончилась, лучше всего расскажут письма. Упаси Боже – не стану приводить их тут все, только основные, исключительно ради того, чтобы ясно стало: я была в то время непростительно юной, непростительно романтической, непростительно наивной идиоткой.
…А теперь вот, в старости, думаю – может, Господь милостив настолько, что с тех пор изменилось не так уж много?..
Нет ответа.
Поэтому – письма.
1 письмо.
«– Знакомьтесь, маркиз – моя дочь, Зоринка Норенс. Зоринка… Маркиз де Ла Оль.
Ты сдержанно киваешь.
Пауза.
Я узнаю, замираю, вспыхиваю.
– Здравствуйте…
Сказав пару приличествующих случаю слов, отец нас оставляет – у него много дел. Ты идешь его проводить.
На улице – дождь. Будто и не весна вовсе, и ветер треплет мокрые ветки, а листья на них совсем уже распустились. Холодно, хоть и май, небо свинцовое… На окнах – капли, как звезды на небе. Окно высокое, стрельчатое. Тяжелые занавески – в тон ковру. Комната – сводчатая, на втором этаже твоего дома. Дом стоит на улице Подзащитных Грешников, на Высоком берегу – самой фешенебельной улице моего Акзакса.
Ты возвращаешься, проводив отца, и я поспешно делаю умно лицо.
Ты говоришь:
– Твой отец… В общем, для тебя всё к лучшему. Алеа якта эст («жребий брошен») … Монастырская школа… это, конечно, неплохо, но… Тебе надо учиться дальше, и, видимо, я смогу помочь. Жить будешь здесь. Только давай договоримся сразу, ребенок: библиотека, сад, кухня – пожалуйста, но в мой кабинет носа не совать.
Надо же, а я тебя за умного держу… Сдался мне твой кабинет! Что может заинтересовать «ребенка» в кабинете – окно, задраенное наглухо? Ковер нетоптанный?..
О монастырской школе ты говоришь так, как будто меня привезли из лепрозория. А мне, между прочим, там очень даже нравилось, потому что там все были добрые, и любили меня, и учили рисовать, и петь, и читать стихи…»
Не могу не прервать письма для справки.
Ничего, что могло бы напугать трепетного обывателя, в монастырской школе мы с Джой (моей обретенной там, и, как выяснилось потом, пожизненной подругой) так и не увидали, хотя последующие друзья долго отказывались нам верить. Ни Джой, ни я в детстве к религии никак не прикасались, поэтому в монастыре нам многое казалось не слишком понятным, но и не сказать, чтобы как-то неприятно. Мы, попавшие именно в монастырскую школу не по личной вере, а по произволу дураков-взрослых, насилия над собственной личностью, безусловно, терпеть не собирались, но готовы были сочувствовать чужим порядкам, которые добрые люди просили соблюдать, со всем уважением к нам. Единственное, что на самом деле убивало, так это публичность: общие спальни, дортуары и туалеты. Невозможность ни на секунду остаться наедине с собой… Суровые монастырские правила были не слишком понятны двум девочкам, не собиравшимся сочетаться на всю жизнь со Христом.
Но!
Но добрая сестра Елена читала нам перед сном и Агату Кристи, и Конан Дойля, особо обращая наше внимание на тот факт, что замечательные эти авторы были, безусловно, верующими людьми, и все удачи и подвиги своих героев полагали несомненной милостью Божьей.
Но, кроме того, сестра Наталья разрешала лазить по деревьям, и не ругала никогда, только просила быть поосторожней, и смеялась, замечая, что вот если бы тот мытарь не умел лазать по дереву, – кто знает, как сложилась бы его судьба?! И говорила из Писаний и про Кану Галилейску, и про лилии, которые не прядут и не ткут, и мы всё понимали, и то, что говорила она, и то, что читала из Евангелий… Всё это хоть и не увлекало как-то особенно, но казалось нам, в наши шесть-восемь лет, абсолютно разумным и справедливым. А потом стало совсем интересно, но тут школа кончилась.
Поэтому – опять письма.
«…Называть человека на 18-ом году его жизни ребенком – рискованно, мудрец, даже при нашей с тобой разнице в возрасте – 12 лет. Меня-то она, собственно, никак не волнует, эта разница, но что поделаешь? – наверное, надо было так соскучиться, как я по тебе соскучилась, чтобы налаживать эту – через 8 комнат – странную переписку.
Надежды? – дождь идет. Слова на самом деле прозрачны и недолговечны, они осыпаются на чистый лист, как капли дождя на стекла окон.
– Ты всегда такая молчаливая?.. Конечно, от первой встречи трудно ждать непринужденности, но я надеюсь, у нас ещё будет время…
Первая встреча? – ох, извини.
Ты мудрец, но этого ты не знаешь. И никто не знает – только я, да Артур. И было это 5 лет назад. И обретались мы тогда на Щучьем Усе. И папе, занимавшему крупный государственный пост, срочно потребовалось тихое место для секретной встречи. Потом, позже, я узнала, что из Мидо-Эйго, загадочной страны за железным занавесом, был выслан «по тихому» за участие в антигосударственном заговоре некий человек 24-х лет, талантливый, горячий, нетерпеливый, дипломат и чернокнижник. Да ещё с рекомендательным письмом от близкого друга моего отца… И папа вспомнил про Щучий Ус. Без сомнения, там свидетелей можно было не опасаться: дети в счёт не шли, а слуг опытный царедворец набирал лично.
И всё-таки свидетели нашлись.
Артур в те времена ещё болтался дома, готовясь к поступлению в военную школу, а я приехала на Рождественские каникулы. Вполне допускаю, что папа об этом не знал. Разбуженные сдержанной суетой в неурочный час, мы с Артуром индейским шагом покинули спальни, обогнули дом по застекленной холодной галерее второго этажа («…Я же говорил тебе, балда, что папа не мог забыть про твой день рождения! Просто у него дела тогда были, всего-то и опоздал на две недели – подумаешь!»), и забрались в гулкую оранжерею, отделенную от каминного зала многосуставчатым остеклением. Отец, конечно, забыл о моём дне рождения, но подарок он мне всё же сделал – я увидела тебя. Впечатление, которое ты произвел, в моем внутреннем мире вполне можно сравнить с государственным переворотом, хотя, скорее всего, особо романтическую атмосферу создавало то обстоятельство, что говорили вы на неизвестном нам языке.
…Потом Артур сказал:
– Хоть бы на минуту к нам заглянул… Конечно, на всяких там у него время есть… А мы?!
Я сказала:
– Ему некогда.
Артур резонно возразил:
– Нам тоже некогда! С утра до ночи – учителя эти дурацкие, гувернантка твоя – дура ну, просто выдающаяся: «Фройляйн… Нихт ломать зонтик, нихт…» Тебя не дождёшься… Давай вот что: я завтра стащу из кабинета винчестер, зароем около беседки, в снег. А когда у тебя каникулы кончатся – сбежим в пираты! Спорим – там нужны отчаянные люди вроде нас…
Увы – бедная я! – мне уже было не до пиратов.»
Письмо № следующее.
«Удивительно, как так получается – родной, до печенок, казалось бы, знакомый город, и столько неожиданных подарков-открытий… Каменный, через канал, узловатый мост с железными перилами, изящное продолжение аллеи городского сквера, – а с обеих сторон, с газона, на мост забрался пестролистный плющ, и теперь свисает в каменные пролёты моста (тёмные и глухие) русалочьими, небрежно чесаными зелено-желтыми косами… Знаешь, а раньше, очень давно, надежность новопостроенного моста проверяли, прислушиваясь к падению на него дождевых капель. Я недавно нашла в библиотеке книжку, и выяснила: этот метод называется «ударно-эховый способ анализа повреждений». Он не требует ни денежных затрат, ни перекрывания дорог, только человеческого – профессионального – фактора…
Между Арденалью и Коммерс – лестница-переулок из каменных плит; справа, на террасах – сквер с плакучими ивами, лохматыми рододендронами, половичком тюльпанов и белоснежными, пухлыми страусиными перьями цветущей спиреи. Слева, ступенями, двухэтажные домики окнами внутрь; к вершине холма, на которую карабкается переулок, дома становятся ниже на этаж (нарастая этажностью с другой своей стороны, выходящей на иную, спускающуюся вниз, улицу или переулок), а господствующую высоту победно заняла гордая церковь со стройной колокольней…
Нам с тобой не о чем говорить, любимый; у нас нет ни общих интересов, ни общей памяти. Я придумываю из головы темы, которые – на мой ограниченный неопытностью взгляд, – могут показаться тебе интересными.
Например, вот эта: что такое юность?
Нет, нет ответа!
Проще всего сказать, что это такой отрезок времени, – но прогрессивные ученые уже почти доказали, что времени как такового в мире не существует, то есть не было раньше, потому и жили ветхозаветные патриархи по тысяче-другой лет. И доказательства приводят: период детства у всех известных видов живых организмов занимает не более одной восьмой жизни. А у человека – одну треть: двадцать – типа взрослый; сорок – типа в расцвете; шестьдесят – типа, бабка, опа… И растекается по умам гипотеза, быстро переходящая в теорию (кем-то, приближенным к научным кругам, смело выдвинутая), что Время, как понятие и образ жизни, на самом деле завезли к нам, человекам, проезжие инопланетяне, – может, туристы, может, разведчики, – из каких-то, как пить дать, муторных и клейких соображений.
Так что же есть она – длинная, по сравнению с общим сроком жизни, но такая короткая молодость – бутон цветочный? Бабочкина куколка? Набросок, этап яростного размешивания красок на палитре, в поисках настоящего, глубокого и вечного цвета, возникающего – если повезет – из хаоса оттенков… Хаос, в переводе с греческого – зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, которые существовали ещё до сотворения мира. Но, видимо, всё же заложена была в той бездне возможность состояться, разродиться столь дорогим всем нам подлунным миром, как заложено в бутоне – цветение, в куколке – превращение в бабочку, а в палитре – чудное виденье.
Конечно, можно и не состояться, кто ж тебе запретит. Так заманчиво – струсить, залениться, плюнуть на все и закуклиться в инфантильность. Имеешь право по Конституции практически любой европейской державы уйти в тину, в рутину, в обиход, да ещё объявив снисходительно (чтоб отстали более энергичные надоеды) всё это неким Великим и Таинственным Знанием. Эквилибристика понятий, надерганных из христианства, исихазма, мусульманства, синтоизма, астралы с эфирами… Так сладко на диване, под пивко с гамбургером, находить в Интернете доказательства своей правоты – правоты лежать на диване. Если захочешь, в Интернете можно найти всё что угодно: рецепт домашнего вина, особо пухлых оладушек, выживания в ядерной катастрофе, исторические ссылки на многоценность нацизма с ленинизмом, методику построения идеального общества, а также «как создать нехитрое домашнее взрывное устройство, недорого»… Это как ружьё с пистолетом: можно собственных детишек учить прицельности, рассказывая параллельно о Робине Гуде, Вильгельме Телле, олимпийских и паролимпийских, вечных, злу неподвластных, ценностях… А можно и школьный автобус с теми же детишками расстрелять, просто потому, что пиво кончилось, и так всё обрыдло, что личная жизнь совсем не задалась…
И начнут, начнут дураки и дороги усложнять допуск к «травме», мачете и охотничьему карабину, запрещать продажу марганцовки и семян петрушки, – классическое на базаре конопляной веревочки сделалось не купить!… Как будто запрет трав, стали и дерева воистину переделает мозги клинических сумасшедших, и снимет все проблемы – социальные, политические, экономические, нищету и неравенство, всю дурь и копоть пошедшего вразнос капитализма, – жестокого, родства не помнящего мироустройства, порождающего все нонешние социальные истерики, психозы, выпадения из социума, терроризм и войны с путчами. Да, я уже знаю, что такое капитализм, «травма», нацизм и семя петрушки. Интернет не для всех зло.