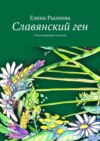Loe raamatut: «Моя история. Летопись трех поколений на сломе истории»
Иллюстратор Елена Рылеева
Дизайнер обложки Елена Рылеева
© Елена Рылеева, 2023
© Елена Рылеева, иллюстрации, 2023
© Елена Рылеева, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-0060-1754-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Посвящается моему папе
Ворошилову Владимиру Васильевичу.
В 2023 году ему исполняется 90 лет
Я очень люблю своих внуков и сына, остро чувствую свою связь с предками. Для меня мой РОД – это ментальная реальность, айсберг, верхушка которого это все мы, ныне живущие кровные родственники и наше ближайшее окружение.
История моего рода и жизнь страны в моей памяти туго переплетены, поэтому внешняя корректировка этой истории практически невозможна. Это подает надежду на живой диалог с потомками без фильтров официальной истории, которая в наше время регулярно переписывается. Постоянство – залог процветания. Это то, чего я желаю своим потомкам, поэтому берусь за труд и пишу свою историю.
Надеюсь, что книга поможет читателям озадачиться такими актуальными вопросами, как: Кто мы такие, русские? В чем наша сила и чем мы слабы? Почему развалился СССР? Зачем нужна была революция 1917 года? Что такое Перестройка и как мы ее проиграли? Стоит ли бояться поражений и каких? Как жить долго и счастливо?
Я смогла найти ответы на эти вопросы, погрузившись в опыт выживания на этой земле моих предков. Труд моей жизни всегда имел цель: помочь потомкам завершить период выживания и начать жить достойно и счастливо. А иначе зачем было приводить в мир детей?
«МОЯ ИСТОРИЯ» это роман, действия которого начинаются в тихом дворе довоенного Рыбинска, а заканчиваются в послевоенной Уфе и охватывают период 1933—1993 г.г.. Описание тыловой жизни людей в Великой Отечественной войне, которые уходили из жизни без счета и совершали ежедневные подвиги без наград, представляет особую историческую ценность, потому что дает ключ к пониманию многих процессов современной жизни простых россиян.
Поводом для написания романа стал 90-летний юбилей моего отца – Ворошилова Владимира Васильевича.
Несмотря на преклонный возраст, папа сохранил здравый ум и хорошую память. Мне было интересно слушать его рассказы, знакомиться с его мнениями и оценками событий, свидетелем которых ему довелось стать.
Писать откровенно, не меняя имен и фамилий – большой риск. Но я на него пошла, чтобы привлечь внимание потомков тех персонажей, которые стали героями моего романа. Пора браться за руки.
Это – наша страна! Это – наша земля! Это – наше время!
НА РЫБИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Когда две половинки – это целое
Семья – это творческая лаборатория человека. Какой матерью быть или дочерью, какой женой или бабушкой? Это единственный клочок свободного поля нашей жизни, где мы можем договориться со своим избранником или попутчиком о правилах – своих правилах, удобных для обоих. Это закрытый мир, двери в который мы открываем не каждому, но в который традиционно свободно входят со своими советами и требования родители, свободно выходят дети…
И тогда семья теряет свое содержательное наполнение, освобождая место для более глубоких отношений с окружающим миром, но мир уже не стучится в двери семьи, а шумит-поет где-то рядом, и чтобы насладиться этим шумом, расслышать его слова, приходится приоткрывать дверь, выходить на крылечко, отправляться в дорогу…
Иногда вдвоем, а иногда поврозь, в разные стороны – кого куда манит своими дивными звуками жизнь. И лишь немногим парам удается поймать негромкие звуки жизни в подросшем садике возле дома, в справном скворечнике у теплицы, в резной собачьей будке-тереме. И тогда оказывается, что идти никуда не нужно, жизнь сама небольшими струйками возвращается и наполняет семью, проверенную временем, новыми силами отпущенных в жизнь добрых дел и славных детей-внуков. И тогда становится очевидным, что двери – это всего лишь иллюзия, позволяющая половинкам поверить в свои силы и проверить правильность совместных усилий. А мир за дверью дома – это материал, копи Соломоновы, цены которым нет и без которых невозможен ни один творческий акт, не явится свету ни один шедевр.
Благословенны встретившие старость с радостью в кругу семьи!
Мои родители Маргарита Дмитриевна и Владимир Васильевич – этой породы люди. А до них были их родители, родители их родителей… так уходит в глубину веков генетическая спираль моего Рода – Рода Ворошиловых. Начинаю свой рассказ.

Отметина
У рыбинских ребятишек перед Отечественной войной было много забав и свободного времени. Родителям было где работать, и они это делали, освобождая ребятню от тесноты своей опеки. Воспитывала детей улица и Волга. Взросление проходило по жестким правилам: сила и ловкость, хитрость и дружба, подлость и коллективный приговор – все было переплетено и постоянно проверялось на прочность. Ненужное и недужное отваливалось и безжалостно выбрасывалось за борта жизни, засыхало. Детская поросль с измальства осваивала навыки дворовой культуры, училась адекватно оценивать свои силы и держать место в детской иерархии.
Не обремененные учением, дети активно выстраивали свою детскую субкультуру, используя возможности богатой природной и городской среды. Город пестрел голубятнями, учил ребятню азартным играм, делал свидетелями кулачных разборок двор-на-двор и улица-на-улицу. Дворы жили более простой и безобидной жизнью, пробиваясь лаптой, казаками-разбойникамии и прятками, чехардой и городками.
Волга учила детей плавать и собирать плоты, нырять с мостков и управляться с лодками, ловить рыбу и разводить костры, пробовать себя робинзонами, не будучи знакомыми с этой книгой.
Зимой река становилась катком и подставляла свои берега под веселые санные поезда, украшалась снежными крепостями и ледяными фигурами. Особую привлекательность зимним забавам придавала совместная игра девочек и мальчиков.
Володю тянуло на берег Волги, хотя мама и бабка Оля пытались запрещать эти походы, да куда там! Дети все равно собирались в небольшие стайки и под предводительством старших ребят утекали на берег сквозь щели заборов и тайные ходы. Пушкинская улица, на которой жили Ворошиловы, находилась рядом с рекой, поэтому сбегать и незаметно возвращаться было несложно. В этот раз гулянка получила совсем иной разворот.
Прятки надоели, и ребятня быстро сорганизовалась на реку. Собралось человек 7—8 мальчишек, старшему из которых было не больше 10 лет. День стоял солнечный, жаркий. Одолевали оводы и мухи, спасаться от которых было гораздо проще на речном продувае. Решили пойти на старые мостки – место закрытое от посторонних глаз, и потому – безопасное по части секретности. Духота разморила мальчишек так, что даже рыбу ловить никто не хотел, все сразу загрузились телами в реку. Течение в этом месте излучины было довольно сильным, не давало воде застояться у берега, и потому вода возле мостков всегда была прохладной.
Старые мостки давно обезлюдили, поэтому их ремонтом никто не занимался, некоторые доски изрядно подгнили, из них выпала часть гвоздей, их даже можно было раздвинуть, как ножницы. Столбы под мостками возвышались над водой невысоко – на ладонь, были покрыты толстым слоем зеленых водорослей, мха и тины. Дно под мостками резко уходило в глубину, поэтому на краю мостков можно было безопасно нырять. Пятилетнему Володе нырять на сильном течении было рановато, а вот попрыгать на краю мостков, имитируя акробатические номера ребят постарше – в самый раз. И он несколько раз подпрыгнул, да так, что доски разошлись и малец провалился между ними в воду. При падении Володя попытался зацепиться руками за края разверзшихся под ним досок, но только сомкнул их над своей головой. Володя поймал руками какой-то выступ и крепко вцепился в него, попытался приподнять голову над водой, но наткнулся на помост. Достать ногами до дна у него тоже не получилось. Нырять было нельзя, течение сразу же унесло бы его от мостков на стремнину, куда ребята плавать боялись. Володя уже изрядно нахлебался воды, причем не только ртом, кричать было совершенно невозможно. Оставалось только задержать дыхание и надеяться на помощь из-вне.
Широко раскрытые глаза Володи стали различать в полумраке подводной жизни ее обитателей, которые с любопытством глазели на представление, ожидая его развязки. Володя даже различил на дне старого пескаря, за которым давно охотились ребята, но рыба разгадывала все их хитрости и никак не желала кушать их «угощения». Это был огромный рыб, величиной с карандаш. От прошлых знакомств с человеком на его теле остались отметины, хорошо различимые, когда рыба выплывала из-под мостков на песчаное дно. Сейчас пескарь приподнялся над поверхностью дна и вместе с другими обитателями подмостной жизни шевелил усами прямо перед глазами у Володи. Стало страшно и обидно. Обидно, что, никто так и не обеспокоился отсутствием товарища. Володя пробовал плакать, но вода делала эту затею неутешительной и бесполезной тратой сил.
По ушам с гулом проехалась серия ударов. Это ныряли старшие ребятишки. Они искали пропавшего товарища.
Когда Володю вытащили на берег, у него уже не было сил говорить. Кто-то из ребят сообразил положить притопшего лицом вниз на мостки. Предложение оказалось дельным. Володя смог самостоятельно слить излишек водицы. Сознание постепенно возвращалось, Володя стал понимать ребячью трескатню, координирующую совместные действия по спасению товарища:
– Я пелвый увидел, что Волошилки-то нету, – важный своим значимым вкладом в благополучное разрешение инцидента констатировал самый младший участник событий. Мальчонке было чуть меньше, чем Володе, но сейчас он был равный среди своих.
Домой ватага вернулась, когда высохла одежда и волнение спустилось через активное обсуждение всех деталей уходящего дня. Ворошиловы ничего о случившемся с их сыном не узнали, но Володя через всю жизнь пронес это крещение Волги-матушки. Река как бы поставила метку на своем человеке, предупреждая другие стихии: «это – мое, этого – обижать нельзя!»
Теперь уже можно сказать, что действительно, в жизни Владимира Васильевича было немало моментов, когда он мог уйти на дно вместе с экипажем подводной лодки, или сгореть при выполнении боевого задания, но каждый раз судьба придумывали невероятные препятствия, предупреждающие его участие в трагедиях, разыгрывающихся в водах мирового океана. Может и правда, эту счастливую отметину от Волги-матушки он получил тогда, под старыми мостками на излучине реки?
Давай покурим
Табак в Россию завезли англосаксы (туды их в пень!). Завезли, случайно прибившись к Архангельскому берегу после жесточайшей бури. Можно сказать, душу спасали. И, таки, спасли, а вот русскую душу испортили на многие лета.
Когда потерпевшие иноземцы пришли в себя и осмотрелись, решили, что земли богаты и хороши, но под крепкой дланью русского царя, присоединить к Английской короне не получится, значит нужно торговать. И понеслись послы в далекую Московию во покои царя Ивана Грозного с богатыми подношениями и торговыми предложениями. Договорились. Царь пожаловал гостям посольский дом. За англичанами другие гости из Европы пожаловали, но Английский посольский дом самым первым прилепился (или присосался, это как посмотреть!) к стенам Московского Кремля. Было это дело в 1556 году, когда грозный Царь Иван пожаловал казенные палаты хитрованам.
Это были палаты, отстроенные постельничим Петром Бобрищевым для себя веком ранее. В то время боярин Петр по прозвищу «Юшка» застраивал белым камнем Зарядье (ныне Китай-город). «Юшка» был выходцем из Сурожских купцов (ныне Судак), успешно торговал с Великим Новгородом, что весьма похвально. С новгородцами торговать успешно было делом заковыристым. Купец был внуком знаменитого греческого архитектора, и принес эту традицию на Русь. Отстраивал Великий Новгород, Москву, Вологду, хотя специализировался, в основном, по Торговым рядам, но строил отменно. Торговля в этих Рядах идет и поныне. Будет время, загляните на торговые площади Великого Новгорода, Костромы, Вологды, – сами увидети
Бизнес занимал у Бобрищева-Юшки столько времени, что по своему уходу не оставил он наследников – некогда было заниматься этим недостойным внимания серьезного человека делом. Ну, палаты и перешли тогда в царскую казну.
Англичане, по праву первооткрывателей страны непуганых русичей, забили натуральный рынок Московии промышленными товарами: сукном, галантереей, медикаментами, оружием, серой, порохом. Торговля была беспошленной по всей русской земле и крайне выгодной гостям. Среди прочих товаров потек в Россию и табак, к тому времени приглянувшийся поморам и широко разрекламированный ими по российским весям торговыми поездами.
Табак курили, нюхали и даже делали не нем настойки. Крепко зашел табак в народ. Пробовали его Царским Указом выводить в Сибирь, на трудовые работы (1632), получилось ненадолго. Другой Царь, приобщившись к европейским наукам, зацепил и табакокурение, снова засеял его по российским просторам. Тут уж как ни старалась Православная церковь, как ни клеймила напасть с амвонов, не смогла повытравить бесовское зелье из народного быта. Табак глубоко пустил корни в самых низах общества и, как истинный сорняк, давал обильные всходы каждый раз, когда по российским землям проходило полымя народного бунта. Революция стала самым сильным «пожаром» такого толка.
В начале ХХ века курение стало признаком хорошего тона, даже были проведены исследования, которые доказали, что табакокурение – полезная привычка и способствует похудению. Для дам, только что сбросивших карсеты, но истово желающих вписывать свои тела в моду Ар-деко и Ар-нуво, это было значимой причиной поддерживать пагубу. Курили все публичные персоны. Один Владимир Маяковский чего стоит! А кинематограф эту пагубу популяризовал в самые широкие слои населения.
Василий Павлович – отец Володи, как представитель народа, шел в ногу со временем и серьезно потягивал «Беломорканал», которым откликнулась на нужды трудящихся в 1932 г. Питерская табачная фабрика им. Урицкого. Это был ответ государства в пику задавленному НЭПу.
Курить в доме Ворошиловых было нормой. Но курить разрешалось только взрослым мужчинам, таков был закон дома. А мужчин в доме было немало. На палатях, которые Василий смастерил за печкой, и на диване в коридоре всегда ночевал кто-нибудь из деревенских. Бывало, лошадей с санями-телегами привяжут во дворе, и к Ворошиловым, на тепло да вкусные Манины щи. Чаще всех бывали братья Кухаревы. И все гости мужеского полу принепременно курили.
Ну и Володя стал подтягиваться. Собрались как-то мелкие в дальнем углу за голубятней и стали хвастать друг перед другом заныканными отцовскими папиросами. Стали решать, где огоньку раздобыть. Пока спички искали, соседка пошла вешать белье и наткнулась на зачинщиков «трубки мира». Ребята разбежались, а она собрала брошенные доки и пошла по родителям мозг выносить. И не зря тетенька волновалась, дом—то деревянным был, мог и погореть.
До прихода отца Володя сидел дома и пытался читать книгу, чтобы заручиться в предстоящем разборе полетов поддержкой бабы Оли. Василий пришел с работы поздно, уставший. Пока ужинал, Мария посвятила его в события дня. Володя слышал не все, но слышал достаточно, чтобы затревожиться. Однако, когда отец вошел в комнату, лицо его не выражало ни гнева, ни тревоги. Он просто подошел к пятилетке, похлопал по плечу и сказал:
– Пойдем поговорим.
Володя нехотя встал и пошел вслед за отцом на кухню. Мария без слов убралась со своего рабочего места в комнату, предоставив мужчинам возможность поговорить на чистоту. Василий достал пачку папирос, раскурил одну, положил пачку перед сыном на столе:
– Курить будешь?
Володя поднял на отца полные ужаса глаза и активно замотал головой, как можно выразительнее изображая отказ.
– А почему? – дожимал ситуацию отец.
– Не хочу.
– Что, не понравилось?
– Не понравилось, – выдавил из себя Володя вместе с комом страха. Расслабился.
– Следующий раз курить захочешь, дождись меня с работы. Покурим вместе, – закончил беседу Василий и вышел из кухни, оставив сына с грустными мыслями наедине. Пачка папирос осталась лежать перед перевоспитанным ребенком. Рядом – спички.
Когда Володя вошел в комнату, родители уже спали. Он тихо разделся и шмыгнул под одеяло. На том вопрос с курением был закрыт на всю жизнь. Потом, во взрослой жизни, он пробовал соответствовать ситуации на службе, но не долго и без особой охоты. А Василий курил лет до 60, пока врачи не поставили ему сердечную недостаточность. Он решил, что пожить еще не помешает, и отказался от пагубной привычки в один день. Внуки запомнили его уже некурящим.
Дом – это место, где тебя всегда ждут
Дом на Пушкинской был крепким двухэтажным многоквартирным строением, упрятанным от проезжей части глухим забором и большим двором. Двор дышал жизнью всех поколений жильцов, и от него было трудно скрыть детали этой жизни. Всем было видно и слышно все.
Линия сараев, составляющих одну из сторон периметра двора, служила дровницей и хранительницей иного важного скарба, накопление которого сильно мотивировало жильцов к ударному труду на производстве. Доминантной высотой этой линии служила голубятня, которая возвышалась над двором, как капитанская рубка. Не каждый двор мог похвастать таким украшением!
Голубятня служила местом притяжения мальчишек разного возраста, которых в доме было почти с десяток. Они любили собираться у завалинки, которая в этой части двора представляла собой что-то типа кинозала, только здесь можно было свистеть и топать, и хлопать, и даже бить в бубен, когда хозяин голубятни поднимал на крыло своих красавцев. Особо удачливым даже разрешалось подняться наверх и поработать махрушей. Остальные наблюдали за происходящим с завистью и восторгом из глубокой рампы двора.

Если голуби – это было забавой одного отрока (кстати, большого хулигана!), то кур держали почти все. А некоторые даже уток умудрялись выкармливать, поэтому двор голосил спозаранку петушиными батлами, и еще блеяньем козы Машки, которая задавала жизни всему населению двора, покуда ее не отводили на выпас. Поскольку и птица, и люди пользовались двором в равной мере, а птица при этом не сильно заморачивалась откладыванием экскрементов в специально отведенных местах, то именно эта часть двора была наиболее труднопроходима для жильцов. Часто случались запачкать ноги, но на этот случай во дворе была колонка.
С этой же стороны двора были натянуты веревки для сушки белья, которые рассказывали постояльцам и гостям дома о достатке и вкусах домочадцев. Тут и к бабке ходить не надо, чтобы узнать, сколько человек живет в каждой квартире, какого они пола и рода занятий – все видать, как на ладони!
Ширина двора позволяла без особого стеснения и неудобств для населения двора въехать и развернуться телеге. Это было важно, потому что содержание сараев на 80% составляли дрова, которыми топили печи, а подвоз дров производили гужевым транспортом.
Ближе к воротам располагалась коновязь. Она была такой большой, что можно было разместить сразу несколько телег гостей, которые приезжали навестить родню из окрестных деревень. Вообще, товарообмен между городом и деревнями был обоюдовыгодным и составлял важную часть материального обеспечения населения двора. Ворошиловы были в этом отношении показательной семьей. У них в квартире постоянно ночевал кто-то из бывших односельчан. Зимой лошадок не распрягали, но накрывали большими попонами и обильнее кормили. Всю ночь лошадки жевали овес из торб, надетых на морды, покуда их хозяева гостевали у Василия с Марией. Бывало, сидят на кухне заполночь, судачат о новостях житейских и государственных, заполняя пространство дымом папирос. А когда улягутся спать, Ольга Степановна выйдет во двор посмотреть за лошадьми, торбу поправить, проверить – заперты ли ворота? Иной раз она задерживалась в опустевшем на ночь дворе, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Личное пространство в те времена было непозволительной роскошью, а содержание головы этой женщины требовало осмысления и тишины.
После приезда гостей на коновязи всегда оставались остатки овса, которые рассыпались из торб и худых мешков с фуражом. Ольга Степановна такое расточительство старалась обернуть семье на выгоду. По отъезде гостей она сметала эти крохи животной снеди и несла в сарай. Эту особенность хозяйки хорошо прочухали ворошиловсие куры и старались не пропустить угощение. Соседские куры тоже были не прочь отведать отборного деревенского зерна, но Ольга Степановна строго следила за порядком и отделяла «сено от хрена» веником. Весомый аргумент делал рейдерство чужаков невозможным в принципе.
Кроме жильцов дома во дворе было несколько землянок, в которых семьи молодых строителей коммунизма в отдельно взятой стране ютились в ожидании свободных площадей. Эти ожидания стали приносить свои плоды с началом войны. Квартиры стали освобождаться по мере убывания жильцов или их переезда, как это случилось и с семьей Ворошиловых. Их квартиру заняла семья сапожника, у которого не было особых оснований быть рукопожатным по отношению к большой обеспеченной и хранимой кормильцем семье. Слишком долго он ждал этого часа…
Квартира. Квартира заслуживает отдельной песни. Она располагалась на втором этаже и была по тем временам просто люксового стандарта. Две большие комнаты были разделены стеной с небольшой голландской печкой, украшенной изразцами. Эта печь топилась только зимой, из коридора. Заглушка от печи находилась не очень высоко, и на ней собирался пепел. В зимнее время дети любили погреть озябшие спины и прижимались к печке, мягко отдающей тепло. Иногда (почти всегда) случалось задеть заглушку. Тогда пепел осыпался и ложился светлыми вертикальными полосками на голову и спину страждущих сугрева домочадцев. Часто из-за места у этой печки начиналась тихая драка между детьми, потому что шумные турниры быстро разгонялись кухонным полотенцем матери или окриком отца.
Большая комната и коридор обогревались кухонной печью-кормилицей. К стене печи, выходившей в заугол коридора, Василий приделал палати. Они были пристроены высоко, чтобы не мешать домочадцам, поэтому на них спали только гости мужского пола. А сразу около входной двери стоял диван, который тоже использовался как спальное место, поэтому гости в семье Ворошиловых не испытывали неудобств.
По всей квартире гулял запах простых кулинарных рецептов, воплощенных в реальность хозяйкой дома Марией Васильевной, но вкушение этих явств происходило только по строгому распоряжению хозяина или хозяйки.
Воду носили из колонки. Это было обязанностью старших детей. Вода была чистой и вкусной. На кухне всегда стояли два больших ведра с черпаком поверх крышки.
Санузла в квартире не было, поэтому особым удовольствием для взрослых было сходить в городскую баню, а детей мыли в корыте на кухне.
Туалет – не последняя деталь интерьера, определяющая уровень комфорта жилого помещения. В доме Ворошиловых он находился на каждом этаже в конце коридора. Со вторым этажом все понятно. таких сортиров по всей России и сегодня десятки тысяч. А вот сортир первого этажа – это зрелище, которое нужно видеть. Мне довелось видеть, но это было уже в наше время в бараках на Севере. Север вообще имеет свойство консервировать следы цивилизации. Благодарю этому его свойству многие нерукописные детали быта прежде живущих поколений дошли до наших дней в неизменной целостности и составляют живые доказательства истории, которые не подлежат многотолкам.
Однако, мы отвлеклись от темы.
Дом по адресу: улица Пушкинская, дом 10, находился в самом центре Рыбинска, недалеко от городского парка. Сейчас его уже нет, но парк остался, поэтому можно приблизительно определить его местонахождение. После войны, в 1955 году Василий Павлович ездил на свою малую родину с одним из внуков. Дорога шла через Рыбинск, и его потянуло в свой старый двор… Когда они зашли во двор, их встретили незнакомые люди, незнакомые запахи, незнакомые вещи, Дом еще стоял, но в этом доме их никто уже не ждал…