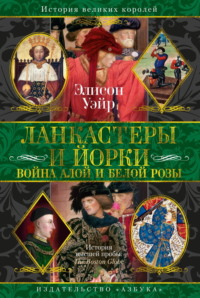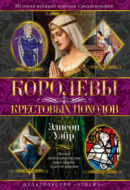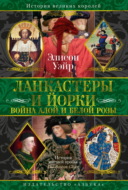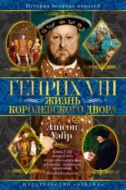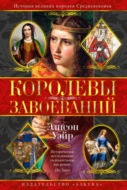Loe raamatut: «Ланкастеры и Йорки. Война Алой и Белой розы»
Моему дорогому дяде, Рэнкину Лоримеру Уэйру, в ознаменование его девяностолетнего юбилея.
А также памяти его любимой жены Дороти Уэйр.
А также моему крестному сыну Дэвиду Джонатану Марстону, по случаю его двадцать первого дня рождения.
Вот и эти дела (говорил народ) – не что иное, как королевские игры, только играются они не на подмостках, а по большей части на эшафоте1.
Сэр Томас Мор
При нем [Эдуарде IV] и ради него, когда он добывал венец, удерживал его, терял его и вновь отбивал его, пролилось больше английской крови, чем при двукратном завоевании Франции2.
Сэр Томас Мор
Короли и королевы. Тайные истории
Alison Weir LANCASTER AND YORK. THE WAR OF ROSES Copyright © 1995 by Alison Weir All rights reserved
Перевод с английского Веры Ахтырской
Серийное оформление и оформление обложки Ильи Кучмы
Подбор иллюстраций Александра Сабурова
Карты и схемы выполнены Александром Сабуровым
В оформлении использованы иллюстрации © Shutterstock/fotodom/ и © iStock/Getty Images Plus/Уэйр Э.

© В. Н. Ахтырская, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Издательство Азбука®
© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Издательство Азбука®
Благодарность
Я, как обычно, хотела бы выразить признательность моему редактору Джилл Блэк за неоценимую помощь и поддержку, а сотруднику издательства «Джонатан Кейп» Паскалю Кэриссу – за кропотливую и вдумчивую работу над сложной рукописью. Я хотела бы также поблагодарить Кэти Аррингтон за великолепный подбор иллюстраций, а моего литературного агента Джулиана Александра – за то, что он постоянно ободрял и воодушевлял меня.
Кроме того, я хотела бы с благодарностью отметить помощь, которую оказал мне мой деверь, профессор Йоркского университета доктор Рональд Уэйр, определивший денежный эквивалент цен XV века в современном выражении. И наконец, я хотела бы еще раз сказать спасибо моему мужу, Рэнкину, моим детям, Джону и Кейт, и моим родителям, Дорин и Джеймсу Каллен, за проявленное ими терпение, неизменную помощь и восторженную увлеченность, с которыми они поддерживали меня на протяжении более двух лет.
Введение
Работая над своей последней книгой, «Принцы в Тауэре», я осознавала, что в каком-то смысле излагаю лишь половину истории. Я писала о финальной стадии конфликта, получившего весьма поэтическое название «Война роз» и длившегося более тридцати лет, с 1455 по 1487 год. На самом деле таких войн было две: первую Войну роз, которая продолжалась с 1455 по 1471 год, вели между собой королевские дома Ланкастеров и Йорков, а вторую, длившуюся с 1483 по 1487 год, – королевские дома Йорков и Тюдоров. Лишь слегка коснувшись первой на страницах «Принцев в Тауэре», детально описывающих вторую фазу вооруженного конфликта, я почувствовала, что уместным дополнением к ним послужил бы «приквел». Таким добавлением и стала эта книга, история Ланкастеров и Йорков и первой Войны роз.
На стадии предварительных исследований я изучила множество источников, как старинных, так и современных, и поняла, что почти все современные сосредоточиваются главным образом на практических и военных аспектах моей темы. Разумеется, в книге я затрону эти стороны событий, а иногда даже буду говорить о них довольно подробно, однако в первую очередь я стремилась показать «человеческое измерение» истории, изобразить как личностей тех, кто был вовлечен в конфликт, сконцентрироваться на главных участниках одной из наиболее любопытных и продолжительных междоусобных войн в английской истории.
В центре этого кровавого раздора между отдельными кланами находилась жалкая фигура психически неуравновешенного Генриха VI, неспособность которого управлять государством в сочетании с некоей умственной слабостью стала причиной политической нестабильности, недовольства в обществе и разногласий между вельможами-землевладельцами, а эти противоречия в конце концов привели к войне и ожесточенной борьбе за сам английский трон. Главным соперником Генриха выступал Ричард Плантагенет, герцог Йоркский, которому по закону первородства, как понимали его в те дни, надлежало взойти на престол. После смерти герцога Йоркского его притязания на трон унаследовал его сын, сделавшийся королем Эдуардом IV, безжалостным, беспощадным и обаятельным; он-то и низвергнет в конечном счете дом Ланкастеров.
Кроме того, эта книга повествует об ожесточенной и упорной борьбе женщины за права собственного сына. Супруга Генриха, Маргарита Анжуйская, обвиненная врагами в том, что подложила в королевскую колыбель бастарда, взялась за оружие, отстаивая интересы дома Ланкастеров, и много лет, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия, сражалась за права мужа и ребенка. Ее позиция сама по себе не могла не вызывать удивления, ведь она была женщиной в грубом, склонном к насилию мужском мире, где большинство представительниц ее пола считались всего-навсего движимым имуществом, подобием товара, неспособным иметь никаких политических взглядов.
В живых картинах, изображающих историю предательств и кровопролитных столкновений, можно различить множество иных неповторимых человеческих лиц. Сын Маргариты, Эдвард Ланкастер, с детских лет привыкший к насилию, потрясал современников своей чудовищной, не по возрасту, жестокостью. Ричард Невилл, граф Уорик, «Уорик Творец Королей», был идеальным воплощением безмерно могущественного аристократа эпохи позднего Средневековья, который возводил на трон и свергал монархов, однако по большому счету хранил верность лишь самому себе и блюл лишь собственные интересы. Войны роз ознаменуют не только падение одной королевской династии, но и исчезновение вельмож, подобных Уорику.
Я пыталась показать членов королевских домов Ланкастеров и Йорков как реальных людей, наделенных личными, индивидуальными чертами, имеющих свои слабости, а не ограничиваться упоминанием их имен на разветвленном фамильном древе. Бофорты, незаконнорожденные потомки Джона Гонта3, занимали положение принцев при дворе, а по слухам, обосновались даже в постели королевы. Тюдоры также состояли в весьма сомнительном родстве с королевским домом и, подобно Бофортам, неизменно поддерживали династию Ланкастеров, наследниками которой себя объявили. Вот перед нами короли: невротический, экстравагантный и расточительный Ричард II, узурпатор Генрих IV, царствование которого омрачали восстания и мучительные недуги, и не знающий жалости воин Генрих V, национальный герой, непродуманная внешняя политика которого обернулась катастрофой для его сына, Генриха VI. А вот перед нами королевы: элегантная и безнравственная Екатерина Валуа, после смерти своего супруга Генриха V нашедшая новую любовь – валлийского сквайра; Елизавета Вудвилл, под маской холодной красоты скрывавшая алчность и беспощадную жестокость. Кроме того, в нашей истории найдется место ярким, загадочным или трагическим фигурам: от печально известного Джека Кейда, возглавившего мятеж, до садиста Джона Типтофта, графа Вустерского, и от сонма могущественных лордов до нежных и слабых дочерей Уорика, Изабеллы и Анны Невилл, которым выпала несчастливая судьба. Все они так или иначе были вовлечены в описываемый конфликт. Перед нами и вправду история враждующих кланов, однако кланы эти состояли из конкретных людей, и именно они делают ее столь захватывающей и увлекательной.
Историю войн Алой и Белой розы неоднократно излагали множество ученых, но сегодня немодно придерживаться выдвинутой еще Тюдорами точки зрения, согласно которой причины этих вооруженных конфликтов следует искать в низложении Ричарда II, свершившемся более чем за пятьдесят лет до их начала. Впрочем, корни этого противостояния действительно можно проследить до указанных времен, а чтобы понять причины войн Алой и Белой розы и династический порядок наследования их главных участников, нам надо вернуться еще дальше в прошлое, в ту эпоху, когда Эдуард III, самый плодовитый из королей династии Плантагенетов, положил начало племени могущественных вельмож, состоявших в тесном родстве с английским правящим домом. Поэтому в этой книге повествуется не только о Войне Алой и Белой розы, но и о домах Ланкастеров и Йорков вплоть до 1471 года.
Источники, относящиеся к этому историческому периоду, весьма скудны, зачастую сомнительны и неоднозначны, но за последние сто лет наука предприняла немалые усилия, чтобы хотя бы отчасти пролить свет на эпоху, нередко именуемую сумеречным миром XV века. В ходе проведенных исследований были отвергнуты многие ложные концепции, однако этот династический конфликт до сих пор часто вызывает недоумение. Я неизменно ставила перед собой цель прояснить спорные моменты и представить историю этих войн в хронологической последовательности, подробно разбирая проблемы престолонаследия в ту эпоху, когда не существовало четких, однозначно сформулированных правил перехода власти от одного представителя правящей династии к другому. Кроме того, я пыталась по возможности воскресить на страницах книги мир XV века, описывая его в ярких и красочных деталях, реалистично и подробно, насколько это позволял объем, чтобы заинтересовать любого читателя, даже не принадлежащего к академической среде. Однако главным образом я старалась заново изложить удивительные и зачастую мрачные события, сопровождавшие борьбу за высшую власть в стране, борьбу, в которую был вовлечен ряд наиболее харизматичных персонажей английской истории.
Мой рассказ начинается в 1400 году с убийства одного короля и заканчивается в 1471-м убийством другого. Можно утверждать, что одно убийство явилось непосредственным результатом другого. История событий, произошедших между 1400 и 1471 годом, то есть история, излагаемая в этой книге, отвечает на вопрос, как это случилось.
Элисон Уэйр Суррей Февраль 1995 года
1. Богатства Англии
В 1466 году богемский дворянин Габриэль Тетцель посетил Англию и назвал ее «маленьким, окруженным морем садом». На итальянского ученого Полидора Вергилия, писавшего в конце XV века, большое впечатление произвели ее
приветные долины, услаждающие взор, пологие холмы, тенистые леса, обширные луга, возделываемая пахотная земля и великое множество чистых источников, бьющих повсюду. Воистину умилительно созерцать одну или две тысячи ручных лебедей на реке Темзе. Богатства Англии превосходят изобилие, которым могут похвастаться любые иные страны Европы. В Англии не найдется ни одного трактирщика, сколь угодно бедного и смиренного, который не ставил бы на свой стол серебряные блюда и кубки.
Англия, писал Пьеро да Монте, папский нунций при дворе Генриха VI, – «страна весьма и весьма богатая, где золото и серебро водятся в избытке, где вас везде окружают драгоценные предметы и где вас ожидают наслаждения и восторги».
Большую часть земли тогда покрывали леса и рощи. Повсюду паслись стада овец, так как престижная торговля шерстью являлась для королевства жизненно важным источником дохода. Везде можно было увидеть также крупный рогатый скот и стада оленей. Пахотную землю до сих пор часто делили на открытые участки, узкие и длинные, характерные для феодального земледелия, но во многих местах встречались покинутые деревни, приходящие в упадок вокруг разрушенных церквей. Уорикширский антикварий Джон Роуз говорит о «нынешней гибели и разорении деревень» как о «национальном бедствии». Многие села и деревни исчезли после того, как большая часть их обитателей умерла во время великой эпидемии чумы 1348–1349 годов, известной как «черная смерть». Это моровое поветрие просто опустошило некоторые деревни, а в других уменьшило число крестьян настолько, что они уже не могли обрабатывать землю. Тем, кто остался на месте, часто удавалось договориться об оплате своего труда наличными деньгами, а иногда даже воспользоваться новыми возможностями социальной мобильности, возникшими в новых обстоятельствах, и куда-то переехать. Другие деревни захватили фермеры и помещики, которые стали огораживать землю, прежде принадлежавшую крестьянской общине, чтобы обеспечить пастбищами овец, дававших прибыльную шерсть.
В Англии насчитывалось десять тысяч городков, но почти все они по размерам были сравнимы со многими современными деревнями. Лондон значительно превосходил прочие города: там жило 60–75 тысяч человек. В Йорке, втором по величине городе страны, численность населения не превышала 15 тысяч, в менее крупных городах проживало, возможно, самое большее 6 тысяч. Границами большинству мелких и крупных городов служили крепостные стены, а окружала их со всех сторон сельская местность. Города являлись средоточием торговли, которую контролировали купеческие гильдии.
Города и деревни соединяла сеть дорог, но проселков было мало. Как правило, содержание дорог входило в обязанности местных помещиков, но часто они не отличались добросовестностью. Во многих областях Англии путешественникам приходилось нанимать местных проводников, чтобы те доставили их до места назначения, а дождь и распутица часто превращали дороги в царство непролазной грязи. Судя по сообщениям того времени, климат тогда был более холодный и влажный, чем сейчас.
К 1485 году население Англии составляло от 750 тысяч до 3 миллионов человек. Оценки разнятся, потому что единственными доступными источниками информации являются сведения о подушном налоге 1381 года и свитки, содержащие протоколы заседаний парламента 1523–1524 годов. Впрочем, совершенно несомненно, что население Англии на протяжении XV века сокращалось и что многие люди переселялись в обширные районы Йоркшира, Восточной Англии и юго-западных графств, специализировавшихся на изготовлении шерстяных тканей. Примерно девять десятых населения было занято в сельском хозяйстве; посещавшие Англию в то время венецианцы сообщали, сколь малолюдной выглядит сельская местность, и отмечали, что население королевства «кажется несопоставимо малым по сравнению с плодородностью его земель, изобилием и богатством».
Венецианцы полагали, что англичане «необычайно самодовольны. Они думают, будто весь мир сосредоточен в одной их Англии». Англичане были глубоко консервативны: «Если король предложит изменить какое-нибудь издавна установленное правило, то всем англичанам без исключения покажется, будто их лишают жизни». Иностранцы, или «чужеземцы», как величали их островные англичане, вызывали раздражение и негодование и потому обыкновенно жили тесными землячествами, главным образом в Лондоне, городе более космополитичном, нежели остальная страна, или в Восточной Англии, где селились многие фламандские ткачи.
Бургундский хронист Филипп де Коммин видел в англичанах людей вспыльчивых, грубоватых и непостоянных, из которых, однако, выходят отменные, храбрые солдаты. В сущности, он считал их воинственные наклонности одной из главных причин войн Алой и Белой розы. Он полагал, что когда они не могут сражаться с французами, то начинают воевать друг с другом.
На многих иностранцев глубокое впечатление производил английский уровень жизни. Один венецианец отмечал, что всякий здесь носит роскошные одеяния, за трапезой поглощает горы яств и выпивает море пива, эля и вина. Английский ростбиф, по словам Полидора Вергилия, «не знает себе равных». Венецианский посланник был в качестве почетного гостя приглашен на пир, который давал лорд-мэр Лондона; сей пир длился десять часов и собрал более тысячи человек. Впрочем, особенно его поразило, что проходил пир в абсолютном молчании. Такая подчеркнутая сдержанность отражает тогдашнюю одержимость англичан хорошими манерами и этикетом. Свита венецианца, глубоко потрясенная, не могла не отметить исключительную вежливость островитян.
Северян и южан считали двумя различными народами, причем южанам приписывали бóльшую ученость и более высокий уровень образования, цивилизованность, склонность к измене и предательству, даже трусость и говорили, что они скорее напоминают гомеровского героя Париса, нежели мужественного Гектора. Северян же полагали дерзкими, горделивыми, жестокими, воинственными, охотно прибегающими к насилию, алчными, грубыми и неотесанными. Они имели печальную славу отъявленных грабителей, несомненно, из-за своего дикарского образа жизни, ибо если южане наслаждались роскошью, то северяне, испытывая вечную нужду, влачили жалкое существование. В итоге южане боялись северян в той же мере, в какой северяне негодовали на южан.
Как и сегодня, язык был представлен в форме местных диалектов, однако в XV столетии они отличались друг от друга настолько, что даже жители Кента и лондонцы с трудом понимали друг друга. Общество было обособленным и замкнутым, характеризовалось специфическими локальными чертами, а тогдашние англичане именовали своей «страной» управляемое местным феодалом или королевским шерифом графство, в котором жили; англичан, проживавших за пределами этих графств, они считали иностранцами.
Большинство путешественников, прибывавших в Англию из континентальной Европы, отмечали белоснежную, словно алебастр, оттеняемую нежным румянцем красоту и обаяние англичанок, а многих поражала их дерзость и готовность сделать первый шаг. Богемский путешественник Николай Поппель обнаружил, что «стоит только их желаниям пробудиться, как они обращаются в истинных дьяволиц». Впрочем, и его, и других чужеземцев восхищал английский обычай целовать знакомца в уста вместо приветствия: «В Англии рукопожатие, принятое в прочих странах, заменяют лобзанием».
В XV веке Западная Европа считала себя единой сущностью, а связующим началом выступала Вселенская католическая церковь и философия божественного миропорядка. Всякий, кто жил на исходе Средневековья, придерживался глубоко укоренившегося мнения, что общество также устроено Господом во благо человечеству, и эту концепцию божественного миропорядка принято было представлять в виде иерархической пирамиды, вершину которой образовывал Господь Вседержитель, ярус непосредственно под ним занимали монархи, далее, на нисходящих ступенях, располагались аристократы и князья церкви, рыцари и мелкопоместные дворяне-джентри, юристы и представители различных профессий, торговцы и йомены, а основанием пирамиды служила огромная масса крестьян. Любому человеку та или иная ступень в этой иерархии отводилась при рождении, и счастлив был тот, кто не подвергал сомнению свое место в жизни.
Божественный закон был изначальным, неколебимым законом мироздания, ниспосланным как откровение в Священном Писании, а также в боговдохновенном каноническом и гражданском праве, которое составляло опору церкви и государства. Власть, данная Господом, считалась священной и неприкосновенной. Мира и порядка можно было достичь, только когда все классы общества пребывали в гармонии друг с другом. Нарушение порядка, например ересь, мятеж или стремление занять место выше того, что указал Господь, рассматривалось как проявление сатанинских козней и, соответственно, как смертный грех. Одну из главных обязанностей короля часто видели в умении добиться, чтобы каждый его вассал жил именно так, как полагалось на отведенной ему по рождению ступени общественной иерархии. Принятые в этот период законы против роскоши, регламентирующие платье и поведение, предназначались для того, чтобы сохранить общественный порядок; необходимость в подобных законах свидетельствует о том, что некоторые традиционные идеалы уже подвергались сомнению.
К концу XIV века структура английского феодального общества стала обнаруживать признаки распада в результате социальной революции, вызванной «черной смертью». В XV веке единство христианского мира оказалось подорвано растущим недоверием к институту папства и церкви в целом, а также быстро развивающимися в странах Западной Европы националистическими тенденциями. Кроме того, европейцы все чаще задавались вопросом: так ли уж непогрешим привычный идеал общественного порядка? Предводители крестьянского восстания 1381 года вопрошали: «Когда за плугом шел Адам, / а Ева пряла, то каким / они служили господам?»4 В следующем столетии новые товарно-денежные отношения, выросшие на почве торговли и частного предпринимательства, породили зачатки капитализма, и в то же время прежняя, основанная на сельском хозяйстве экономика стала изменяться, откликаясь на новые хозяйственные потребности.
Эти изменения происходили не мгновенно. Порядок, навязанный обществу церковью и государством, в XV веке оставался могущественной силой. Церковь Англии тогда была частью «христианской республики» католической Европы, а значит, подчинялась папским законам и платила Апостольскому престолу налоги. Впрочем, князья церкви обладали меньшей властью, чем в прежние века, и постепенно уступали место светским феодалам в результате секуляризации государственного управления. Власть епископов была по своей природе скорее судебной, нежели духовной, и многие из них вели роскошный образ жизни, по мнению современников никак не соответствующий тому идеалу, что завещал Иисус Христос.
XV век был эпохой, когда внутри католической церкви Англии обозначились глубокие противоречия. С одной стороны, этот период был отмечен всплеском интереса к проповедям, пастырским наставлениям, благочестивому морализаторству и мистицизму; с другой стороны, еретики-лолларды, вдохновленные учением Джона Уиклифа, обрушивались на церковь с резкой критикой, обличая творимые ею злоупотребления и даже подвергая сомнению ее авторитет в духовной сфере. Взгляды лоллардов привлекали беднейшие слои населения, но столь беспощадно искоренялись несколькими поколениями королей, что в большинстве областей Англии их влияние едва ли не исчезло вовсе.
Рост антиклерикальных настроений означал, что духовенство часто становилось жертвой беззакония, распространившегося в ту эпоху повсеместно, а в судах рассматривалось множество насильственных преступлений против лиц духовного звания.
Религиозная вера оставалась столь же живой и глубокой, как и прежде. Англия по праву гордилась тысячами приходских церквей и не случайно прославилась как «остров, где никогда не смолкает колокольный звон». В этот период неуклонно увеличивалось число монастырских насельников и насельниц, хотя новые обители возводились не так уж часто. Впрочем, постоянно росло количество часовен, сооруженных для отправления заупокойных служб. Благочестивые люди оставляли в своем завещании деньги на возведение подобных капелл, где священники бессрочно служили обедню за упокой души почившего и его родных. Порой суммы были очень велики, так что на них содержались целые коллегии священников, которые служили в коллегиальных церквях, построенных на пожертвования сразу нескольких лиц. Многие приходские церкви превращали в такие коллегии и украшали соответствующим образом.
Религиозные наставления неизменно касались бренности и тленности земного существования. Памятуя о высокой младенческой смертности и относительно низкой продолжительности жизни, смерть воспринимали как неотвратимую неизбежность. Мужчины в среднем достигали возраста пятидесяти лет, а примерно пятая их часть доживала до шестидесяти. Женщины, которые подвергались многочисленным опасностям, связанным с деторождением, в среднем могли прожить не более тридцати лет, причем до половины всех детей умирали, не достигнув двадцатилетия. Англичане придерживались мнения, что те, кто много страдал в этом мире, получат воздаяние за гробом. Смерть всех уравнивала, и все – короли и папы вместе с купцами и крестьянами – рано или поздно дадут на Страшном суде ответ за совершенное в этой жизни. Поглощенность тогдашнего общества мыслями о неминуемой смерти находила выражение в том числе и в живописи, в литературе, в характере надгробных памятников: богатых людей иногда хоронили в гробницах с двумя изваяниями, причем верхнее изображало усопшего, каким он был при жизни, в роскошных одеждах, а нижнее являло его же в облике разлагающегося трупа, пожираемого весьма реалистично представленными червями.
Небеса тогдашние англичане представляли себе в образе величественного и неподкупного королевского двора, куда будут призваны благочестивые и праведные. Ад, судя по изобилующим красочными деталями изображениям Страшного суда, коими часто расписывались церковные стены, служил вездесущим и весьма действенным средством предупреждения греха.
Люди верили, что монархов во всех их деяниях ведет и направляет десница Божия. Кроме того, большинство было твердо убеждено в том, что победу на поле брани Господь дарует достойному, подтверждая его право одержать верх над недругом. Король считался помазанником Божиим, а помазание его на царство священным елеем – божественным благословением. Главные обязанности короля заключались в том, чтобы оберегать свой народ, защищая его от врагов, править справедливо и милосердно, а также соблюдать законы страны и требовать того же от своих подданных, а если понадобится, и принуждать их к повиновению. «Сражаться и вершить правосудие есть назначение монарха», – писал лорд – главный судья сэр Джон Фортескью в шестидесятые годы XV века. Для этого требовались такие качества, как мужество, мудрость и честность, поэтому характер монарха обретал исключительную важность, и от него зависели безопасность и благополучие подданных. На исходе Средневековья монархия представляла собой систему управления, в значительной мере определявшуюся личностью правителя: в этот период короли не просто царствовали, они правили страной и обладали огромной властью.
Впрочем, с течением времени управлять государственным аппаратом становилось все труднее и обременительнее, и короли передавали все более и более своих полномочий растущему числу «государственных департаментов», входивших в состав королевского двора. Все они выполняли свои особые функции от имени короля, тогда как монарх сохранял непосредственную ответственность за внешнюю политику, осуществление прерогатив, королевское покровительство и назначение высших государственных лиц, а также контроль за аристократией. Теоретически короли вольны были поступать, как им вздумается, однако эту их «вольность» ограничивали рамки закона и правосудия. «Благодать», ниспосылаемая монарху Господом, позволяла ему воспринимать новые идеи, одновременно храня верность древним обычаям и традициям королевства. Королевство Англия считалось собственностью монарха, однако, как указывал Фортескью, хотя король и обладал верховной властью, он не мог принимать законы или вводить налоги без согласия парламента.
Подданные ожидали, что монарх не только будет оберегать их от врагов и защищать королевство, но и что сам он проявит себя как искусный, умелый воин. Король, склонный к миролюбию, вызывал неодобрение общества, поскольку большинство людей весьма высоко ценило успех на поле брани, а репутация народа в глазах большинства зиждилась на его воинской славе.
Английские короли XV века не имели постоянной армии, но полагались на аристократов, которые должны были в случае необходимости предоставить им войска. Поэтому для монарха важно было поддерживать хорошие отношения со знатью и мелкопоместным дворянством, а те, если в сильной степени их спровоцировать, могли использовать имеющиеся в их распоряжении вооруженные силы против него. Кроме того, в обязанности монарха входило предотвращать междоусобные войны между крупными феодалами, в особенности если таковые войны угрожали безопасности королевства. Как мы увидим, неумение остановить междоусобицы могло привести к весьма мрачным последствиям.
Народ и «всеобщее благо» королевства зависели от наличия у монарха наследников, которые в силу своих физических и моральных качеств способны были править страной, внушать уважение подданным и, как следствие, могли рассчитывать на их верность. Но прежде всего не должно было подвергаться сомнению право короля на престол, ибо любые посягательства на его неоспоримость могли грозить и на деле оборачивались гражданской войной со всеми ее сопутствующими ужасами. В результате войн Алой и Белой розы к концу периода, охватываемого этой книгой, право короля на трон стало считаться не столь важным, сколь его способность этот трон удержать и успешно управлять государством.
В период позднего Средневековья закон о престолонаследии формулировался довольно расплывчато. По большей части монархи соблюдали право первородства, согласно которому трон передавался старшему сыну и его наследникам, однако здесь играли роль и другие важные составляющие, например признание светскими и духовными лордами, а впоследствии и способность обеспечить эффективное управление страной.
С XII века, когда дочь Генриха I Матильда предприняла катастрофическую попытку отнять корону у своего кузена короля Стефана, англичане отрицательно относились к идее женского правления, полагая, что оно противно природе и что женщины не способны достойно править. Впрочем, Салическая правда, не признававшая за женщиной права на наследование, не имела силы в Англии, где не существовало никаких «писаных законов», которые не позволяли бы женщине взойти на престол или передать притязание на престол своим потомкам. На самом деле на практике этот вопрос не оказывал хоть сколько-нибудь существенного влияния на общественную жизнь, ведь до XV века династия Плантагенетов не испытывала недостатка в наследниках мужского пола.
У англичан вызывали недоверие не только женщины на троне, им также внушала страх политическая нестабильность, неизбежно связанная с несовершеннолетием монарха, а она возникала в тех редких случаях, когда на трон всходил ребенок. До восшествия на престол Ричарда II в 1377 году, со времен завоевания Англии нормандцами, несовершеннолетний занимал престол только дважды; оба эти правления ознаменовались политическими смутами.
С 1399 по 1499 год претенденты на престол пытались завладеть короной с помощью междоусобиц, войн и заговоров, и происходило это не из-за недостатка наследников, а из-за слишком большого числа могущественных вельможных магнатов-феодалов, жаждущих верховной власти. В этот период престолонаследие стало в том числе определяться новым и весьма опасным обстоятельством: превосходством силы над правом. Этот печальный факт заставил англичан заново осознать потребность в официальном законе, регулирующем престолонаследие, а также вызвал спор о том, имеет ли законный наследник, получающий права по женской линии, больше оснований занять престол, чем непрямой наследник мужского пола. Однако в итоге корона доставалась силе и успеху: энергичный и деятельный правитель имел больше шансов удержаться на престоле, даже если его притязания на власть были сомнительны. Слабых монархов или тиранов неизменно ожидала катастрофа.