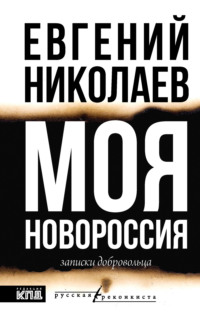Loe raamatut: «Моя Новороссия. Записки добровольца»
* * *
© Евгений Николаев, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
[Глава 1. Война: Цвет смерти]
Чёрными и белыми они станут позже
Какой цвет у нас ассоциируется со смертью? В народной памяти и культурном коде эти цвета понятны и известны. Чёрный траурный платок. Бледный как смерть. Лицо белее савана. Зелёная рожа ожившего мертвеца. Вроде весь список перечислил.
Но в моём представлении смерть темно-оранжевого цвета. Кирпичного.
Но не красный кирпич, а грязно-оранжевый. Именно такого цвета погибшие на жаре. Чёрными они станут позже. Белые кости вообще появятся через пару месяцев. А пока они грязно-оранжевые.
Бесстыдно вылезают из одежды самыми интимными местами. И словно отдыхают от волнений этого мира. Лежат в высшей степени расслабленно. Вот он, вечный покой.
А вот череп и зубы действительно белоснежны. Удивительно, как мала эта костная коробка. Объем, который добавлял мясо, ушёл и остаётся основа. То, что омываемое дождями и обжигаемое солнцем, пролежит на земле годы. Небольшой ящик с дырами глазниц, белозубая ухмылка и ёжик коротко стриженных по армейской моде волос.
И сразу становится ясна причина войн на земле. Небольшой объём черепа не позволяет вместить в него мир. Такие дела.
И да, я видел Брэдли. Ничего особенного, просто кусок обгорелого железа…
Пятьдесят оттенков серого
Война нонче пошла высокотехнологичная. Каждый километр ЛБС (линии боевого соприкосновения) напичкан камерами, сигналками, анализаторами…
Ночью камера показывает не темноту, но серую картинку. Серое всё: трава, деревья, люди, небо. Царство луны и смерти. Только глаза бродячих и диких животных не серые, а алмазные. Они блестят в сером окружении, как бы подчёркивая, что их носитель жив и этим отличается от серого-неживого.
К рассвету серость на камерах становится чётче и суровее. Строгие чёрные силуэты наполнены 100 %-ной серостью. Вот как выглядит 50 оттенков серого на ЛБС, а не это ваше…
И вдруг лишний солнечный луч решает всё. Изображение на мониторе на мгновение расплывается, и мир становится цветным. Сначала расплывчатым и юным, несуразные разноцветные пятна, но уже наполненным зеленью, светом, небом, жизнью. Затем «картинка» восстанавливается, и Украина раскидывается перед тобой во всём своём великолепии. Не вся, а лишь небольшой участок фронта.
Но разве этого мало? Разве это не повод для радости и безудержного счастья? Именно ты сегодня жив. Именно ты сегодня в 04.10 утра увидел, захватил и присвоил эту метаморфозу тихой украинской ночи. В этом смысле русская армия оккупирует краски жизни Украины.
Но только в этом.
«Полки»
Что такое «полка»? Это кровавое наследие тоталитарного совка. Проклятые коммунисты высаживали в степях лесные насаждения, чтобы степные почвы не эрозировали и не выветривались. Лесополосы шириной в 10–15 метров, 5–7 деревьев в разрезе и кустарник между ними. Никто из коммунистов не планировал воевать в них с хохлами, это был чисто хозяйственный вопрос. Хотя среди укров бытуют и такие мнения, мол, дотянулся кровавый Сталин. А вот не было бы «полок», мы бы москалей в чистом поле бы давно разворошили уже.
Когда попадаешь на незнакомую «полку», в первую очередь надо посмотреть наличие блиндажей и укрепов. На случай артобстрела или дронналёта. А во-вторых? Во-вторых, нужно выяснить, в какую сторону направлены выходы из этих нор. Дело в том, что направление выхода из окопа – это серьёзный маркер их принадлежности. Мы копаем укрепы выходом к нашему тылу, укропы соответственно к своему.
Если выход у норы в сторону противника, значит, мы на взятой (или ещё не взятой) «полке» неприятеля. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ещё на сотню метров ближе к победе. Хорошо, потому что можно помародёрить импортный хабар, брошенный украми (отличные бронежилеты, форма, девайсы…). Плохо потому, что предстоит много работы. Обследовать местность. Провести оборонные мероприятия. Сапёрные работы. Разминирование. Плохо, потому что вокруг лежат трупы и очень скоро они начнут пахнуть.
Кстати, на определённых этапах биологических процессов запах разлагающегося поляка и запах цветения акации практически идентичен. Удивительно, но факт. Особенно если акаций много. Если наших павших мы выносим за многие километры, то «немцев» мы не хороним, особенно если это поляк. Они лежат там, где их нашла смерть. Иногда это неприятно. Особенно тогда, когда хочешь занять действительно качественный и удачно сооружённый блиндаж, а там, раскорячившись, лежит «жолнеж» и от мух не продохнуть. Даже если его вытащить, находиться в этом «помещении» ещё долго будет нельзя. Всё пропитано липкой европейской плотью. Обидно!
Но времени терять тоже нельзя. Нужно срочно искать укрытие на ночь. Потому что если днём ты уязвим для «птичек», то ночью ты уязвим вдвойне. Днём она видит тебя и ты видишь её. Шансы есть. Ночью ты её только слышишь, а она видит тебя в тепловизор. Поэтому единственный вариант – это уйти под землю. Раньше бытовала шутка, что война – это как Дикий Запад. Солдат должен бегать как лошадь и стрелять как ковбой. Этого недостаточно. Солдат – это человек с лопатой. Это человек-крот. Человек-землеройка. Я, например, могу выкопать себе убежище на ночь за два часа. Засекал.
Спичка
«Тагташ» выбежал из блиндажа, бросил «покемона» на его крышу и начал строчить по сигнатурам из положения лёжа. Я наблюдал и корректировал, глядя в тепловизор.
Два укра заметались по полю под пулемётными струями очередей, пытаясь добраться до укрепа. Не пригибаясь и не падая на землю и не сбрасывая тяжеленных рюкзаков, они тяжёлой походкой зомби из фильмов медленно изгибались в танце смерти, волоча за собой ноги.
Наконец пуля чиркнула по одной из сигнатур, и укроп вспыхнул, превратившись в бегущий костёр. Видимо, в рюкзаке были канистры с бензином. Вторая светящаяся на экране тепловизора красная тень обернулась на горящего и, сбросив рюкзак, как в замедленном видеорежиме побежала в укрытие. Брошенный рюкзак вспыхнул секунду спустя.
Тепловизор не показывал уже ничего кроме белого пламени на сером фоне. По полю бегал горящий человек, пытаясь скинуть с себя прикипевшие к нему клочки синтетики.
– Добей его, – попросил я «Тагташа». – Не мучай его, добей!
«Тагташ» вскочил на ноги и, издав дикий индейский крик, начал стрелять в сторону укропских позиций. По двуногому факелу он и не думал целиться.
– Пусть горит, мне вдоль хуя, мне вдоль хуя, пусть горит! – повторял он, пока не расстрелял весь БК. – Ты что, не видишь, они под наркотой? Им не страшно и не больно. Они даже не знают, что умирают. Смотри, этот даже не кричит! Горит, плавится, теряет кожу, волосы, глаза… но не кричит.
«Факел» упал на землю. И стало темно. «Тагташ» пошёл пить чай, предупредив: второй пойдёт обратно – позови меня.
Я продолжил наблюдение в тепловизор. Деревья, трава, кусты светились в его окуляре кроваво-красным цветом. И только небо было холодным и серым. То ли от нагрузки на глаза из-за использования дешёвого китайского «теплака», то ли из-за ночного ветра или из-за чего-то другого, но из глаз потекли слёзы.
Щенок
У моей «норы» медленно и мучительно умирал щенок.
Обычный сельский «дворянин» пегого окраса, с висящими ушами и умильными глазками. Он прибежал к нам на позицию из соседней деревни. Люди ушли из неё от войны, а в одиночестве щенок жить не захотел.
Перебегая «открытку», щенок попал под обстрел из 120-х миномётов. Укроп лупил по полю в тот день долго и остервенело. Зачем? Кто же его поймёт? Вряд ли они целились в щенка, считая его зрадником и сепаром. Но попали.
Щенку оторвало задние лапы и располосовало спину до лёгких. Он дополз до моей норы из последних сил, надеясь на помощь людскую. Он смотрел на меня и, казалось, говорил: «Вот он я, весь перед тобой. Излечили меня! И я буду вечно твоим спутником в этом страшном мире…» Щенок верил в моё людское всевластие и силу.
Он лёг в кучу мусора и стал ждать чудесного выздоровления и последующей игры, и сытного обеда, и почёсывания за ухом, и добрых слов «ах ты, маленький засранец».
Видимо, собачье ухо не различает фонетической разницы между русским языком и суржиком. В этом собаки похожи на нерусские народы. Один наш военный из сибирских татар так мне и сказал, что разницы между русскими и украинцами он не видит. Мы все для него – «урусы».
Я не мог излечить собакена. Не колол ему человеческих лекарств. Не перевязал его. Даже пристрелить его у меня не поднялась рука.
Я только укрыл его трясущееся тельце спальником и следил, чтобы крысы не начали разбирать его ещё живого. И говорил с ним. И смотрел ему в глаза.
Он умер в тот момент, когда на его правый глаз села большая зелёная муха, а у него не хватило сил, чтобы моргнуть.
Казаки
Заехали они к нам в часть одновременно. Оба добровольцы. Оба с Урала. Оба из казаков. Они как будто подтверждали фактом своего существования, что казачество – это не национальность, а сословие, так были они непохожи. Один был как рыхлый бледный пельмень, а другой напоминал чёрный армейский штык-нож. «Пельмень» взял себе позывной «Пересвет», обозначив себя как православного. Что для казаков не является чем-то особенным. Второй «колючий», черноволосый, стройный и резкий в словах и движениях, указал называть себя «Лешим». В нем явственно горел огонёк разинских анархических мятежей. И это для казачьего люда не новость.
«Пересвет» часто приходил ко мне в кубрик, вяло перебирая своими ватными ногами по комнатам ПВД, и вёл со мной душеспасительные разговоры. Это он так отдыхал от кровожадности «Лешего». «Леший» же, обвешанный холодным и огнестрельным, бесцельно метался по длинной «взлётке» коридора и вслух мечтал об ожерелье из укропских ушей. Поначалу мне казалось, что это злая разбойничья шутка. Но потом, убедившись в том, что чувство юмора не входит в добродетели «Лешего», начал читать ему морали и обещал прострелить ему левую коленку, если увижу подобное непотребство. Он дико щерился и уверял меня, что всё сделает тихо. Так, что я даже не замечу.
В среду пришла команда «понос». Это когда вышестоящее начальство обосралось и русскому воину прибрать за ним придётся срочно.
На этот раз нужно было срочно отправиться брать очередную «Херяновку». Это мелкое степное местечко пробовали взять уже раз 20. Разные «пидроздилы» и баты. Получалось не очень. Пару раз удавалось закрепиться, но потом оттуда наших снова выбивали. Про это село пошла дурная слава. Там полегло немало добрых русских людей.
Узнав про поставленную задачу, казаки поступили совершенно по-разному. Колючий и острый «Леший» стал мягким и податливым как пластилин. Он запятисотился. Разорвал контракт и сдриснул домой. «Пересвет» же оказался пельменем из стали. Загрузил своё рыхлое тело в старый УАЗ и поехал на БЗ.
Удивительно, но в этот раз эту сраную «Херяновку» взяли «на лайте». Хорошо поработала арта, предварительно забрали высоты и обходную балку. Потерь не было. «Пересвет» долго ехал, потом долго шёл, потом долго полз, потом немного бежал, немного стрелял и немного кричал. Это всё, что он делал в тот день. Не более. Его не наградят за тот бой. Но если бы спросили меня, то я бы сказал, что «Пересвет» настоящий казак, а «Леший»… Чепуха, а не казак!
Дети
Мы шли по утренней серости через незнакомые нам «полки», на точку рандеву. Карты у меня не было, приходилось рассчитывать на свою память. Наша группа состояла по большей части из детей лет 20–22, для которых это был первый боевой выход. Это внушало оптимизм.
Неожиданно на небо выпрыгнуло солнце и осветило все кругом. Мы явно запаздывали. Это ничего, подумал я, солнце встаёт обычно с востока, оно сейчас слепит украм глаза и видеоаппаратуру. Нас ещё не видно. Держа дистанцию в 30 метров, мы растянулись вдоль живописного озера, поросшего по берегам высоким тростником. Красиво и тихо. И безопасно.
Тростник скрывал нас с головой. Вся земля под ногами была набита суббоеприпасами: лампочки, лепестки, колокольчики, стрелы и т. д. Поэтому идти размашисто и равномерно не получается, приходится семенить, переступая через них. Знаками указываю идущим за мной парням места расположения замеченных мною мин.
За спиной РДшка, рюкзак, забитый минами и БК, всего в нем тридцать кг. Плюс броник на мне, ещё пятнадцать кило, плюс автомат и двенадцать заправленных магазинов. А иду я всё равно легко и упруго. Я не спал уже сутки и за весь день перекусил только половиной банки тушёнки шесть часов назад, но ни усталости, ни голода не чувствую. Это результат мобилизации организма в условиях боевого стресса.
Боевой приход. Во время этого состояния человек может не спать трое суток и не есть столько же. Только пить надо чаще. Потому, что здесь жарко. Пять утра, а уже жара. Выходим на поляну. Она появилась в результате прилёта снаряда. Что-то очень крупное. Калибр определить не могу. Вдоль тропинки лежат черепа и улыбаются. На одном из них казачьим оселедцем изящно изогнулась крупная серо-зелёная ящерица. Хвост её закрывает черепу глазницу. Она медленно им помахивает, греясь на солнце. Череп как будто подмигивает нам, живым и проходящим мимо.
Добравшись до точки рандеву, мы никого не обнаруживаем, ждём связи, но её нет… Укры глушат этот район. Весь день мы слушаем пение жаворонка, жужжание дронов и вой артиллерийских прилётов. Вечерней серостью уходим на базу. Боевое задание завершено. За весь день мы не встретили ни одного живого человека. Ни наших, ни хохлов. Прошли в полной выкладке 24 км. Дети перестали быть детьми. Теперь это бойцы. Такая это война.
На «фишке»
Как-то на рассвете я стоял на «фишке», ну то есть на часах. Охраняя вверенный мне сон своего подразделения, я сидел под навесом, замаскированным под огромную мусорную кучу. Уже было достаточно светло и вполне прохладно. Я кутался в куртку, держа свою «двенашку» у себя на коленях.
Автомат Калашникова 12-й модели всем хорош. И складным прикладом, и весом, и планкой Пикатинни, уже встроенной в его конструкцию. И сбалансирован он как надо, и кучность у него отличная. Но портит всё дебильный диоптрический прицел. Прицелиться и попасть с ним практически невозможно. Поэтому частенько и устанавливают на «двенашку» коллиматоры.
Но в этот раз идиотское изобретение спасло немало жизней. В тишине и спокойствии утра, которое не нарушалось даже птичьим пением, я услышал топот, кряхтение и угрожающие всхлипы множества людей, приближающихся ко мне. Это хохлячий «накат», понял я.
Через кусты, напролом, с матом и криками неслась на меня группа вооружённых людей с обезумевшими глазами. Тренировки пошли впрок, незамедлительно большим пальцем правой руки я снял автомат с предохранителя и сразу же начал выцеливать впереди бегущего. Это произошло просто мгновенно. Я принимаю бой и готов нести смерть врагу. Указательный палец мотыльком переместился с корпуса автомата на спусковой крючок…
И в этот момент за искажённой маской бегущего я узнал лицо парня с соседней точки. Он посмотрел в мою сторону, и глаза его ещё больше расширились. Он увидел меня и дуло моего «калашмата», направленного ему в грудь и, пригнувшись, рыбкой нырнул ко мне под навес. А за ним ещё четверо. В последний момент я чуть приподнял непривычный мне диоптрический прицел и пустил короткую очередь над их головами.
Они лежали вповалку у моих ног и натужно дышали, с хрипом втягивая в себя утренний воздух. Я отпрыгнул в сторону, как на учениях, перешёл в положение стрельбы сидя, перевёл автомат на стрельбу одиночными и стал выцеливать направление – откуда прибежали парняги. «Держу!» – заорал я, готовясь прикрывать их, пока они не встанут в окопчике левее меня и не начнут поливать свинцом преследующих их неприятелей. Но они продолжали лежать, прижимаясь друг к другу как щенки в коробке из-под телевизора.
Это был дрон, он преследовал их по пятам через кусты и буераки, и именно от него они бежали сломя голову. Покружившись над нами, «мавик» скинул одну за другой две гранаты и спокойно улетел, недовольно жужжа. Каждый выстрел должен быть осмысленным, понял я в тот день. Боевые инстинкты – это очень хорошо, но этого мало.
Мы извинились друг перед другом с пацанами. Они – за то, что забыли пароль, я за то, что чуть не скосил их очередью. И они пошли дальше. А я остался стоять на «фишке».
Почему наши солдаты ненавидят шмелей и причём здесь арбалеты?
Русский солдат ненавидит шмелей. А также ос, пчёл и всех крупных двукрылых насекомых, издающих при полете характерный гудящий звук. Этот звук слишком напоминает мерзкое гудение приближающегося дрона. А дрон – это смерть. С высокой степенью вероятности.
«Полет шмеля» Римского-Корсакова русский солдат тоже ненавидит, за компанию. Эти гудящие звуки сбивают с толку, не дают отдохнуть, раздражают и нервируют. Ты не уверен в происхождении звука. А неуверенность – это самый главный враг солдата.
Если в ту войну в плен не брали огнемётчиков, то в эту войну не повезло операторам дронов.
Их обвиняют в подлости, в глумлении над телами погибших, в играх и издевательствах над своими жертвами. Часты случаи, когда вражеские дроноводы гоняют солдата по полю, заставляя его бегать, ползать, кататься по земле, падать и подыматься вновь. И лишь затем поражают его. Хотя могли это сделать сразу.
Один из моих товарищей как-то объяснил свою ненависть к этим «жужелицам» – «Я весь такой тактикульный, опытный рэкс, накачанный и храбрый воин, могу погибнуть от рук прыщавого задрота, который даже не оценит моей храбрости и военного искусства… Он сидит в абсолютной безопасности, в десятках километров от смерти и просто играет, получая очки и баллы. Да ещё и зарабатывает на моей смерти донаты, ведя прямой эфир. Разве это благородно?..»
В ненависти к дрону есть что-то, отсылающее нас к Средневековью, когда рыцари ненавидели чушков с арбалетами. Ведь рыцарь, закованный в дорогущую броню профессиональный воин, с детства тренирующийся воевать, мог быть убит чумичкой, вооружённым арбалетом и прошедшим короткий инструктаж.
С появлением на поле боя дрона можно сказать, что очередная прекрасная эпоха рыцарства ушла в прошлое. А операторам дронов, этим пубертатным мальчикам, можно лишь пожелать не попадать в плен к нашим благородным донам.
[Глава 2. Мир: Семья]
Ляля
Хотите, расскажу о своих предках? Не хотите, а я все равно расскажу. Понимаю, что это никому не интересно, но это интересно мне. И мне же очень хотелось бы, чтобы это было интересно моим детям.
Шёл 1941 год. Моему прапрадеду было уже под 80, точнее 77 лет. Он был военврачом и командовал госпиталем на колёсах, естественно, колёса эти бежали по ж.-д. путям, и все вагоны были забиты тяжело- и легкоранеными красноармейцами. Госпиталь двигался от Ленинграда по направлению, обозначенному в соответствующем приказе, то есть на Восток. И вместе с ним двигался Николай Николаевич Николаев, мой прапрадед. В письмах домой, которые сохранились в нашей семье, он подписывался «Николай 3» (Николай в кубе). Писал он эти письма на тёмно-синих промокашках, складывал их треугольником и адресовал их своей внучке, моей бабушке, по питерской привычке называя ее Лялей. Я читал эти письма, они сохранились…
В пути их немного бомбили, скорее для профилактики, но больше пугали, так как на крышах поезда виднелись не красные звезды, а красные кресты.
Потом поезд дёрнулся и остановился. Машинист увидел развороченные пути и немецкий танк. Это был либо десант, прорвавшийся южнее, или одно из танковых клиньев, вбитых в тело нашего народа немцами. Этого я уже не смог узнать точно. Да это и не важно… Немцы очень педантичный народ, поэтому аккуратно постреляв охрану поезда, начали методично от вагона к вагону расстреливать тяжело- и легкораненых. От вагона к вагону методично и с известной сноровкой.
Мой прапрадед Николай Николаевич был коренным питерцем, слегка по-питерски грассировал и растягивал звуки, был знаком с Андреем Чёрным, сам пописывал вирши, как он их называл, и кроме того, свободно говорил по-немецки (что для того времени было достаточно обычно). Но был за ним ещё один грешок – он очень любил Гёте и многое из «Фауста» знал наизусть.
Он вышел из поезда в форме военврача и валенках и своим стариковским голосом начал громко читать на немецком языке «Фауста». Просто вышел и просто начал читать «Фауста». Немцы очень педантично окружили старичка и с большим интересом слушали немецкого классика в исполнении русского врача. Читал он долго, немцы аплодировали. И так как руки у них были заняты, то в тяжело- и легкораненых красноармейцев они не стреляли.
А потом они взяли руссиш дедушка и сожгли его в топке паровоза. Вот так просто открыли дверцу и двое крепких ребят забросили его сухонькое тело прямо в жерло паровоза.
А потом пришли наши танки, и убили немецких мальчиков, и сожгли немецкий танк, и отремонтировали ж.-д. пути, и поезд снова двинулся к станции назначения.
А выжившие тяжело- и легкораненые ещё долго писали письма моей прабабушке Анне Григорьевне, а она их читала вслух своей дочери, моей бабушке, Ксении Викторовне, которую Николай в кубе называл Лялей.
Интересно, тот огонь, что дал мой предок, дал возможность двинуться поезду с Запада на Восток? Или с Востока на Запад?
Застава
Моя бабушка родилась на Дальнем Востоке. В свидетельстве о рождении указан г. Владивосток и 1927 год. Это не совсем верно, так как бабушка родилась на одном из островов недалеко от Сахалина. На погранзаставе.
Всё население островка составляло 50 человек. Их можно описать очень коротко, так это и делала моя бабушка: папа, мама, я, красноармеец с винтовкой и айны.
Айны очень любили мою бабушку и очень боялись мою прабабушку. А все из-за медведей. Дело в том, что медведей на острове было много, а других продуктов питания мало. И айны этих самых медведей постреливали, мясо ели, жир топили, жилы использовали в качестве ниток, а клыки в качестве украшений. Настоящий каменный век.
Айны очень боялись японцев, которые их достаточно серьёзно геноцидили, поэтому копали свои землянки вокруг заставы. И моя бабушка Ксеня гуляла по их деревне с самого рождения. Заходила под их меховой кров и ела медвежатину. Лапы, спину, шею, лучшее мясо медведя. Бабушка говорила мне, что молодой медведь, с которого сняли шкуру, похож на голую женщину, а по вкусу на нежнейшую говядину.
А вот моя прабабка медвежатину не выносила – её вид вызывал в ней брезгливость, а запах казался с гнильцой даже у только что убитого медведя. Когда она находила девочку Лялю с чёрными косичками и блестящими глазами, жующую длинную полоску жирной медвежьей спины, она приходила в ярость. И тогда айны вспоминали о японцах с теплотой.
Анна Григорьевна выбрасывала медвежьи лапы в мусорные ямы, а на замечания мужа отвечала, что мясо быстро испортилось и она не успела его приготовить. Айнам это не нравилось, так как медведь для них был священным животным, и вообще айны считали, что произошли от медведя, а его поедание было ещё и ритуальным каннибализмом. Племя приглашало на «медвежий праздник» моего прадеда и бабку, но прабабку никогда.
Местный шаман пытался бороться с прабабкой своей магией, но победить эту женщину ничего не могло (она умерла почти в столетнем возрасте в 1991 году). Шаман умер от гриппа…
Мой прадед Виктор Николаевич отрастил длинную бороду и носил айнскую куртку – рупури. Поэтому японцы частенько не могли его отличить от айна. Айны были очень бородаты и совсем не похожи на азиатов. Скорее чертами лица они были похожи на браминов или на заросших цыган. У многих были тёмно-русые, почти сивые волосы и светлые глаза. Очень странный народ…
Однажды прадед Виктор Николаевич ушёл на охоту. Анна Григорьевна занималась домашними делами и не заметила, что дочка ушла с заставы. Мама Аня (так мы называли её в семье) не смогла дозваться Лялю и пошла по землянкам в поисках дочки. Она успела вовремя, над девочкой уже произвели обряд приёма в племя, и старая айнка собиралась наносить ей на губы ритуальные татуировки. Был крупный скандал, Анна Григорьевна была вне себя, айны шкерились от неё по всему острову (поистине демоническая женщина с абсолютно не русской красотой). А мой прадед, вернувшись с охоты, веселился целый день, выяснив, что же произошло. Оказалось, моя бабка сама уговорила добродушных аборигенов принять её в племя и очень хотела получить татуировки на губы и шею. «Потому что красиво…» – объясняла она потом.
Медвежье мясо обладает, судя по всему, чудесным тонизирующим эффектом. Моей бабушке уже за 80, и большую часть своей жизни она занимается спортом… До сих пор участвует в международных соревнованиях и занимает призовые места. Стальная женщина, вскормленная на медвежатине…
Айны – малочисленный народ, но где-то далеко на западе живёт человек, которого они приняли в своё племя и который даже помнит несколько слов на их языке.
Значит ли это, что я тоже в какой-то степени айн?
Письмо
Старшим ребёнком моего прадеда был Вячеслав. «Дядя Вяча», как называли его у нас в семье. Я его немного помню. Это был сухощавый, двухметровый дядька с ладонями широкими, как совковая лопата, и огромными кулачищами, когда он эти ладони сжимал. При всем при этом руки у него были золотые.
Всё моё детство меня сопровождали вещи, сделанные дядей Вячей, – финские ножи в ножнах и с кровотоком, шкатулки под бумаги, обложки для документов, портсигары и прочее. Он жил с женой во Львове почти в самом центре у старого замка, в доме с палисадником. Работал токарем. Остальные токаря его не жаловали – во-первых, пришлый, а во-вторых, он был новатор. Работу свою он любил и старался ее усовершенствовать. У него было много патентов на изобретения. Большие такие, крупноволоконные листы бумаги. Эти патенты подымали норму другим токарям. Токари пробовали набить ему морду. Но дядя Вяча в молодости был чемпионом Карелии по боксу, и набить морду ему получалось крайне редко. Несмотря на то что у него не было ноги и ходил он с костылём.
Он часто напевал «Хорошо тому живётся, у кого одна нога: и ботинок не сотрётся, и штанина лишь одна». Его мучили фантомные боли, казалось, что чешется пятка ампутированной ноги, и почесать её не было никакой возможности. В эти моменты он ругал комбата нехорошими словами, а потом, когда отходил, говорил: «Нет, нормальный мужик, не гадина…»
Как он потерял ногу? Сейчас расскажу…
Дядя Вяча служил в разведке морской пехоты (его пояс с «крабом»-якорем и звездой – наша семейная реликвия). Под Ленинградом было дело. Дали ему задание – перейти линию фронта и добыть языка. Он и ещё двое сбегали к немцам и к утру вернулись в компании пленного. Дядя Вяча нёс трофейный автомат, светило солнце, они остались живы – хорошо… Немец шёл послушно и не рыпался, и дяде Вяче приказали отвести языка к командиру самостоятельно, не передавая охранной команде. На подходе к штабному блиндажу дядю Вячу окликнул почтальон и вручил письмо от матери. Ну что за чудесный день, ещё и письмо пришло…
В письме было написано примерно следующее: дорогой сыночек, твоего дедушку сожгли в паровозной топке, твой отец пропал без вести, твой дядя Миша ранен и может лишиться зрения, твоя сестра Ксеня и я с маленьким Валеркой в Вятке в эвакуации, голодаем и живём на угольном складе. У меня пропало молоко и Валерку кормит Ксеня, разжевывая чёрный хлеб, и, заворачивая его в тряпицу, делает соску. У Ксени в 14 лет появилась седая прядь волос, она работает в госпитале санитаркой, носит раненых и умерших на носилках. Я тебя очень люблю. Бей немчуру.
Дядя Вяча скинул с плеча трофейный автомат и разворотил живот немецкого пленного короткой очередью. Разгневанный комбат выбежал из блиндажа и попытался его разоружить. Получив короткий хук в челюсть, комбат успокоился и, полежав немного, объявил о трибунале.
Нападение на командира в боевых условиях, неподчинение приказу, расстрел пленного – это серьёзно. Вячеслава Викторовича должны были расстрелять перед строем.
Комбат прочитал письмо, которое получил Дядя Вяча, и поэтому младший лейтенант Вячеслав Викторович Николаев был судим за ненадлежащее исполнение приказа и негуманное отношение к пленному. Он был разжалован и отправлен в штрафбат. Под артиллерийским огнём противника форсировал Неву и десантировался на Невский пятачок, где кусок качественной немецкой стали лишил его ноги.
Преступник ли мой двоюродный дед – дядя Вяча? Ведь он расстрелял пленного. Комбат – сволочь? Ведь он отправил молодого пацана в штрафбат. Следует ли мне харкнуть в морду продюсеру фильма «Штрафбат»? Вопросов много.
Война длиною в жизнь
Мой прадед Виктор Николаевич родился в Санкт-Петербурге, учился в военном училище и в 1915 году ушёл добровольцем на фронт. Первая мировая была в самом разгаре, и 18-летний парень шёл на неё, как все 18-летние, с романтическим задором. Воевал храбро, был награждён медалью. Попал к немцам в плен, бежал, был пойман, бит по пяткам железной рейкой. Бежал второй раз, в ноябре месяце переплыл белорусскую речку Березину, голодал, вернулся в строй. Немцев называл «колбасниками» и ненавидел люто.
Революцию принял спокойно, стал военспецом, был направлен в Красноярск, где и познакомился со своей будущей женой Анной. Партизанил в отрядах Щетинкина, воевал с бароном Унгером, с белочехами, затем с японцами. Награждён орденом Красной Звезды и званием «Почётный красный партизан». Был начальником пограничной заставы на Сахалине. Был переведён в Карелию. Участвовал в Зимней войне уже в звании майора, брал Выборг, воевал на Карельском перешейке. Затем в Выборге у него перед самой войной родился младший сын Валерка. После начала Великой Отечественной воевал на Ленинградском фронте, был ранен, контужен, сутки пролежал в воронке, полной воды. Месяц был в бреду, считался пропавшим без вести, затем убитым (похоронка пришла жене, и она слегла, помутился разум). Но выжил, попал в госпиталь, подлечили и отправили к семье в Вятку (Киров).
Вятка была эвакопунктом, куда вывозили из блокадного Ленинграда тысячи людей. Там была картошка, и молоко, и масло. Все это продавалось на рынке.
Когда мой прадед шёл по улице – высокий, красивый, в новой офицерской шинели, – все оборачивались. Он широко шагал по мощёным мостовым старого купеческого города, а за ним семенила маленькая 14-летняя девочка (моя бабка), которая несла на руках годовалого мальчонку, закутанного в бешмет, и тащила на плечах огромный вещмешок. Рядом, как тень, шла его жена и несла чемодан с вещами на рынок для обмена на продукты.
Розовощёкие торговки из ближних сел стыдили прадеда: вот, мол, какой – девчёнок да баб тяжести заставляет таскать, а сам как фон-барон здесь ходит, в то время как все мужики на фронте кровь проливают. Виктор Николаевич (папа Витя) бледнел и начинал играть желваками (эту привычку унаследовал и мой отец, и я тоже).