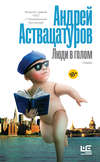Loe raamatut: «Жалкая жизнь журналиста Журова», lehekülg 3
– Поверь, Бобочка, я ни на йоту не сомневаюсь в твоих чувствах к Иванке. Очаровательная, прекрасная девушка… Но в этом случае тебе придется смириться. Раз Толю предупредили «товарищи оттуда» – значит, все очень серьезно, и я полагаю, ты не вправе разрушать то, что твой отец выстраивал годами. Мне очень жаль, мой мальчик. Всем сердцем сочувствую тебе! Но пойми меня правильно: я хотела бы, чтобы ты перестал принимать Иванку у нас дома. И в мое отсутствие тоже…
Ошеломленный Журов вылетел вон из квартиры и помчался к Вите на Обводный. Слез Марго увидеть он никак не мог.
Витя был дома и с карандашом в руке сидел над преди-словием к «Опытам» Монтеня в поисках двух-трех не очень длинных цитат, чтобы пополнить арсенал «знаний», которыми он сыпал при случае в компаниях, предпочтительно в женских. Большего ему от великого француза и не требовалось. Не читать же целиком такой талмуд! Была у него такая слабость – ошеломлять собеседников эрудицией, он обожал ссылаться на изречения великих людей в каких-то определенных, весьма конкретных обстоятельствах, вроде «как сказал Декарт, переехав из Парижа в Голландию» или «как заметил Рокфеллер, заработав свой первый миллиард». Когда память подводила его, Витя нес полную отсебятину, граничащую с ахинеей. При этом глазки его блестели удовольствием и радостной готовностью тут же обернуть все в шутку, если случится чудо и собеседник поймает его на этом безобидном мошенничестве. «Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться», – с одобрением подчеркнул Витя в книге. И признался, ничтоже сумняшеся. Тут-то и затрезвонил с наглой настойчивостью дверной звонок. Без предупреждения к Вите никто не ходил, поэтому открывать он не спешил. Но когда стены задрожали от ударов корпусом в дверь – того и гляди вообще вышибут, – пришлось оторвать зад от кресла. Похоже, за дверью неистовствовал Журов. Витя тем не менее проявил предусмотрительность, сначала накинув цепочку. Лишь увидев друга в образовавшуюся щель, он впустил его в квартиру:
– Ты совсем, Боря, охренел так ломиться?
Журов, сжав кулаки, смотрел так, что у Вити появилось опасение, что тот готов его ударить. Он отступил на шаг. Журов усмехнулся:
– Хлипкая у тебя дверь, старик! Еще пару раз, и я бы вышиб ее на хрен. Сдрейфил? – Витя развел руками – как тут не сдрейфить, когда тебя буравят таким бешеным взглядом! – Вообще-то ты прав, – продолжил Журов, – мне действительно хотелось кого-нибудь убить. А вот увидел твою рожу – и вроде отпустило. Послушай, как меня обложили… даже Марго с ними заодно… Выпить есть?
Молча кивнув, Витя метнулся на кухню и вернулся с початой бутылкой водки, банкой шпрот и черным хлебом. Достав из серванта рюмки, он протер их полой халата. Журов презрительно хмыкнул, пошел мыть свою на кухню. Вернувшись, призывно стукнул по столу. Витя налил до краев, себе впопыхах перелил, вытер лужицу все тем же халатом. Журов, чтобы не намочить, приподнял лежащую на столе книгу, перевернул обложкой – Монтень.
– Всё очки людям втираешь? Зачем книга-то? Мог и в библиотеке накопать что надо. Или просто, как ты это умеешь, пургу гнать.
– Обижаешь! Читаю автора с интересом, нахожу много полезного, очень актуальная вещь… Ну, понеслась?
Хлопнув первую рюмку, Витя аж сложился вдвое, так его прошибло. Зажмурив глаза и мотая головой, он шумно втянул в себя воздух.
Журов испуганно вскочил, схватил друга за плечи и наклонился, заглядывая ему в лицо.
– Что случилось? Витя!
Витя выпрямился и открыл глаза:
– Вкусная, собака!
Закусить требовалось немедленно. Принести вилки Витя не удосужился. Оба полезли руками в шпроты и вытянули за хвост по рыбешке. Заглотив, они отломили по куску хлеба, макнули в масло в банке, принялись усиленно жевать.
– Зачем ты держишь эту гадость? – спросил Журов. Витя пожал плечами. – Давай еще по одной!
Витя слушал внимательно и, в отличие от друга, не пьянел. Суть он уловил сразу и крайне удивился, что такой, казалось бы, пустяк, как роман отпрыска не просто с болгарской девчонкой, а с дочерью члена ЦК, может как-то пошатнуть позиции обозревателя Гостелерадио СССР. И не только пошатнуть, а представлять реальную угрозу вообще для карьеры! Что-то тут не так… Бутылку распили лихо, Витя выудил из шкафа какую-то полузабытую заначку, тоже водяру. Ее давили теплой. Журов стремительно раскисал и нес полную чепуху. Витя не перечил. Зачем? Потом сходили в магазин еще за водкой, курили, прикуривая одну сигарету от другой, потом Журов с трудом успел добежать до туалета, где его вырвало, после чего уснул прямо в одежде на Витином диване.
Выйдя утром на улицу, Журов собрался было пойти домой пешком, проветрить голову, но внезапно передумал и запрыгнул в трамвай до Нарвских ворот. Пивных ларьков, открытых спозаранку, там не перечесть! Но все как один, даже самый надежный у Парка тридцатилетия ВЛКСМ, были закрыты. Когда он спустился в метро и втиснулся в переполненный вагон, растворимый кофе, которым Витя пытался его отпоить, подошел к самому горлу и Журова чуть не стошнило. Каким-то чудом он удержался и всю дорогу глубоко дышал. На углу Малой и Большой Пушкарских ларек был открыт, и очередь на удивление небольшая. Мелочи в карманах хватило на две кружки, первую он выпил, не отрываясь, перед второй стрельнул сигарету, какую-то дрянь без фильтра, у стоящих рядом помятых мужиков. Братья родные… От сигареты опять подурнело, он сплюнул крошки табака, переждал. Затем не спеша приговорил вторую кружку.
Марго не было дома. И хорошо. Не пришлось ничего объяснять.
Проснувшись под вечер, он долго и хмуро ворочался в постели. Как же паршиво, как муторно! Единственное утешение, если прямо сейчас не сдохнуть, что завтра должно стать лучше. Какую гадость они пили! Что он хотел доказать Вите? Доказал? Услышал что-то вразумительное в ответ? Он в состоянии хоть что-то вспомнить? Тут среди полной сумятицы, в череде смазанных эпизодов выплыли Витины слова: «Ничего у тебя там не выйдет. Тот же Совок. Разве что отец Иванки чего подбросит».
Журов не мог с этим согласиться. Он сам, без всяких отцов! И в Болгарии тоже! Голова же есть на плечах. Он выглянул за дверь – Марго гремит кастрюлями на кухне, – на цыпочках добежал до телефона и перенес к себе в комнату.
– Привет, Вить… Ну, мы вчера и дали… Сам-то как?
– Я-то ничего. А вот ты мне вчера весь сортир заблевал. И пришлось на полу спать… Удружил.
– Да ладно ты! С кем не бывает! Ты мне лучше вот что скажи… почему это у меня в Болгарии ничего не выгорит? С чего ты взял? Что ты лечишь меня?
– Никто тебя, Боря, не лечит. Так… мысли вслух… Согласись, в Болгарии элементарно меньше шансов. Ты понимаешь, о чем я? Меньше, чем здесь! Что, не так? – Ответить Журову было нечего. Витя продолжил: – Иванка, конечно, девчонка клевая… Но хочу напомнить тебе одну вещь, которой ты, упершись, как баран, напрасно пренебрегаешь. Ты, Боря, рожден с отличными, можно сказать, идеальными для этой страны анкетными данными! А с таким отцом, как твой, можно очень высоко взлететь… если он тебя правильно воткнет, в чем я не сомневаюсь. Так что подумай, старик! Женщин вокруг много…
– Витя, – заорал Журов, – вы что, все сговорились?! – и бросил трубку. На его вопль без стука – когда такое было? – вошла Марго.
Она открыла рот еще в дверях, но, почувствовав в комнате кислый запах перегара, сначала замахала руками, словно разгоняя его, потом, поморщившись, сухо произнесла:
– Я попросила бы тебя, Борис, когда ты не ночуешь дома, в обязательном порядке предупреждать меня заранее. Не позже одиннадцати часов. Чтобы я могла спокойно спать, а не обзванивать до утра приемные отделения больниц и моргов.
Журов ничего не ответил, лег в постель, повернулся лицом к стене и накрылся с головой одеялом. Поколебавшись, Марго присела рядом, положила руку ему на плечо.
– Бобочка, мальчик мой, больше ничего не буду тебе говорить… ты сам все понимаешь. Постарайся взять себя в руки. Давай-давай, вставай! Принимай душ, проветривай комнату, а то дышать невозможно, и пойдем ужинать.
Она через силу стянула с него одеяло, поцеловала в затылок и вышла из комнаты.
Лишь через сутки Журов выбрался из дома. Марго упорхнула в университет на лекцию друга своего покойного мужа, профессора Г. А. Бялого, читавшего по вечерам спецкурс по русской литературе ХIХ века. На его лекции ходила добрая половина уважающей себя интеллигенции города, без Марго тут было никак не обойтись.
Журов добрел до «Рима», но заходить не стал, передумал и поехал в «Сайгон»3. Первым, кого он там увидел, оказался Миша, так друзья называли начинающего художника Андрея Медведева.
– Ты чего такой довольный? – спросил Журов, пожимая ему руку.
– Дури взял. Узбекской. Говорят, хорошая. Будешь?
– Здесь? Я стремаюсь чего-то…
– Так и я здесь стремаюсь… В мастерскую поедем.
– Тогда айда! Хрен с ним с кофе!
Напоследок Журов обернулся – мало ли кто еще из знакомых мог быть сейчас в «Сайгоне» – и оторопел. Через стол стояла Анук Эме и что-то энергично втолковывала подруге, та только согласно кивала. Он зачарованно сделал несколько шагов в их сторону. Конечно же, не Анук Эме, но как похожа! Услышать бы ее голос… Он приблизился еще на несколько шагов. Какой приятный тембр, какая живая и эмоциональная речь… Только вот что не так? Ба, да у нее акцент! Такой не перепутать, француженка, но как свободно говорит по-русски! И что с того? Необъяснимо, но на душе Журова почему-то потеплело. Он пошел догонять Мишу.
На мансарде в Мишиной мастерской на Загородном проспекте напротив джаз-клуба побывала добрая половина андеграунда города. Мастерская была выделена Союзом художников Мишиному отцу, но тот легко без нее обходился, и как только Миша поступил в «Муху»4, тут же уступил ее сыну в полное и безраздельное пользование. Почти 100 метров в центре города, правда, без горячей воды и с вечно сломанным очком на лестничной площадке пролетом выше, под самым чердаком. Два совершенно пустячных недостатка на фоне остальных колоссальных преимуществ.
Предварительно заварив чай, Миша расторопно и с любовью к делу забил косяк. Закурили. Вторую половину пустили паровозом, пяточку растягивали. Как и во всех предыдущих случаях опытов с каннабисом, Журов абсолютно ничего не почувствовал: то ли конопля попадалась всегда левая, то ли легкие наркотики его не забирали. Других он не пробовал и не собирался. Однако он с уважением смотрел на задумчиво-мечтательное лицо Миши. Человеку вот кайф пришел!
После второго косяка ничего не изменилось, но появилось ощущение исключительной благоприятности момента, чтобы поделиться некоторыми соображениями о своей жизни. Прыгая с одного на другое, он заговорил о мучительной смерти матери, о блядской работе отца и его стремительной – чесалось у него, что ли? – женитьбе на молодой и тупой телочке из Мухосранска. Тупая не тупая, а выдавила его из квартиры на Пешков-стрит. Возлюбленная Иванка – прекрасна, но из-за нее отца прессуют органы. В Болгарии он не пропадет, потому что имеет голову на плечах. Марго замечательная, самый дорогой для него человек, но и та встала на сторону отца. Друг Витя оказался двуличной гнидой, он заодно со всеми против него. А после окончания университета он ни за что не станет проституткой и будет писать что-то особенное и талантливое. Может, и в Болгарии!
В пылу этой спонтанной исповеди Журов не заметил, как к ним присоединились две юные очаровательные барышни: высокая, яркая, эффектная и очень смело одетая Ульяна и миниатюрная блондинка Женя, полная противоположность подруги, но тоже очень красивая.
– Так ты сын Анатолия Журова? – с интересом спросила Ульяна, изучающе разглядывая его с ног до головы.
– А что, это имеет значение? Да, сын! Но я все сам! И сейчас, и в будущем! – высокомерно отрезал Журов.
Ульяна с Женей переглянулись, почти синхронно фыркнули и расхохотались, запрокидывая головы. К ним тут же присоединился Миша, уж больно заразительным было их веселье, и Журов не удержался – как можно обижаться на таких хорошеньких!
Даже сквозь смех он удивился, насколько резко и выпукло ему видятся предметы в комнате. Картины и рисунки, тесно и беспорядочно развешанные по стенам, подрамники штабелями где только можно, банки с кистями, тюбики с красками, полки, заваленные бумагами и в основном бесполезными книгами, ветхие, полуживые стулья, поцарапанный стол, консервная банка вместо пепельницы, потрескавшиеся чашки с остывшим чаем, старинный патефон, найденный кем-то на помойке с кучей довоенных пластинок, которые – о чудо! – еще можно было слушать на этом самом патефоне.
Мишина дурь совсем не забирает. Правда, он не заметил, как пришли девушки… Откуда он знает, что Ульяна манекенщица? Вероятно, Миша сказал. Женя – маленькая, таких в манекенщицы не берут. Они лучшие подруги… Какие все хорошие… Миша, девушки.
– Котик, – Ульяна положила руку ему на грудь, – не смей сомневаться! Обязательно женись на своей Иванке! – Журов признательно посмотрел на нее. Что-то такое она знает, раз так уверенно говорит. Хватит сомневаться! Все нормальные люди советуют жениться! Тогда решено! Какая все-таки красивая эта Ульяна!
С этого момента он смотрел на девушку, не отрывая взгляда, загадочно и заговорщицки ей улыбаясь. Когда пустили по кругу очередной косяк, Журов глубоко затянулся и, задержав дым, сделал Ульяне знак следовать за ним. Она без колебаний встала со своего места. Выйдя в другую комнату, он обнял ее, не чувствуя ни малейшего сопротивления, прижал к себе, решительно раздвинул языком ее губы и в поцелуе выдохнул дым. Он делал так в первый раз, до этого только слышал. Вдохнув, она прикрыла глаза, что-то прикинула в уме, показала жестом ему оставаться на месте, отлучилась и вернула такой же поцелуй. Больше они из комнаты не выходили, медленно и изучающе целовались. Журов изнывал от желания, в узких джинсах стало больно от возбуждения. Он полез ей под блузку, она мягко не позволила.
– Котик, а тебя разве не предупредили, что мне шестнадцать лет? Я вообще-то еще в десятом классе. И потом… ты ведь только что собрался жениться на своей прекрасной болгарке! Как же так, неужели ты передумал?
«Шестнадцать лет! Невероятно! Да-да, Иванка, родная! Конечно! Я женюсь на ней. Потом. А сейчас как я хочу эту Ульяну! Господи, десятиклассницу! Кто бы мог подумать! А на Иванке женюсь позже. Или, может, жениться на Ульяне?» В голове был полный сумбур, но приятный, не приносящий беспокойства, скорее наоборот, вертелось что-то веселое, даже радостное – если не жениться на одной, хотя все решено, можно тогда жениться на другой. Желание не пропадало, целоваться дальше Ульяна категорически отказалась. С чего это вдруг? О том, чтобы погасить свет и увлечь ее в угол на диван, не стоило и мечтать. Они вернулись к Мише с Женей, та тут же объявила, что им давно пора. Журов вызвался проводить их в расчете на новую порцию поцелуев в подъезде Ульяниного дома, но подруги решительно отказались. Без них стало скучно. Журов засобирался домой.
В метро – бывает же такое – ехали на удивление симпатичные и добрые люди. Спроси Журов, стоит ли жениться на Иванке, каждый пожелал бы ему семейного счастья.
Марго уже спала, к счастью, он не разбудил ее грохотом замков. Безумно хотелось пить, во рту творился какой-то кошмар. Прильнув к крану на кухне, он долго-долго пил холодную ленинградскую воду. «Какую муть взял Миша, кайфа никакого, а сушняк – сдохнуть можно».
4
Через зимнюю сессию Журов позорно перетащился, получив по всем предметам снисходительное «удовлетворительно». Исключительно благодаря громкой фамилии. Связываться с ним никто из преподавателей не желал, даже непримиримый истматчик, сыпавший неудами налево и направо. Ни о какой принципиальности по отношению к Журову-младшему речи и в помине не было, преподаватели – кто равнодушно, а кто с легким смущением – разводили руками, пожимали плечами и советовали в дальнейшем больше заниматься и лучше готовиться к экзаменам. Буквально все подозревали в нем незаурядные способности, лишь по недоразумению пока не раскрытые, которые априори не могли отсутствовать у сына гуру журналистики. В свои незаурядные способности Журов твердо верил сам – просто сейчас ему не до учебы. С кривой ухмылкой он вяло поддерживал разыгрывающиеся при выставлении оценки мини-спектакли, в ответ невразумительно что-то мычал про загадочные личные обстоятельства, обещал исправиться и взять себя в руки в самое ближайшее время, уже в следующем семестре. До сессии столь же невзрачно и уныло он протелепался на практике в молодежной газете «Смена». Что практика, что сессия, казались ему чем-то пустым, обременительным и мимолетным, не заслуживающим серьезного к ним отношения. Когда наступит время – а оно наступит сразу после распределения, яркого и многообещающего и уж точно никак не зависящего от отца, – он будет писать остро, принципиально и смело. Так, что о нем заговорят. Внутренний голос нашептывал, что его неординарные статьи прорвутся через партийно-чекистские препоны, правда, голос не объяснял, как он их напишет и каким чудом их не затормозит цензура. «Боря, ты пробьешься! Обязательно пробьешься!» – настойчиво твердил голос. Журов прислушивался с благодарностью, и этого было достаточно.
Что именно в его внутренних настройках в действительности послужило импульсом для столь неприглядно обставленной разлуки с Иванкой, Журов не знал, а может, боялся себе признаться. Он же любил ее! А на деле получается – не выдержал первого же испытания! Почему? Он бросил девушку из уважения и любви к отцу, несмотря на большие и мелкие обиды, то есть все-таки из сыновнего долга? Или все-таки из страха за свое прекрасное будущее? Если глубоко в себе не копаться, ясно, что из-за отца. Нельзя же человеку такую свинью подкладывать, коль его столь недвусмысленно предупредили «товарищи оттуда»! Эта работа – смысл его жизни! А вдруг не в отце дело?! Ведь иногда, на короткие мгновения, откуда-то возникало раздражение, что придется что-то придумывать в этой хреновой Болгарии!
Отвлечься от самокопательства совершенно неожиданно помогла целая вереница факультетских представительниц прекрасного пола, давно и безуспешно проявляющих интерес к симпатичному молодому человеку импортного вида, да еще и сыну самого Журова. Был голубчик недоступен, словно изо льда сделанный, и вдруг – раз, как по волшебству стал очень даже доступен, более того, охоч до всякого любовного баловства. О таком разнообразии студенческой жизни с этой стороны он раньше не догадывался. Безусловной золотой жилой на поприще необременительных знакомств являлись университетские дискотеки, особенно в общежитии юристов на проспекте Добролюбова, где крутили самую свежую музыку мавританские арабы. Беглый французский Журова с легким алжирским акцентом (ребенком он провел три года в Алжире, пока отец был корреспондентом ТАСС) незамедлительно превратил его в друга ведущих.
Какие бы ни возникали искушения, домой на ночь он никого не приводил, зато днем и до позднего вечера кабинет профессора Лопухина превращался то в дом свиданий, то в клуб любителей водки и портвейна. И ни слова упрека от Марго – все гости Бобочки как раньше, так и сейчас оставались прекрасными мальчиками и девочками, хотя, судя по участившимся сменам постельного белья, а также количеству пустых бутылок, о чем-то таком она, по идее, должна была догадываться. Кто знает…
Вымучив последнюю тройку как раз у непримиримого истматчика, Журов выдохнул: через сессию худо-бедно перевалился, время подумать о каникулах. Чуть ли не вприпрыжку он рванул в «Петрополь» – пивной бар в двух шагах от факультета. Не на сухую же ему думать! Взял кружку, подсел к приятелям с филфака – Петрусю с русского отделения и Лехе с португальского. Те чего-то насупились, словно он был им в тягость. Журов пожал плечами и взял всем по кружке. Петрусь вопросительно посмотрел на Леху, тот моргнул глазами в знак согласия, и Петрусь показал портфель с двумя бутылками вина.
– Белый вермут по рубль восемьдесят семь, – восторженно прошептал он, – будешь?
Вопрос же риторический! Раскатали обе бутылки за полчаса, зашло неплохо. Петрусь удовлетворенно откинулся на спинку высокой скамьи и мечтательно изрек, поглаживая себя по животу:
– Если бы у меня было сто восемьдесят семь рублей… я бы купил сто бутылок такого вермута!
– Я ваш должник, мужики, – рассмеявшись, сказал Журов, – очень в жилу ваш вермут! Я тут маялся на трезвую голову, куда на каникулы податься: в Москву или в – Репино…
– И что решил? Я лично в Репино, в Домжур, – произнес Леха, – но и от Москвы не отказался бы. Друзей там море.
Журов внимательнее посмотрел на Леху – а что, парень приятный, с юмором, не дурак, рожа интеллигентная…
– Знаешь, старик, я, пожалуй, составлю тебе компанию. Есть у меня маза в Домжур.
Он довольно потянулся – как неплохо складывается день, – как вдруг увидел Иванку, входившую в зал с Горшкалевым. Горшкалев был объектом всеобщих насмешек из-за нелепых виршей в факультетской стенгазете. На полголовы ниже Иванки, он даже не обнимал ее за талию, а по-хозяйски вел за зад, что в глазах Журова было особенно мерзко. «С каких это пор она пьет пиво? Почему Горшкалев?! Этот жалкий задрот с вьющимися жидкими волосенками, в дурацких очочках и со шрамами от прыщей на довольной физиономии?! Почему со всего факультета или университета, не говоря уж об огромном городе, она выбрала самую жалкую личность?! Горшкалев теперь карабкается на нее?! Это что, месть?!» Кровь прилила к лицу Журова. Иванка сделала вид, что не замечает его. Он не удержался и, до боли вывернув шею, провожал их взглядом, пока они не расположились за столом. Размазать бы Горшкалева по стенке, встряхнуть Иванку, чтоб опомнилась, высказать ей все об этом ничтожестве. Он привстал с места… но его остановил простой вопрос: зачем? Разве что-то можно вернуть? Разве что-то изменилось?
Изменилось! Журов вдруг понял что. Даже если бы сию минуту пал СССР, упразднили КГБ и КПСС с комсомолом, работе отца ничего не угрожало и тому подобное, он Иванку не вернет, потому что никогда не сможет простить ей Горшкалева. И дело не в том, захочет ли она простить его.
– Прекрасная пара, – издевательски, растягивая гласные, произнес Леха, с любопытством глядя на Журова, на лице которого отразилась целая гамма чувств.
– С нашего факультета чувак… поэт хренов. А она болгарка, в смысле, из Болгарии… Ладно, мужики, мне пора, – он встал, – Значит, в Репино, говоришь. Гуд. Буду там. Хочу успеть еще в Дом журналистов. За путевкой.
Торопливо попрощавшись и не оборачиваясь в зал, где сидела Иванка, он вышел из бара. «Спасибо тебе, папа», – остервенело бормотал он, натягивая куртку.
Без проволочек, но с обещаниями налево и направо передавать при случае приветы папе, он подмахнул путевку и спустился в бар Дома журналистов, ютящийся в полуподвале. Крохотное, тускло освещенное и плохо проветриваемое помещение, тем не менее известное в городе. Крепко выпить журналисты никогда не стеснялись, видимо, жаркие дискуссии, вспыхивающие в баре чуть-ли не каждый вечер, создавали особую атмосферу… Сквозь клубы табачного дыма он разглядел только одно свободное место у стойки рядом с какой-то девушкой. Лицо знакомое. Он где-то уже видел ее… Актриса? Ба, да это же Анук Эме из «Сайгона»! Та самая француженка!
Чего нельзя отнять у Журова, так это то, что он был воспитанным и вежливым молодым человеком, весьма далеким от всякого рода хамства и бесцеремонности. И дело не в белом вермуте, уложенном на несколько кружек разбавленного пива, почему он, не спрашивая позволения, плюхнулся рядом с девушкой, вплотную придвинув к ней стул, так что коснулся ее ног, и сразу заговорил по-французски, с ходу обратившись на «ты». – Меня зовут Борис. Как вашего писателя Виана.
Ее звали Кароль.
– Я живу на Мойке, совсем недалеко от нашего консульства. Как пойдем? По Невскому или по Фонтанке?
– А как ты хочешь?
– Когда не очень холодно, предпочитаю по Фонтанке. У Михайловского иногда задерживаюсь, замедляю шаг… Его мрачная история… Как бы тебе объяснить… там я чувствую вибрацию времени… Ну а затем уже на Мойку. Иногда заглядываю в Летний сад, позитивное для меня место… Особенно в творческом плане. Когда не идет материал… или что-нибудь срочное, самые удачные мысли приходят именно там. Особая энергетика? Может, совпадение… А когда холодно – на троллейбусе или автобусе по Невскому.
– Сегодня холодно?
– Очень! Но все равно пойдем пешком! – Кароль засмеялась.
– Какими судьбами, забыл спросить, тебя занесло в Домжур-то?
– Как какими? Я корреспондент L'Humanité Dimanche. По совместительству… А так пишу здесь диссертацию. По русской публицистике начала века и ее влиянии на революционные настроения масс… – прежде чем продолжить, она заглянула ему в лицо, проследить за реакцией. – В Высшей партийной школе! – Журов остановился как вкопанный и остолбенело уставился на нее. Она засмеялась, – Удивлен? Признайся? – Он озадаченно кивнул. Представить Анук Эме слушательницей ВПШ! Рехнуться можно! Довольная произведенным эффектом, она продолжила: – Но защищаться я буду в Сорбонне…
– Зачем тебе вообще русская публицистика? Революционные эти настроения?
– Как зачем? Хотя бы потому, что я коммунистка! Прям коммунистка-коммунистка! В Париже – даже очень активная… Представь себе, я – секретарь ячейки округа!
«Господи, каких только партий нет во Франции! Либеральные, демократические, правые… Да какие угодно! А ее угораздило к коммунистам податься… А не плевать ли, когда можно поболтать по-французски не с арабами или неграми, а с настоящей парижанкой?» – думал Журов, наивно полагая, что лишь этим ограничивается его интерес…
Важна была не тема разговора, а процесс. Спорили о Борисе Виане. Журов осознанно провоцировал ее, иногда неся полную чепуху, потому что «Пену дней» читал невнимательно, скорее пробежал глазами, а к «Я пришел плюнуть на ваши могилы» даже не притронулся, знал содержание по аннотации. Просто очень нравилось эпатажное название. Кароль, магистр литературы, принимала его туфту за чистую монету и пылко, но весьма структурно и убедительно отстаивала свою точку зрения. С исполнителями было чуть легче, но он опростоволосился как последний невежда. По какому-то недоразумению он ничего не слышал о Серже Генсбуре. Это поразило ее. Как такое возможно, чтобы человек, на первый взгляд, неплохо разбирающийся во французской музыке, заявляющий, что любит Жоржа Брассенса и Максима Форестье, добравшийся до Луи Шедида и Мишеля Жоназа, ничего не знал о Генсбуре!
– Ты с ума сошел! Как такое возможно! Генсбур, кстати, сын выходцев из России… Я дам тебе послушать! У меня здесь есть кое-что… Уверена, ты придешь в восторг! Если не от музыки, то наверняка от текстов!
Несмотря на охвативший Журова кураж, в ее подъезд он вошел с опаской. Если в доме живут одни иностранцы, то стукача-консьержа не миновать. И что тогда делать? Светить студенческий и записываться к французской журналистке, когда из-за болгарской студентки поднялся такой сыр-бор? Бред же! Однако Бог миловал. Но дальше порога квартиры он проходить отказался: ни кофе не выпьет, ни бокала вина. Да, она очаровательна, женственна, непосредственна… но нет! Нельзя-нельзя! Не напрасно же он… Схватив кассету и записав на клочке газеты ее номер, он выскочил из дома.
– Извини, спешу! Как-нибудь в другой раз… я по-звоню!
Еще десять минут назад он никуда не спешил! Кароль смотрела на лужицу воды, натекшую с его сапог, вспоминала глаза, какими он ее поедал, и именно из-за многообещающего блеска этих глаз не могла найти объяснения такому стремительному бегству… Он понравился. Даже очень. Хорошо, что не красавец, зато чувствуется в нем какая-то порода, стиль. Он еще позвонит. Кароль улыбнулась.
Первым делом Журов поехал в Москву, как ни был зол на отца. «Можешь быть доволен, мы расстались», – даже не поздоровавшись, объявил он ему. Журов-старший без слов обнял сына и, пока тот находился в Москве, был с ним предельно прост, терпим, жизни не учил и моралей не читал. И словом не обмолвился о провальной сессии. Просто золотой какой-то. На прощание он отвалил сыну весьма приличную сумму, заметно больше обычного.
Вернувшись в Ленинград, Журов коротко посидел с Марго на кухне за чашкой кофе, поделился с ней московскими новостями и к вечеру умчался в Репино.
Дом журналистов в Репино представлял собой старую финскую двухэтажную дачу комнат на десять-двенадцать, с двумя небольшими верандами, крошечной кухонькой и двумя туалетами-умывальниками. На крыльце у входа зимой всегда валялись веники, чтобы отряхивать снег с ботинок, прямо за дверью висел ключ от сарая, где хранились общественные финские сани и куда ставились лыжи. Вокруг дачи плотно росли старые сосны и ели, по ночам, если спать с открытой форточкой, было слышно, как они поскрипывают под тяжестью снега и от мороза. Готовить на кухне не полагалось, только если попить чайку с бутербродами, зато у управляющей можно было приобрести талоны на питание – два рубля в день за все про все – в гостинице «Репинская» в десяти минутах неспешной ходьбы.
Дача журналистов, как ни парадоксально для этого периода тотального студенческого нашествия в загородные санатории, дома отдыха и гостиницы, была заселена народом возрастным и степенным. И лишь Леха со своим другом Николашей привносили хоть немного разгула в этот оазис тишины и покоя. У Лехи однозначно свербело в одном месте – он яростно метался в поисках приключений от «Репинской» до Дома кино и обратно. Леха жаждал любви, Леха жаждал постоянно быть пьяным, а если не пьяным, то хотя бы поддатым. С любовью Леху подкашивал его друг Николаша – меланхоличный юноша редкой красоты, обладающий мягким юмором и прекрасными, будто не из этой жизни, манерами, но невероятно застенчивый с прекрасным полом. При знакомстве с ним девушки, как правило, переставали ровно дышать, на Леху внимания не обращали. Леха был готов идти по остаточному принципу, пусть Николаша забирает лучшую, а ему уж кто достанется… Но Николаша никого не забирал, а значит, и Леха оставался с носом. Подобный расклад для него был полной катастрофой. Он искрился от негодования, но надежды на серьезные и длительные отношения – дней на пять-шесть – с прекрасной дамой не терял. Приезд Журова открывал Лехе совершенно другие возможности, бередил оптимизм! Он сразу попытался взять его в оборот, без малейших колебаний открыв бутылку водки из неприкосновенного запаса:
– Боб, дружище, ты нам позарез нужен! В Доме кино отдыхают три прекрасные нимфы, но они заколдованы – они неразлучны до тех пор, пока их не расколдуют три влюбленных в них принца. Будешь третьим! Можем скинуться и пригласить их вечером в «Репинскую» на танцы! Лучше сегодня. Ну, твое здоровье!