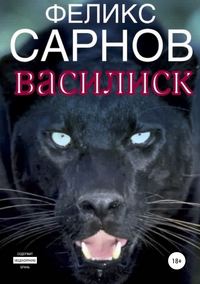Loe raamatut: «Василиск»
– Так ты тоже знаешь эту сказку? Да?
Почему же я никогда ее не слыхал?
– Потому что Джунгли полны таких
сказок. Стоит только начать, им и
конца не будет…
Р. Киплинг. Книга Джунглей.
П р о л о г
Тварь снова нашла путь в другой мир.
Это вышло случайно, как и в первый раз, когда она ощутила зов. Тогда она даже не успела понять, что с ней произошло – просто очутилась в каком-то замкнутом пространстве и инстинктивно рванулась из него наружу.
И вырвалась.
Наружу.
Вырвалась из каким-то образом притянувшего её существа, беспомощно раскинувшегося на песке, и… С наслаждением убила нескольких других существ. Она убила бы и ту… Ту самую ,с помощью которой оказалась здесь – вырвалась за пределы своего к р у г а, за ч е р т у, во всяком случае, попыталась бы сделать это, но…
Ей помешал Страх.
Страх, от которого не было спасения. Страх, который умел появляться бесшумно и неожиданно. Страх, для которого охота на таких, как она, была всего лишь забавной игрой, и это было самое страшное в Страхе: Он мог убить сразу, а мог и притвориться, что промахнулся, и продлить свое развлечение.
В тот раз Страх даже не показался весь, а лишь отбросил в этот мир т е н ь своей страшной лапы – обозначил свое присутствие. Тварь, как на пружине, отбросило в свой мир – мир красного песка, где Страх почему-то не стал преследовать её, оставил до следующего раза, играя в свою жуткую игру по своим жутким правилам.
Но она запомнила т о т мир, а главное, запомнила тот слабенький з о в другого существа, благодаря которому сумела проникнуть туда. И все время ждала этот зов, страстно желая услышать его снова и опять очутиться там, где можно легко и просто убивать слабых двуногих существ, не способных не то, что драться с такими, как она, а вообще хоть как-то сопротивляться. Там можно было бы делать то, ради чего она существовала – плодить себе подобных и убивать всех других, а еще… Еще в ней теплилась надежда, что, быть может, там можно будет остаться навсегда, оборвать связывающую её с этим миром пружину и… Быть может, Страх не станет больше преследовать её т а м, оставит в покое, потому что у Него и в Его мире хватает с кем и г р а т ь. И вот, момент настал…
Тварь снова услышала тот слабенький зов и снова нашла путь в другой мир.
На этот раз все вышло как-то иначе. Тварь, услышав зов, рванулась на него всем своим нутром и… Ей словно засосала какая-то воронка, красный песок закрутился вокруг неё жутким вихрем, вздел её куда-то вверх, стал швырять из стороны в сторону, а потом выплюнул вниз, в… Другой мир.
Очутившись на земле, она огляделась и… С ужасом увидела, кто позвал её, чей зов она приняла – это была…
Это был… Страх. Только маленький – даже меньше, чем она сама, словно на нее смотрела Его маленькая копия, или… частичка. Смотрела каким-то сонными, погруженными в транс глазами, и тварь поняла, что звереныш не видит её и вообще не знает о её присутствии. Первым страстным желанием твари было разорвать, убить этот маленький Страх, но…
Она сразу поняла, почуяла, что это невозможно. Она не понимала, почему, но чувствовала… з н а л а. От ощущения своего бессилия её охватила жуткая злоба, и увидев неподалеку бегущее и нелепо размахивающее конечностями какое-то другое существо (из тех, что она уже убивала однажды), она рванулась к нему быстро и бесшумно, догнала в одно мгновенье и…
Перекусила пополам.
Кровь существа – то, в чем она нуждалась, чтобы жить, – хлынула ей в глотку…
Часть 1
1.
Х Р Р Р Я С Т Ь!…
Маленькая пластмассовая фигурка ни в чем не повинного пингвинчика разлетелась на мелкие кусочки по всему кабинету, а по коридору районного отделения УВД разлетелось эхо от мощной матерной тирады старшего оперуполномоченного данного отделения, майора, Ивана Васильевича Хрусталева, больше известного среди сослуживцев и местной братвы под дружеским (и не очень дружеским) псевдонимом (по-простому сказать, кликухой) – Хруст.
Расхерачив здоровенным кулаком пластмассового пингивна на своем столе и соответствующим образом высказавшись,
("…сех-бу-нах-рот-дюки-мать-мать-мать…" Ну, и так далее…)
Хруст вздохнул и… издал вполне добродушный смешок. Несмотря на, как бы это сказать, внушительную внешность, Хруст был человеком незлым, а главное, вполне отходчивым. И с чувством юмора у него было все нормально. Правда, когда твои сослуживцы две недели долбят тебя сраными пингвинами, любое чувство юмора может дать слабину, но… В конце концов, что с них взять, пускай тешатся, если других забав нету. А вот у него, у Хруста, то бишь у старшего оперуполномоченного майора Хрусталева, "забав" сейчас полный рот. И дело даже не восьми жмуриках, которые висят на их "земле", а стало быть, на нем, майоре Хрусталеве, а в пятом из этих восьми, который он… Вернее, которую… Которую он, майор Хрусталев, выгнал ночью из своей "однушки"
(пьяная стерва, вздумавшая у него в ванной распечатать пакетик с порошком и подзарядиться – ты ж мент, чего ссышь…)
а потом, кроя ёбом свою… ну, ответственность, что ли, выбежал вслед за ней, чтобы усадить уродку в тачку, заглянул на огороженную стройплощадку и увидел… То, что увидел. Или кого…
И как об этом рассказать? Какой рапорт подать? И кому? Нач. отделения, полковнику, Рубцову? Такому на вид недалекому увальню, немного смахивающему на "Колобка" из сериала про ментов? Только ведь этот "недалекий увалень" видит всех не то, что как рентген, а куда круче, и если рассказать – даже не подать рапорт, а просто рассказать
(… в конце концов, можно поговорить с Рубцовым не как с нач. отделением, а просто как с Васькой Рубцом, с которым когда-то…)
ему, что ты видел, то он… Психовоз, ребята, с санитарами. Рубец, конечно, мужик что надо, и уж кто-кто, а Хруст знает, кто такой Рубец, но…
Не поймет.
Не поймет Рубец такие фокусы и конечно, поможет чем может, а чем не может, не поможет, так что же делать, ебить вашу…
А тут еще эти пингвины, мать их…
И опять по коридору отделения УВД прокатилось зхо тяжелых раздумий старшего оперуполномоченного Хруста.
* * *
С пингвинами, если по-честному, Хруст сам дал маху, вернее…
Словом, две недельки назад, выйдя из положенного отпуска, Хруст был вызван вместе с остальными ребятами на планерку к Рубцу и в пол уха слушал обычный рубцовский распиздон по поводу четырех непонятных жмурах на их земле. В пол уха – потому что жмуров все равно повесят на Хруста, а стало быть, после планерки он ознакомится со всеми материалами чисто конкретно, а еще потому что с утра голова была мутная, в горле – сухость, и… Ну, в общем, после вчерашнего.
Вот он и сидел, рисуя на листе бумаги какие-то загогулины и мало вникая в раздраженный бубнеж Рубца по поводу общего разгильдяйства, неумения и нежелания работать на благо общества и высшего руководства, рассчитывая, что к нему, сегодня вышедшему из отпуска и соответствующего… ну, не запоя, но и не без этого, никто приколебываться не будет.
Зря рассчитывал.
Не, услышав от своих подчиненных ничего вразумительного в ответ на свои претензии, Рубцов хмыкнул, обвел всех присутствующих тоскливым взглядом, явно ища козла отпущения, и… Зацепился этим взглядом на слегка опухшей физиономии Хруста. Он, конечно, понимал, что приставать к Хрусту с этими четырьмя висяками сейчас глупо и бессмысленно, но похмельно-раслабленная физиономия майора вызвала у него глухое раздражение.
– Может, майор Хрусталев нам что-нибудь присоветует? – осведомился он. – Вы все воды в рот набрали, а Хрусталев, похоже, не водичкой вчера баловался, верно, майор? Так, может, у вас есть какие-то соображения?
Хруст пожал плечами и вдруг неожиданно для самого себя пробормотал:
– Интересные они твари, таищ полковник…
– Кто? – не понял Рубцов.
Хруст был готов откусить себе язык. Он сам не понимал, как ухитрился вслух произнести то, что лениво вертелось у него в голове. И может, и следовало бы если не откусить, то хотя бы прикусить свой похмельный язык, но он этого не сделал, и к его ужасу язык продолжал болтать как бы сам по себе:
– Да, пингвины, таищ полковник, вчера передачка была по телеку, так там пингвинов показывали – ходят, разговаривают, ну прямо как… – тут Хруст неимоверным усилием воли закрыл рот.
Все присутствующие тоже как по команде закрыли рты ладонями, чтобы удержать рвущийся наружу хохот, а физиономия полковника Рубцова медленно налилась клюквенно-красным соком.
– Замечательно! – каким-то каркающим голосом проговорил он. – Тут, понимаешь, четыре трупа, разодранные черти кем… или чем… Мне наверху всю плешь проели! А у нас в отделении, этот… как его, мать… поручик Ржевский объявился! Ну, который спрашивал, как ежи ебутся. А майор Хрусталев, значит, пингвинами интересуется! За-ме-ча-тель-но, вашу мать!!.
– Я… это… – пробормотал Хруст и замолк, решительно не представляя, что говорить дальше.
– Пингвинами! – рявкнул Рубцов, и ударил кулаком по столу так, что тяжелый стол загудел. – Я вам покажу пингвинов! Вы у меня все к пингвинам, мать их, отправитесь, и я вместе с вами… Не-ет, – он погрозил всем пальцем, – я сам уйду к ебене матери на пенсию, а вам такого пингвина сюда поставят, что мало не покажется. Он вам объяснит, как надо работать, а не водку жрать и на планерках издеваться! Я вас всегда свой задницей прикрываю, а тебя, Хрусталев – это вообще отдельный разговор, а ты мне тут… – полковник горестно махнул рукой и смолк.
– Василь Иваныч, я, это… ну, словом… – начал было бубнить готовый сквозь землю провалиться Хруст, но полковник еще раз махнул рукой и буркнул:
– Всё, надоели… Идите все нах…, у меня дел по горло.
(В отличие от "Колобка" из известного сериала, Рубцов все планерки заканчивал именно таким образом – не "идите, работайте", а "идите на…", не взирая ни на присутствующих дам, ни на погоду, ни на состояние текущих дел, ни… Словом, ни на что. И никто не возражал и не обижался – его любили.)
Все выкатились в коридор, там убрали от ртов ладони, и… В коридоре раздался такой хохот, какого еще не слышали стены отделения. Смеялись все – мужики, подвизгивая и хлопая себя по ляжкам, смазливая молоденькая лейтенантша и пожилая некрасивая капитанша, утирая платочком выступившие слезы, – все, кроме Хруста. Хруст чувствовал, что ему это не скоро забудут.
И был прав.
Вот уже две недели он каждый день находил на своем столе изображения проклятых пингвинов – иногда выполненные карандашом, иногда шариковыми ручками, а один раз даже акварельными красками, взятыми, видимо из набора своих спиногрызов. Сегодня же кто-то перешел на новый рубеж и достал пластиковую фигурку… Ну, прямо, мимо тещиного дома я без шуток не хожу…
* * *
Самое смешное, Хрусту действительно понравилась та передачка по телеку, понравились эти забавные существа, так похожие на людей, передвигающиеся на задних лапах и явно что-то говорящие друг дружке.
Хрусту вообще нравились животные.
Не то, чтобы он любил с ними сюсюкать, или даже вообще любил, просто он всегда относился к ним с каким-то… доброжелательным интересом. Причем с самого детства, с тех пор, как… Да, пожалуй, с того случая, когда пятилетним карапузом в деревне, с любопытством наблюдал за квохчущими во дворе курицами, а потом подошел к здоровенной дедовской овчарке, к которой даже его бабка, хозяйка, подходила с опаской, и попытался вытащить у нее из пасти большую кость.
Двенадцать швов, которые ему наложили на руку, все считали чудом. И вполне оправданно – по всем прикидкам его детская рука должна была остаться в пасти овчарки, но…
Не осталась.
По каким-то неведомым, может быть, понятным только ей причинам злобная сторожевая собака не только не перекусила детские косточки, но даже не тронула клыками – лишь располосовала руку передними зубами, не будучи в силах преодолеть мощный инстинкт охраны своей еды. Дед пытался ему объяснить это, боясь, что у мальчонки останется навсегда страх, что он будет теперь бояться собак, но…
Мог бы не объяснять. На следующий же день, со свежезабинтованной рукой Ваня (в ту пору его домашние называли его ласково Ивушкой) вышел во дворик, подождал, пока овчарка доела свою похлебку и досуха вылизала миску, подошел к ней и стал гладить здоровенную голову и почесывать её за ушами той самой рукой, которой вчера взялся за кость. Стоявшая во дворике бабка оцепенела от ужаса, но потом, видя, что овчарка стоит спокойно, не рычит, а просто стоит и ждет, когда мальчик натешится и оставит её в покое, перевела дыхание и торопливо перекрестилась.
Овчарка действительно относилась к нему после этого вполне дружелюбно… Нет, скорее равнодушно, примерно как к кошке, которая порой приходила и ложилась возле её брюха, потягивалась, теребила лапками её огромные лапища, вообще вела себя свободно и нагло, явно ощущая себя главной и неприкосновенной. Впрочем, кошка и была главной – она была старше собаки, играла с ней, когда та была еще крохотным щенком, и поэтому… Тут все было понятно. Что же касается Ивана, то даже он не совсем понимал, ни тогда, ни потом, когда вырос и вспоминал этот эпизод, почему собака приняла, как данность, отсутствие у него и тени страха и стала позволять ему делать с собой то, что позволяла лишь одному деду – хозяину.
Трудно сказать, полюбили ли они с собакой друг друга. Вряд ли. Между ними никогда не было никаких сюсюканий, облизываний и прочих нежностей. Но когда двое соседских мальчишек постарше, играя с ним во дворике, начали по-мальчишески заводиться и толкать его уже всерьез, от будки послышалось глухое предостерегающее ворчание. А когда один мальчишка в конце концов сильно толкнул Ивана и тот полетел на землю и здорово саданулся коленкой о валявшийся там кирпич, у будки раздался короткий страшный рык, громко лязгнула цепь и…
Будь цепь чуть подлиннее, толкнувшему его пареньку вряд ли было бы суждено стать взрослым.
На следующее лето мать опять привезла Ивана к родителям в деревню, но дедовскую овчарку он уже не застал. На все расспросы дед с бабкой бормотали что-то маловразумительное (увезли… убежала погулять…потерялась), но тот самый мальчишка, который толкнул его во дворе прошлым летом, радостно сообщил Ивану, что собаку, случайно сорвавшуюся с цепи и убежавшую в поле, зарубил топором пьяный тракторист. Увидев, что у Ивана (тогда еще Ивушки) на глаза навернулись слезы, мальчишка стал радостно кривляться, приплясывая перед Иваном, и выкрикивать:
– Пойди поищи своего защитничка, Ванька-встанька-пидорас щас у нас получит в глаз!…
В глаз Ванька действительно получил, и не раз, и очень больно (мальчишка был старше и сильнее), но… Домой он вернулся после "разборки" молча и на своих двоих, а вот тот мальчишка – ползком и подвывая.
Всю ночь Ваня тихо плакал, но не оттого, что болели разбитые губы, подбитый глаз и ребра. Плакал и утром, когда к нему пришел дед и стал неумело утешать его. Плакал за завтраком, когда бабка подкладывала ему лучшие куски и бормотала, что надерет уши здоровым пацанам, которые "справились с малышом". И перестал плакать лишь днем, когда из случайно оброненных дедом слов понял, что тому трактористу после той разборки так же, как и его, Ваниному, "врагу", не удалось уйти на своих двоих. Более того, трактористу, как оказалось, уже никогда не суждено было ходить на своих двоих: его вообще еле довезли до больницы, и одну ногу пришлось отнять, а вторую спасли, правда… уже почти не гнувшуюся. ("Пускай спасибо скажет, что жив остался, – буркнул дед, – на медведя я с ней не ходил, врать не буду, а пару волков порвала, как утят, люди знают…") Тракторист, оклемавшись, грозился судом, требовал денег, но были свидетели тому, как он сам лез на пса с топором, как сам нарывался, кроме того, деда в деревне уважали и любили, и дело заглохло.
Услыхав и поняв это, Ваня плакать перестал. Навсегда. На всю свою, пока что тридцати шестилетнюю жизнь – сколько себя помнил с тех пор, ни одной слезинки у него больше никогда из глаз не выкатилось. Даже когда случалось выть от горя и тоски, даже по пьяне, даже когда хотелось зареветь (когда погиб от пьяной пальбы местной партийной сволочи дед, а меньше, чем через год, угасла бабка), но… не получалось. С того самого дня – как-то не выходило. Вернее, не вытекало. И еще, с того дня больше не было никакого Ивушки. Бабка окликнула его, когда он стоял и уже сухими глазами смотрел на пустую собачью будку:
– Ивушка, пошли обедать, я уже на стол собрала.
Он подошел к ней, поднял голову, глянул на нее исподлобья своими голубыми, отливающими в синь глазами (бабкина гордость – в материнскую породу пошел) и раздельно выговаривая каждое слово, сказал:
– Меня зовут Иван. Если хочешь – Ваня.
– Ладно, Ив… Ваня, ладненько, – растеряно закивала бабка. А вечером, говорила деду:
– Как глазенками полоснул… Прям, как ножом провел… Ох, батькина порода, ох до добра не доведет… Ох, Хрусталевы, как бы беды не накли…
– Ох-ох, – передразнил дед. – Разохалась. Повзрослел парень, вот и все дела.
– Повзросле-ел, – всплеснула бабка руками. – Шесть лет мальчонке и – повзросле-ел… Совсем ты, старый, из ума выжил! Какое там…
– Повзрослел, – твердо оборвал её дед. – И хватит болтать. А шесть – не шесть, это уж как кому на роду написано, когда мужиком стать. Годков десять ему стукнет, на охоту возьму. Вот так.
Насчет охоты дед ошибся – не лежала у Вани душа к охоте, ни в десять, ни потом, когда стал уже Иваном, даже Иваном Васильевичем, – а насчет мужика…
Пожалуй, был прав.
* * *
Дверь в кабинет приоткрылась и в образовавшемся проеме появилась круглая добродушная физиономия дежурного, толстячка-капитана Ивлева. Она – физиономия, – обвела глазами стены и потолок, опасливо глянула на майора, увидела, что тот вроде как уже перебесился, и только тогда в комнату осторожно вошел весь капитан. Вошел и неуверенно затоптался у двери.
– Ну? Чего тебе? – вполне добродушно спросил Хрусталев. – Подмести хочешь, – он кивнул на разлетевшиеся по полу мелкие осколки пластмассового пингвинчика, – тогда веник неси.
– Ты это… – смущенно ухмыляясь, пробормотал толстяк, – к Рубцу зайди. Он как пришел, тебя спрашивал.
– Ладно, зайду, – кивнул Иван. – Всё?
– Ты… это… – потоптавшись еще немного, – сказал капитан. – Про Копчика с охранником слыхал?
– Нет, – вздохнул Иван, – я это…не слыхал. Я их, в смысле, это… вчера в морге видал.
– Ну и… это… Как? – в глазенках толстяка зажегся неподдельный интерес.
– Никак, – пожал плечами Хруст. – Хреновое это, скажу тебе, Ивлев, зрелище. Можно даже сказать, очень хреновое.
– Ага… – кивнул капитан. – Говорят, опять, как и тех… Ну, это… Мол, псы какие-то, или… Странно как-то, – он озабоченно поцокал языком, – ну, бабы, там, или просто лохи какие, но Копчик… Да еще с охранником – у них же стволы и вообще…
– Что – вообще? – поинтересовался Хруст.
– Ну, это… Копчику, что пса пристрелить, что отморозка какого, как плюнуть. Да и кто ж на него так прыгнуть мог? Он же в авторитете… Ну, конечно, под Солёным ходит… то есть, ходил… Они все под ним, но… Он же на своей земле-то, можно сказать, у себя дома и чтобы так…
– Я вижу, Ивлев, ты у нас полностью в теме, все под контролем держишь, – прищурился Хруст, – так я, пожалуй, скажу Рубцу, чтоб он на тебя эту восьмерку перевел, а? Ты быстренько всё и размотаешь – вот Рубец обрадуется. Ему уже сверху по макушке стучат, а Копчик помощничком какого-то депутатика был, так что еще и оттуда будут мозги полоскать. В общем, готовься, – заключил Иван. – Говоришь, спрашивал он меня? Вот как раз сейчас зайду и скажу.
– Ты это… – забеспокоился капитан. – Ты брось, слышишь… Ты у нас старший, вот и… Ты так не шути! Я вообще на трупы смотреть не могу, я… – Ивлев понизил голос и словно по секрету, доверительно сообщил. – Я их боюсь.
– А-а, – понимающе протянул Хруст, – ну тогда другое дело. Тогда, конечно, мы тебя беспокоить не будем. Тогда мы тебя побережем. Мы Серегу Ивлева напрягать по пустякам не станем. Так что иди, Серега, к себе в дежурку и служи Отечеству дальше.
– Ага, – облегченно засопел капитан, но не вышел, а продолжал топтаться у порога.
– Ну, что еще скажешь? – зевнув и потянувшись всем своим неслабым торсом, осведомился Хруст.
Ну и здоров же, зверюга, с каким-то опасливым восхищением подумал Серега Ивлев, потоптался еще пару секунд и пробормотал:
– Тут это… Тачка у отделения какая-то торчит. Уже почти час. Бэ-эм-вуха новенькая. Я так думаю, из братвы кто-то пожаловал. Чего им тут надо, как думаешь?
– Так ты бы пошел и спросил, – пожал плечами Хруст.
– Ну, я это… – замялся Ивлев. – Я с ними как-то…
– А-а, – кивнул Иван, – понятно. Стало быть, ты не только жмуриков боишься. У тебя, значит, и с живыми проблемы. Ну, тогда не знаю, что с тобой делать, Ивлев. Тогда может тебе на курсы кройки и шитья записаться, а?
– Да иди ты, – обиженно насупился капитан. – Я просто предупредить тебя хотел. Они ведь не по мою душу заявились, а скорее всего, к тебе, это… пожаловали. И сдается мне, это как-то со жмурами этими связано, ну, с Копчиком, в смысле. Он ведь все-таки авторитетный пацан… был. Вот они, наверное, и… это, ну, дергаются, чего-нибудь разузнать хотят, разнюхать, там… Как думаешь?
– Думаю, тебе, Ивлев, на повышение пора, – задумчиво протянул Хруст. – Очень ты грамотно фишку сечешь. Зришь, как говорится, прямо в корень.
Капитан несколько секунд переваривал услышанное (с толку сбивал серьезный и благожелательный тон Хруста, впрочем, он сбивал порой с толку и людей покруче Ивлева), потом обиженно шмыгнул носом, махнул рукой и убрался из кабинета.
Иван встал и подошел к окну. За хилыми деревцами на улице стояла черная Бэ-эм-вуха. Номеров отсюда не было видно, но Хрусту и не надо было их видеть – действительно пожаловали эти. И скорее всего, Ивлев был прав – пожаловали действительно "по его душу". Ну что ж… Может, это и кстати. Может, хоть какую-то зацепку они и подкинут. На определенном этапе их интересы могут сходиться с… Ладно, сначала Рубцов – все-таки начальство.
– Ну, что скажешь, Ваня? – спросил Василий Иванович Рубцов, тоскливо глядя в тяжелую стеклянную пепельницу и прекрасно зная, каков будет ответ.
– Ничего, Вася – пожал плечами Хруст. – Ничего пока не скажу.
– Так может, тебе Иван Василич, профессию поменять, как в том фильме?
– А раскрываемость тебе Ивлев давать будет? – равнодушно протянул Хруст. – Ну и дуб же ты тогда, Василий Иванович, как в том анекдоте.
– Раскрываемость? – Рубец картинно поднял брови. – Ах, раскрыва-а-емость, – он хлопнул ладонью себя по лбу. – Как же это я упустил. Какой же я и впрямь дуб, честное слово. Хрусталев же раскрыва-а-емость дает. А что восемь жмуров на земле за три недели, так это – тьфу, семечки. Это у Хрусталева – ничего, верно?
– Верно, – кивнул Хруст. – Ты закончил?
Рубцов вздохнул, посмотрел на Ивана и… Усмехнулся.
– Закончил.
– Тогда говори, зачем звал?
Рубцов опять вздохнул, помолчал и спросил:
– Копчика видел?
– Видел.
– С экспертами говорил?
– Говорил. Все та же муть.
– Укусы-собаки-маньяки?
– Что-то вроде.
– Копчика – собаки? Ты сам-то в это веришь?
– Нет, – подумав, сказал Хруст.
– Так что же? Или – кто? Ты сам-то хоть что-нибудь думаешь? Ну, хоть какие-то… А? – Рубцов почти заискивающе, почти робко заглянул Ивану в глаза.
– Ничего, – холодно и твердо сказал Хруст, не отводя глаз от взгляда полковника и не позволяя себе мигнуть. Он хорошо знал Рубцова, знал какой жесткий и въедливый мозг скрывается за этим робким взглядом и другими подобными приемами. И не мог позволить себе расслабиться, потому что стоило хоть чуть-чуть дать слабину, хоть на секунду… Он не ошибался.
Робкий взгляд Рубца мгновенно сменился очень жестким и холодным прищуром
(словно с добродушно забавной мордочки хомяка вдруг глянули глаза другого зверя… с о в с е м другого…)
и уже совсем другим тоном, другим голосом
(вилка о нож… или нож по стеклу…)
полковник спросил:
– Ты правда ничего мне не хочешь сказать? Или может быть… не можешь? Тогда хотя бы это скажи – я пойму.
(не только мозг, у него интуиция, как у… но все равно, будь ты хоть кем угодно, а… Не поймешь! Я с а м не понимаю…)
– Нечего говорить, Вася, – слегка разве руками Хруст. – Я бы рад, но… Нечего.
– Дятлов своих шерстил? – помолчав спросил полковник.
– Угу. Ноль.
– Не хотят, – оживился было Рубцов, – или?..
– У меня не захочешь, – усмехнулся Хруст. – Или. Не знают. Хотя мандражик имеет место, и не показушный, но… Просто не в теме.
– Значит, глухо – со всех сторон?
– Пока да.
– Что ж… Радует слово пока.
– А меня – не очень, – пробормотал Хруст. – Это я больше… из вежливости.
– Вот как? – задумчиво протянул Рубцов. – Странный ты какой-то стал, Ваня… Ну, ладно, даже если и есть что-то… ты все равно не скажешь. Пока – не скажешь, – он подмигнул Хрусту, полез в ящик стола и достал оттуда какой-то исписанный листок бумаги. – Вот тебе адресок одной конторы… НИИ какой-то сраный, в общем, не важно. Подъедешь, встретишься с одним человечком – он тебя к двум будет ждать. Мне этот адресок и человечка дали по очень большому… Ну, скажем, знакомству. Или, скажем, из большущей любезности. Понял?
– Нет, – честно сказал Хруст. – А что за человечек-то? И кто его тебе дал?
– Кто дал – это тебя не касается. Это не твоего ума дело, – с каким-то непонятным раздражением отмахнулся полковник. – А вот человечек… Это, Ваня, не простой человечек. Это…Если брать экспертов, так это – все экспертам эксперт. Так мне сказал тот… кто дал. И я ему верю. Понял меня?
– Понял. Так что мне ему сказать?
– А ты ему ничего не говори. Ты его послушай. Он без чинов особых, там, ихних, без званий, но… Если он не сможет ничего путного сказать, тогда пэ-пэ. Тогда можем всех академиков в жопу себе засунуть.
– Вот так? – с едва приметной усмешкой спросил Хруст.
– Вот так, – без тени усмешки, твердо сказал Рубцов. – Человечка этого зовут, – глянул в листок, – Шнеерзон Израиль Моисеевич. Мужик он, говорят, ершистый, с характером, так что ты уж поаккуратнее, – он подвинул листок к Ивану.
– Что ему можно говорить? – спросил Хруст, взяв листок со стола и сунув, не глядя, в нагрудный карман пиджака.
– Всё, – не раздумывая, сказал полковник, и заметив легкое удивление Хруста, твердо повторил, – всё. Даже то, что ты, может, мне сейчас не говоришь. Он уже в теме, на вскрытиях в морге не был, но все снимки у него, так что… Если уж согласился встретиться с опером, то может, хоть какая-то зацепка и появится.
– А что, он нас не любит? – полюбопытствовал Хруст. – Сидел?
– Да нет, – отмахнулся Рубцов, – просто он пустобрехством заниматься не станет, и раз уж согласился на встречу, то может, что-то там и углядел. Во всяком случае, – заключил он, – кроме этого у нас с тобой ничего по сути дела-то и нет. Так что, давай.
– Даю, – кивнул Хруст, встал и двинулся на выход.
– Постой, – окликнул его полковник.
Хруст остановился, развернулся, а полковник тоже встал, вышел из-за стола и подошел к нему почти вплотную.
– Вот еще что, Ваня, – негромко сказал он. – Мне тут намекнули… Словом, дали знать, что с тобой хочет встретиться кто-то от Соленого. Или сам Соленый. Так ты… – он замялся.
Хруст поднял бровь и восхищенно вытаращил глаза на Рубцова.
– Ну, и связи у вас, таищ полковник. Сам Соленый…
– Ты дурака-то не валяй, – строго, но все так же негромко оборвал его Рубцов. – Ты… Я тебе этого, кончено, не говорил, но ты, если подкатят они, не ершись, а… Встреться. Поболтай. Он знает, что ты никогда под него не ляжешь, так что…
– Ему тоже все фишки раскрыть? – осведомился Хруст.
– Ему ничего не надо раскрывать, тем более, что… Раскрывать-то нечего, – вздохнул полковник. – Зашевелился он, конечно из-за Копчика. Непонятки на его земле ему не нужны. Все, что знаешь ты, знает и он, так что ничего из тебя тянуть не будет, да и… Нечего тянуть. Но может статься, он знает что-то, чего ты не знаешь. Поэтому просто послушай. Тут ведь их интересы могут в чем-то и с нашими, того… Пересечься. Понял?
– Понял, – кивнул Хруст, и хотя Рубцов почти слово в слово озвучил его собственные недавние мысли, не смог подавить глухое раздражение. – На его, значит земле?
– Брось, – поморщился Рубцов, – ты не у начальства на ковре. И я тебе ничего не приказывал, я даже ничего тебе не говорил. Но… Ты все-таки поговори с ним, Иван. Может, что и…
– Ладно, – пожал плечами Хруст. – Только ты уж, Вася, скажи попросту: не поговори, а побазарь, или перетри – так оно правильней будет, верно? По понятиям… Разрешите идти, таищ полковник?
– Иди, Ваня, – махнул рукой Рубцов, – у меня без тебя заморочек – во, – он провел ребром ладони себе по шее, – Иди нах…
– Уже ушел, Вася, – кивнул Хруст.
И ушел.
2.
Вернувшись в свой кабинет, Хруст достал из ящика стола пачку сигарет и дешевую пластиковую зажигалку, закурил, подошел к окну и посмотрел на улицу. Бэ=эм-вуха стояла там же, где стояла, не подавая никаких признаков жизни. Но не пустая – Хруст это знал.
Он всегда чувствовал такие вещи – стоило кинуть беглый взгляд на любую, хоть сплошь затонированную тачку, или на любое окошко в любом доме (только недалеко, на нижних этажах), как он тут же чувствовал присутствие людей в данном закрытом пространстве. Или отсутствие.
(…И не только людей, вообще живых существ… и не только присутствие, но и то, к а к и е это существа…)
Пару раз это спасло ему если не жизнь, то… Ну, скажем, состояние здоровья. Хорошая способность – для опера. Полезное свойство, или умение, или… Хрен его знает, как это назвать – Хруст не особо задумывался над этим, просто относил к тому, что называют профессиональными навыками, только…
В глубине души он знал, что способность эта – отнюдь не результат его, так сказать, профессиональной деятельности, вообще не приобретенная, не выработанная, а жившая в нем всегда. Во всяком случае, столько, сколько он себя помнил. В детстве он вообще наивно полагал, что это есть у всех, но столкнувшись пару раз с удивленной реакцией сверстников, решил до поры до времени не показывать эту способность. Он подумал тогда, что это – взрослая способность, проявившаяся у него просто чуть раньше положенного, то есть, что он раньше повзрослел. Эта мысль была приятной, но… Пару раз он небрежно продемонстрировал свое умение
(… так он тогда это называл… так об этом думал…)
взрослым и… Опять столкнулся с удивлением. Даже с настороженным удивлением. И тогда он спрятал это куда-то поглубже в себя, решив доставать лишь по мере надобности и только для себя, пока…что-нибудь не подскажет ему, для чего это вообще нужно.
И "что-нибудь" – подсказало.
"Что-нибудь" оказалось его работой, которую он себе выбрал (а может, которая выбрала себе – его), которую, порой кроя на чем свет стоял, он любил, умел делать, и что важнее всего, уважал. Уважал, несмотря на все блядство, которое творилось вокруг – и вне, и внутри той системы, частью которой он стал. С этим блядством – на разных отрезках времени называемом по разному: то кумовством, то взяточничеством, то коррупцией, то беспределом, – усиленно и громко боролись. Боролись как раз те, кто это блядство организовывал и осуществлял, и это наверное было самым большим блядством, но… Это была "фишка", сданная в этой игре, и если ты хотел играть, то играть приходилось тем, что сдано. Как говорится, хочешь – играй, не хочешь – брось. Играть порой бывало муторно, противно до бешенства, но бросить… Сдаться без игры… Такого варианта для Хруста просто не существовало.