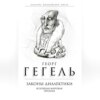Loe raamatut: «Философия истории»
Введение
Милостивые государи.
Темой этих лекций является философская всемирная история, т. е. не общие размышления о всемирной истории, которые мы вывели бы из нее и желали бы пояснить, приводя примеры, взятые из ее содержания, а сама всемирная история1. Для выяснения того, что такое философская всемирная история, я считаю необходимым прежде всего рассмотреть другие формы историографии. Вообще существуют три вида историографии:
a) первоначальная история,
b) рефлективная история,
c) философская история.
а) Что касается первой, то, чтобы тут же дать конкретный образ, я назову для примера имена Геродота, Фукидида и других подобных им историков. Эти историки описывали преимущественно протекавшие на их глазах деяния, события и состояния, причем сами они были проникнуты их духом и переносили в сферу духовных представлений то, что существовало вовне. Таким образом внешнее явление преобразуется во внутреннее представление. Подобно тому как поэт перерабатывает материал, данный ему в его ощущениях, чтобы выразить его в представлениях. Конечно эти первоначальные историки пользовались сообщениями и рассказами других (один человек не может видеть все), но лишь таким же образом, как и поэт пользуется, как ингредиентом, сложившимся языком, которому он обязан столь многим. Историки связывают воедино преходящие явления и увековечивают их в храме Мнемозины. К такой первоначальной истории не относятся легенды, народные песни, предания, так как все это еще неясные способы представления, свойственные непросвещенным народам. Мы же имеем здесь дело с такими народами, которые знали, что они собою представляли и чего они желали. Действительность, которую мы обозреваем или можем обозреть, следует признать более твердой почвой, чем то ускользнувшее прошлое, к которому относится возникновение легенд и поэтических произведений, уже не выражающих исторической жизни народов, достигших ясно выраженной индивидуальности.
Такие первоначальные историки преобразуют современные им события, деяния и состояния в систему представлений. Поэтому содержание таких исторических произведений не может быть очень обширно по своему внешнему объему (например исторические труды Геродота, Фукидида, Гвиччардини); то, что существует и живет в окружающей их среде, составляет их существенное содержание; образованность автора и культура, выражающаяся в тех фактах, излагая которые он создает свое произведение, дух автора и дух тех действий, о которых он повествует, тождественны. Он описывает то, в чем он более или менее принимал участие, или то, что он по крайней мере переживал. Он воспроизводит непродолжительные периоды, индивидуальные образы людей и происшествий; нарисованная им картина воспроизводит без рефлексии отдельные черты так, чтобы вызывать у потомков столь же определенное представление об изображенном, сколь определенно оно представлялось ему в воззрении или в наглядных повествованиях. Он не прибегает к рефлексии потому, что сам духовно сжился с излагаемым им предметом и еще не вышел за его пределы; если же он, как например Цезарь, принадлежит к числу полководцев или государственных деятелей, то именно его цели сами по себе являются историческими. Но если здесь говорится, что у такого историка нет рефлексии, а что выступают сами лица и народы, то не противоречат ли этому те речи, которые мы читаем например у Фукидида и о которых можно утверждать, что они наверно не были произнесены в такой форме? Однако речи являются действиями людей и притом такими действиями, которые имеют весьма существенное значение. Правда, люди часто говорят, что это были только речи, желая этим доказать их невинность. Такие речи представляют собой только болтовню, а болтовня обладает тем важным преимуществом, что она невинна. Но такие речи, с которыми один народ обращается к другому, или речи, с которыми люди обращаются к народу и к государям, являются существенными и неотъемлемыми составными частями истории. И если бы даже такие речи, как например речь Перикла, образованнейшего, чистейшего, благороднейшего государственного деятеля, были переработаны Фукидидом, то они все-таки не чужды Периклу. В таких речах эти люди высказывают максимы своего народа и свои личные взгляды, выражают понимание своих политических отношений и своей нравственной и духовной природы, те принципы, которыми они руководились, преследуя те или иные цели и применяя тот или иной образ действий. В речах, приписываемых историком этим людям, выражается не чуждое им сознание, а их собственная культура.
Таких историков, которых следует основательно изучать и внимательно читать и перечитывать тому, кто хочет понять, что пережили народы, и углубиться в их жизнь, – таких историков, у которых можно найти не только ученость, но глубокое и чистое наслаждение, не так много, как можно было бы думать: Геродот, отец, т. е. родоначальник истории, и Фукидид уже были упомянуты; оригинальной книгой является «Анабазис» Ксенофонта; «Комментарии» Цезаря составляют настоящий шедевр великого духа. В древности такие историки непременно должны были быть великими полководцами и государственными людьми; в средние века, за исключением епископов, стоявших в центре государственной деятельности, к их числу принадлежали монахи как наивные летописцы, которые были столь же изолированы, сколь вышеупомянутые государственные люди древности находились во взаимной связи. В новейшее время обстоятельства совершенно изменились. Наша образованность по существу дела воспринимает и тотчас же преобразует все события в повествования, для того чтобы о них составлялось определенное представление. У нас имеются превосходные, простые, определенные повествования, в особенности о военных событиях, и эти повествования можно поставить рядом с «Комментариями» Цезаря; что же касается богатства их содержания и указаний средств и условий, то они еще поучительнее. Сюда же относятся и французские мемуары. Часто они написаны остроумными людьми о незначительных событиях и нередко в них содержится много анекдотического, так что в основе их лежит довольно скудное содержание, но часто они оказываются подлинно мастерскими историческими произведениями, например мемуары кардинала де Ретца; в них открывается обширное историческое поле. В Германии редко встречаются такие мастера; Фридрих Великий (Histoire de mon temps) является славным исключением. В сущности такие люди должны занимать высокое положение. Лишь с высоты возможно хорошо обозревать предметы и замечать все, но этого нельзя сделать, если смотреть снизу вверх через небольшую щель.
b) Второй вид истории мы можем назвать рефлективным. Это такая история, изложение которой возвышается над современной эпохой не в отношении времени, а в отношении духа. В этом втором виде истории следует различить совершенно различные подвиды.
аа) Требуется написать обзор всей истории какого-нибудь народа или какой-нибудь страны или всего мира, одним словом, то, что мы называем всеобщей историей. При этом главной задачей является обработка исторического материала, к которому историк подходит со своим духом, отличающимся от духа содержания этого материала. В этом случае особенно важны те принципы, которые автор вырабатывает для себя отчасти относительно содержания и цели самих описываемых им действий и событий, отчасти относительно того способа, каким он хочет писать историю. У нас, немцев, проявляющиеся при этом рефлексия и рассудительность чрезвычайно разнообразны: каждый историк усвоил себе в этом отношении свою собственную манеру. Англичане и французы знают в общем, как следует писать историю: они более сообразуются с общим и национальным уровнем культуры; у нас же всякий стремится придумать что-нибудь особенное, и, вместо того чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю. Если этот первый подвид рефлективной истории ставит своей единственной целью изложить всю историю какой-нибудь страны, то он приближается к первому виду историографии. Такие компиляции (например история Ливия, Диодора Сицилийского, история Швейцарии Иоганна фон Мюллера) заслуживают большой похвалы, если они хорошо составлены. Конечно всего лучше, если историки приближаются к историкам первого рода и пишут столь наглядно, что у читателя может получиться впечатление, как будто современники и очевидцы излагают события. Но тот тон, который должен быть свойственен индивидууму, принадлежавшему к определенной культуре, часто модифицируется так, что он не соответствует описываемым эпохам, и тот дух, которым проникнут историк, оказывается иным, чем дух этих эпох. Например Ливий заставляет древних римских царей, консулов и полководцев произносить речи, которые были бы уместны лишь в устах искусного адвоката его эпохи, причем обнаруживается самый резкий контраст между этими речами и такими сохранившимися подлинными старинными сказаниями, как например басня Менения Агриппы. Тот же Ливий дает описания сражений, составленные так, как будто бы он был их очевидцем, хотя изображаемыми им чертами можно пользоваться для описания сражений всех эпох, причем опять-таки обнаруживается контраст между этою определенностью и теми бессвязностью и непоследовательностью, которыми часто страдает изложение важнейших обстоятельств других событий. Различие между таким компилятором и первоначальным историком можно лучше всего выяснить, сравнив сохранившиеся отделы исторического труда Полибия с тем, как его использует Ливий, делая из него выписки и сокращения. Иоганн фон Мюллер, стремясь дать верное изображение описываемой эпохи, придал своей истории деревянный, напыщенный, педантический характер. Читать старого Чуди (Tschudy) гораздо приятней: у него все наивнее и естественнее, чем в истории, написанной таким искусственным, напыщенным, архаическим стилем.
Такая история, которая задается целью дать обзор продолжительных периодов или всей всемирной истории, должна в самом деле отказаться от индивидуального изображения действительности и прибегать к сокращенному изложению путем применения абстракций, – это сокращение производится не только в том смысле, что пропускаются события и действия, но и в том смысле, что мысль резюмирует богатое содержание. Сражение, великая победа, осада перестают быть самими собой, но резюмируются в простых определениях. Когда Ливий повествует о войнах с вольсками, он иногда говорит очень кратко: в этом году была война с вольсками.
bb) Затем вторым подвидом рефлективной истории является прагматическая история. Когда мы имеем дело с прошлым и занимаемся далеким от нас миром, духу открывается такое настоящее, которое, являясь собственною деятельностью духа, вознаграждает его за усилия. События различны, но общее и внутреннее в них, их связь едины. Это снимает прошлое и делает события современными. Таким образом прагматические рефлексии при всей их абстрактности в самом деле являются современностью, и благодаря им повествования о прошлом наполняются жизнью сегодняшнего дня. От духа самого автора зависит, будут ли такие рефлексии в самом деле интересны и жизненны. Здесь следует в особенности упомянуть о моральных рефлексиях и о моральном поучении, которое следует извлекать из истории и для которого история часто излагалась. Хотя можно сказать, что примеры хорошего возвышают душу и что их следует приводить при нравственном воспитании детей, чтобы внушить им превосходные правила, однако судьбы народов и государств, их интересы, состояние и переживаемые ими осложнения являются иною областью. Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху французской революции. Нет ничего более различного, как природа этих народов и природа нашего времени. Ставя себе такие моральные цели, Иоганн фон Мюллер имел в виду преподнести в своей «Всеобщей истории» и в своей «Истории Швейцарии» такие поучения для государей, правительств и народов, в особенности для швейцарского народа (он составил особый сборник поучений и размышлений, и в своей переписке он указывает точное число размышлений, формулированных им в течение недели), но эти поучения нельзя считать лучшим из того, что им сделано. Лишь основательный, свободный и всеохватывающий взгляд на положение дел и понимание глубокого смысла идеи (например в «Духе законов» у Монтескье) могут сделать размышления истинными и интересными. Поэтому одна рефлективная история сменяет другую: материалы доступны каждому писателю; каждый легко может считать себя способным привести их в порядок, обработать их и выдать свой дух за дух времени, в них проявляющийся. Когда такие рефлективные истории приедались, часто возвращались к такому описанию какого-нибудь события, при котором исходили из всех точек зрения. Такие описания конечно имеют некоторую ценность, но в большинстве случаев они представляют лишь материал. Мы, немцы, довольствуемся этим, французы, наоборот, остроумно создают для себя настоящее и относят прошлое к современному состоянию.
cc) Третьим подвидом рефлективной истории является критическая история: о ней следует упомянуть, так как именно таким образом преимущественно трактуется история в наше время в Германии. Здесь излагается не сама история, а история истории, дается оценка исторических повествований и исследуются их истинность и достоверность. То необычайное, что заключается, а главное – должно заключаться в этом, состоит в проницательности писателя, который что-то выторговывает у повествований, а не в предметах. Французы дали в этом отношении много основательных и продуманных трудов. Однако они не хотели выдавать такой критический метод за исторический, а выражали свои оценки в форме критических статей. У нас так называемая высшая критика завладела как филологией вообще, так и историческими книгами. Эта высшая критика узаконяет допущение всевозможных неисторических порождений праздного воображения. Другим способом находить в истории современность является тот способ, когда исторические факты заменяют субъективными выдумками, и притом такими выдумками, которые признаются тем более удачными, чем они смелее, т. е. чем ничтожнее те мелкие обстоятельства, на которых они основываются, и чем более они противоречат важнейшим фактам истории.
dd) Наконец последним подвидом рефлективной истории является такая история, которая тут же выявляет себя как нечто частичное. Хотя и она прибегает к абстракции, однако она составляет переход к философской всемирной истории, так как она руководится общими точками зрения (например история искусства, права, религии). В наше время этот вид истории в понятиях (Begriffsgeschichte) более разрабатывался и выдвигался на первый план. Такие отрасли находятся в связи со всей историей народа, и дело только в том, выявляется ли связь целого или этой связи ищут лишь во внешних отношениях. В последнем случае они представляются совершенно случайными частностями в жизни народов. Если же рефлективная история дошла до того, что она стремится к установлению общих точек зрения, то следует заметить, что, если такие точки зрения в самом деле истинны, они являются не только внешнею нитью, внешним порядком, но и внутренней душой, направляющей сами события и факты. Ведь подобно водителю душ, Меркурию, идея воистину является водителем народов и мира, и именно дух, его разумная и необходимая воля, руководил и руководит ходом мировых событий: изучить дух, поскольку ему при надлежит эта руководящая роль, является здесь нашею целью. Это приводит к
с) третьему виду истории, а именно к философской истории. Если нам не нужно было давать пояснения относительно обоих вышеупомянутых видов истории, так как их понятие ясно само по себе, то относительно этого последнего вида истории дело обстоит иначе, так как она по-видимому в самом деле нуждается в разъяснении или в оправдании. Всеобщим однако является то, что философия истории означает не что иное, как мыслящее рассмотрение ее. Но мы никак не можем обойтись без мышления; благодаря мышлению мы отличаемся от животного и в ощущении, в знании и в познании, в стремлениях и в воле, поскольку они являются человеческими, содержится мышление. Но здесь эта ссылка на мышление может показаться недостаточной, так как в истории мышление подчинено данному и сущему, основано на нем и руководится им, философии же, наоборот, приписываются самостоятельные мысли, которые умозрение порождает из самого себя, не принимая в расчет того, что есть. Если бы философия подходила к истории с такими мыслями, то она рассматривала бы ее как материал, не оставляла бы ее в том виде, как она есть, но располагала бы ее соответственно мысли, а следовательно, как говорят, конструировала бы ее a priori. Но история должна лишь охватывать то, что есть и было, события и деяния, и она тем ближе к истине, чем более она придерживается данного; поскольку задача философии как будто противоречит этому стремлению, здесь следует выяснить это противоречие и опровергнуть вытекающее отсюда обвинение против умозрения. При этом мы не намерены заниматься исправлением тех бесконечно многих и специальных неправильных взглядов на цель, интересы и способы рассмотрения истории и на ее отношение к философии, которые очень распространены или постоянно выдаются за нечто новое.
Но единственною мыслью, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум господствует в мире, так что следовательно и всемирно-исторический процесс совершался разумно. Это убеждение и понимание являются предпосылкой по отношению к истории как к таковой вообще; в самой философии это не является предпосылкой. Путем умозрительного познания в ней доказывается, что разум – здесь мы можем продолжать пользоваться этим выражением, не выясняя точнее его отношения к богу – является как субстанцией, так и бесконечною мощью; он является для самого себя бесконечным содержанием всей природной и духовной жизни, равно как и бесконечной формой, – проявлением этого ее содержания. Разум есть субстанция, а именно – то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие; разум есть бесконечная мощь, потому что разум не настолько бессилен, чтобы ограничиваться идеалом, долженствованием и существовать как нечто особенное, лишь вне действительности, неведомо где, в головах некоторых людей. Разум есть бесконечное содержание, вся суть и истина, и он является для самого себя тем предметом, на обработку которого направлена его деятельность, потому что он не нуждается, подобно конечной деятельности, в условиях внешнего материала данных средств, из которых он извлекал бы содержание и объекты для своей деятельности; он берет все это из самого себя и сам является для себя тем материалом, который он перерабатывает; подобно тому как он является для себя лишь своей собственной предпосылкой и абсолютной конечной целью, так и сам он является и осуществлением этой абсолютной конечной цели, и ее воплощением, благодаря которому совершается ее переход из внутреннего мира в явление не только мира природы, но и духовного мира, а именно: во всемирной истории. Но именно в философии доказывается и следовательно здесь предполагается доказанным, что такая идея является истинным, вечным, безусловно могущественным началом, что она раскрывается в мире и что в мире не раскрывается ничего кроме нее, ее славы и величия.
К тем из вас, господа, которые еще не знают философии, я мог бы обратиться с просьбой приступить к слушанию этих лекций по всемирной истории с верой в разум и со стремлением и жаждой познать его; и конечно при изучении наук следует предполагать как субъективную потребность стремление к разумному пониманию и познанию, а не только к накоплению знаний. Ведь если к рассмотрению всемирной истории не приступают с уже определившейся мыслью, с познанием разума, то следует по крайней мере твердо и непоколебимо верить, что во всемирной истории есть разум и что мир разумности и самосознательной воли не предоставлен случаю, но должен обнаружиться при свете знающей себя идеи. В действительности же мне не нужно заранее требовать такой веры. То, что я предварительно сказал и еще скажу, следует принимать и по отношению к нашей науке не за предпосылку, а за обзор целого, за результат того исследования, которым мы займемся, – за такой результат, который известен мне, потому что я уже знаю целое. Итак, лишь из рассмотрения самой всемирной истории должно выясниться, что ее ход был разумен, что она являлась разумным, необходимым обнаружением мирового духа, – того духа, природа которого, правда, всегда одна и та же, но который проявляет эту свою единую природу в мировом наличном бытии. Как уже было сказано, таков должен быть результат истории. Но здесь мы должны рассматривать историю в том виде, как она существует: мы должны производить наше исследование исторически, эмпирически; между прочим мы не должны дать обмануть себя историкам-специалистам, потому что они, особенно пользующиеся значительным авторитетом немецкие историки, делают то, в чем они упрекают философов, а именно – допускают априорные вымыслы в истории. Например очень распространен вымысел, будто существовал первый и древнейший народ, которому сам бог дал совершенное понимание и мудрость, полное знание всех законов природы и духовной истины, или что существовали те или иные народы жрецов, или, чтобы упомянуть нечто специальное, что существовал римский эпос, из которого римские историки почерпнули древнейшую историю, и т. д. Подобные авторитеты мы охотно уступаем остроумным историкам-специалистам, которых у нас немало. Итак, мы можем формулировать как первое условие необходимость верного понимания того, что является историческим; но такие общие выражения, как «верное» и «понимание», двусмысленны. Даже обыкновенный заурядный историк, который может быть думает и утверждает, что он пассивно воспринимает и доверяется лишь данному, и тот не является пассивным в своем мышлении, а привносит свои категории и рассматривает при их посредстве данное; в особенности разум должен не бездействовать, а размышлять, когда дело идет о всем том, что должно быть научным; кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга. Однако различные роды размышления, различные точки зрения и оценки фактов в отношении их важности и неважности являются следующей по порядку категорией и сюда не относятся.
Я напомню лишь о двух формах и точках зрения, имеющих отношение к общему убеждению в том, что разум господствовал и господствует в мире, а также и во всемирной истории. Это дает нам повод в то же время коснуться главного пункта, представляющегося затруднительным, и указать на то, о чем нам еще следует упомянуть.
А. Во-первых, я напомню о том историческом факте, что грек Анаксагор впервые сказал, что νους, ум вообще или Разум, правит миром, но не ум как самосознательный разум, не дух как таковой, – мы должны тщательно различать то и другое. Движение солнечной системы происходит по неизменным законам: эти законы суть ее разум, но ни солнце, ни планеты, которые вращаются вокруг него по этим законам, не сознают их. Таким образом мысль, что в природе есть разум, что в ней неизменно господствуют общие законы, не поражает нас, мы привыкли к этому и не придаем этому особого значения; поэтому я и упомянул о вышеприведенном историческом факте, чтобы обратить внимание на следующее: то, что нам может казаться тривиальным, не всегда, как свидетельствует история, существовало в мире; напротив того, такая мысль составляет эпоху в истории человеческого духа. Аристотель говорит об Анаксагоре как о философе, впервые провозгласившем эту мысль, что он явился как бы единственным трезвым среди пьяных. Сократ воспринял эту мысль Анаксагора, и она прежде всего стала господствующей в философии за исключением философии Эпикура, который приписывал все события случаю. «Я обрадовался этому, – говорит Сократ (в диалоге Платона), – и надеялся, что нашел такого учителя, который объяснил бы мне природу согласно разуму, указал бы в особом его особую цель, в целом – общую цель; мне очень не хотелось расстаться с этой надеждой. Но как велико было мое разочарование, когда я, тщательно изучив сочинения самого Анаксагора, нашел, что он указывает лишь на такие внешние причины, как воздух, эфир, воду и т. п., вместо того чтобы говорить о разуме». Ясно, что Сократ признает неудовлетворительным не самый принцип Анаксагора, а то, что этот принцип недостаточно применялся к конкретной природе, что она не понималась и не объяснялась на основании этого принципа, что вообще этот принцип оставался отвлеченным, что природа не рассматривалась как развитие этого принципа, как организация, проистекающая из разума. Здесь я с самого начала обращаю внимание на следующее различие: остается ли определение, принцип, истина лишь чем-то отвлеченным, или же совершается переход к более точному определению и к конкретному развитию. Это различие имеет решающее значение, и между прочим мы обратим главное внимание именно на это обстоятельство, когда, в конце нашего изложения всемирной истории, мы будем рассматривать новейшее политическое состояние.
Далее, выражение той мысли, что разум господствует в мире, находится в связи с ее дальнейшим применением, которое нам хорошо известно, а именно в форме той религиозной истины, что мир не предоставлен случаю и внешним случайным причинам, но управляется провидением. Я уже заявил, что я не хочу требовать от вас веры в вышеупомянутый принцип, но я мог бы апеллировать к вашей вере в него в этой религиозной форме, если бы вообще особый характер науки философии дозволял, чтобы допускались предпосылки, или, подходя к этому вопросу с другой стороны, я должен указать, что наука, которую мы хотим излагать, сама должна сперва доказать если не истинность, то хотя бы правильность вышеупомянутого принципа. Но та истина, что провидение, и притом божественное провидение, управляет мировыми событиями, соответствует вышеупомянутому принципу, так как божественное провидение является премудростью по своему бесконечному могуществу, осуществляющему его цель, т. е. абсолютную, разумную, конечную цель мира; разум есть совершенно свободно определяющее само себя мышление. Однако далее, и различие и даже противоположность этой веры и нашего принципа обнаруживаются таким же образом, как и смысл требования Сократа по отношению к принципу Анаксагора. Ведь вышеупомянутая вера так же неопределенна; она есть то, что называют верой в провидение вообще, и она не достигает определенности, не применяется к целому – к всеобъемлющему ходу всемирной истории. Но объяснить историю значит обнаружить страсти людей, их гений, их действующие силы, и эту определенность провидения обыкновенно называют его планом. Но ведь говорят, что этот план скрыт от нас и что было бы дерзостью, если бы мы пожелали познать его. Неведение Анаксагора о том, как ум проявляется в действительности, было наивно, сознание мысли еще не пошло далее ни у него, ни вообще в Греции; он еще не мог применять свой общий принцип к конкретному, познать конкретное, исходя из общего принципа, и лишь Сократ сделал шаг вперед в понимании единства конкретного с общим. Итак, Анаксагор не полемизировал против подобного применения; но вышеупомянутая вера в провидение враждебно относится по крайней мере к применению этого принципа в большом масштабе или к выяснению плана провидения. Ведь это иногда признается в особенных обстоятельствах, когда набожные люди усматривают в отдельных событиях не только нечто случайное, но и соизволение божие, когда например индивидууму, находящемуся в большом затруднении, неожиданно является помощь в беде; но сами эти цели являются лишь ограниченными, лишь частными целями этого индивидуума. Но во всемирной истории мы имеем дело с такими индивидуумами, которые являются народами, с такими целыми, которые являются государствами; следовательно мы не можем ограничиться вышеупомянутой, так сказать, мелочной верой в провидение и лишь отвлеченной, неопределенной верой, которая хочет дойти лишь до того общего принципа, что есть провидение, а не до более определенных его действий. Напротив того, мы должны серьезно заняться выяснением путей провидения, применяемых им средств и его проявлениями в истории, и мы должны относить их к вышеупомянутому общему принципу. Но, упомянув о выяснении плана божественного провидения вообще, я напомнил о вопросе, имеющем первостепенное значение в наше время, а именно о возможности познать бога или, скорее, – так как это перестало быть вопросом, – я напомнил об обратившемся в предрассудок учении, согласно которому невозможно познать бога. В полном противоречии с тем, что в священном писании предписывается как высший долг, не только любить бога, но и познавать его, теперь преобладает отрицание того, что говорится в том же Писании, а именно, что дух вводит в истину, что он познает все предметы и даже проникает в глубины божества. Утверждение, что божественная сущность находится по ту сторону нашего познания и человеческих дел, удобно в том отношении, что благодаря этому предположению можно довольствоваться своими собственными представлениями. Этим самым освобождаются от необходимости ставить свое познание в связь с божественным и истинным; напротив того, тогда суетность и субъективное чувство находят для себя полное оправдание; и набожное смирение, отклоняя от себя познание бога, вполне сознает, что этим оно поощряет свой произвол и суетность. Поэтому я не счел нужным умолчать о том, что наш принцип, согласно которому разум правит и правил миром, находится в связи с вопросом о возможности познания бога. Это сделано не для того, чтобы отвести подозрение в том, что философия как будто стыдится или должна стыдиться напоминать о религиозных истинах и что она уклоняется от них вследствие того, что у нее пред ними, так сказать, совесть нечиста, – наоборот, в новейшие времена дело зашло так далеко, что философия должна защищать религиозное содержание от некоторых видов теологии. В христианской религии бог открылся, т. е. он дал человеку возможность узнать, что он такое, так что он уже не является скрытым, тайным; вместе с этой возможностью познавать бога на нас возлагается и обязанность делать это. Бог хочет, чтобы его детьми были не бесчувственные и пустоголовые люди, а такие, которые, будучи сами по себе нищими духом, богаты познанием его и которые больше всего ценят только это познание бога. Развитие мыслящего духа, исходным пунктом которого явилось это откровение божественной сущности, должно наконец достигнуть того, чтобы и мысль постигла то, что прежде всего было открыто чувствующему и представляющему духу; пора наконец понять и то богатое произведение творческого разума, которым является всемирная история. Одно время существовала мода удивляться премудрости божьей в животных, растениях, в судьбах отдельных лиц. Если допускают, что провидение открывается в таких предметах и материях, то почему же ему не открываться и во всемирной истории? Этот предмет кажется слишком великим. Но божественная премудрость, разум, является одним и тем же в великом и малом, и мы не должны считать бога слишком слабым, для того чтобы применять свою премудрость к великому. Наше познание стремится к пониманию того, что цели вечной премудрости осуществлялись как в сфере природы, так и в сфере действительного и деятельного в мире духа. В этом отношении наше рассмотрение является теодицеей, оправданием бога, которое Лейбниц старался выразить на свой лад метафизически в еще не определенных абстрактных категориях, так, чтобы благодаря этому стало понятно зло в мире и чтобы было достигнуто примирение мыслящего духа со злом. В самом деле, нигде не представляется большей надобности в таком примиряющем познании, как во всемирной истории. Это примирение может быть достигнуто лишь путем познания того положительного, в котором вышеупомянутое отрицательное исчезает, становясь чем-то подчиненным и, будучи преодолено отчасти благодаря сознанию того, чтò в действительности оказывается конечною целью мира, отчасти благодаря сознанию того, что эта конечная цель осуществлялась в мире и что в конце концов зло не отстояло своего значения наряду с этою конечною целью мира. Но для этого еще недостаточно одной веры в νους и в провидение. Разум, о котором было сказано, что он правит миром, есть столь же неопределенное слово, как и провидение, – о разуме всегда говорят, не будучи однако в состоянии указать, в чем именно заключается его определение, его содержание, по которому мы можем судить, разумно ли что-нибудь или неразумно. Только разум, взятый в его определении, есть суть дела; остальное, если также ограничиваться рассуждениями о разуме вообще, лишь слова. После этих указаний мы переходим ко второй точке зрения, которую мы желаем рассмотреть в этом введении.